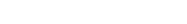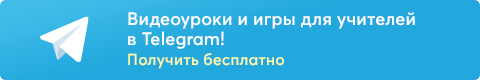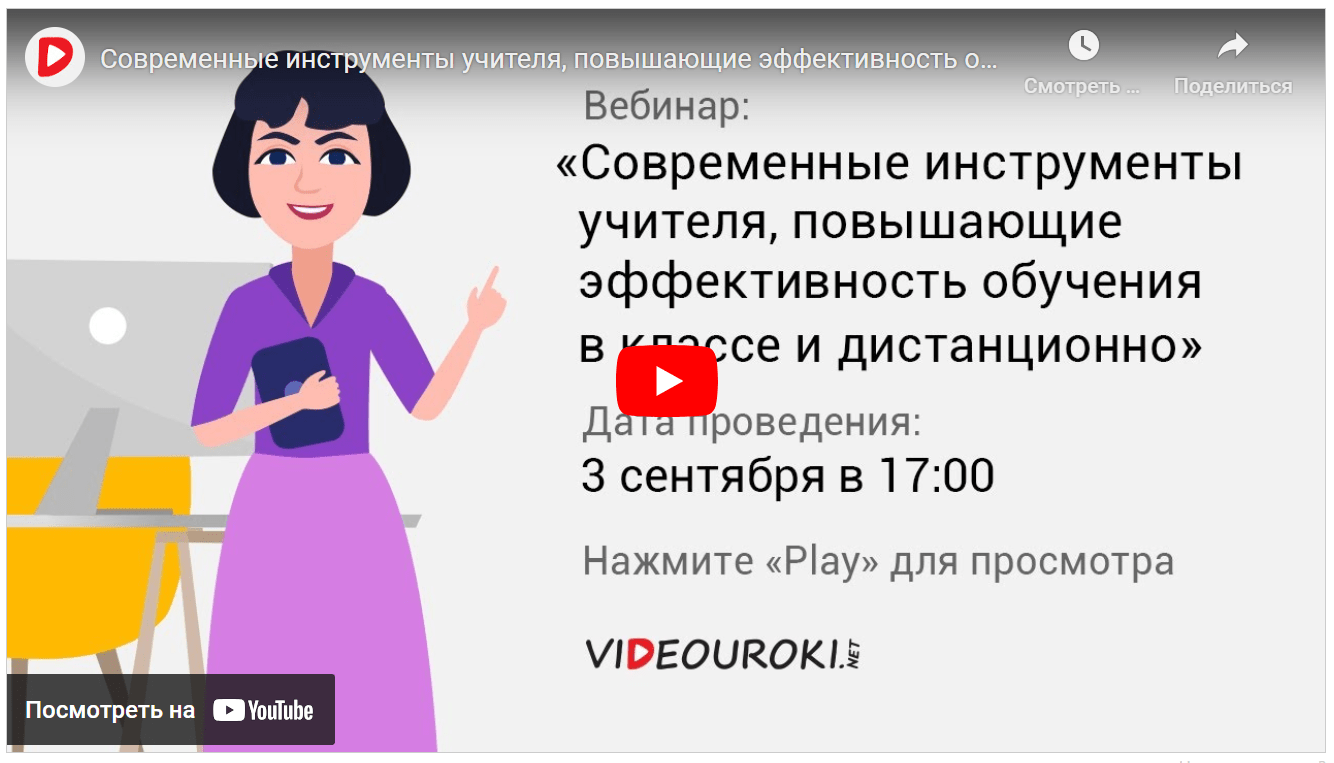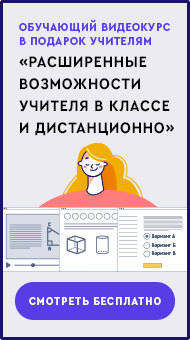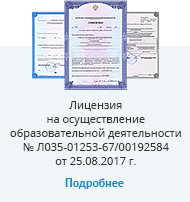СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ
Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно
Скидки до 50 % на комплекты
только до
Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой
Организационный момент
Проверка знаний
Объяснение материала
Закрепление изученного
Итоги урока

Тексты для конкурса "Живая классика"
Подборка текстов для участия в конкурсе "Живая классика" для 5-10 классов. На конкурсе учащиеся занимали призовые места.
Просмотр содержимого документа
«Тексты для конкурса "Живая классика"»
Иван Тургенев. БУТЫЛКА
Давеча на улице какой-то молодой парнишка бутылку разбил.
Чегой-то он нёс. Я не знаю. Керосин или бензин. Или, может быть, лимонад. Одним словом, какой-то прохладительный напиток. Время жаркое. Пить хочется.
Так вот, шёл этот парнишка, зазевался и трюхнул бутылку на тротуар.
И такая, знаете, серость. Нет того, чтобы ногой осколки с тротуара стряхнуть. Нет! Разбил, чёрт такой, и пошёл дальше. А другие прохожие так, значит, и ходи по этим осколкам. Очень мило.
Присел я тогда нарочно на трубу у ворот, гляжу, что дальше будет.
Вижу — народ ходит по стёклам. Чертыхается, но ходит. И такая, знаете, серость. Ни одного человека не находится общественную повинность исполнить.
Ну что стоит? Ну взял бы остановился на пару секунд и стряхнул бы осколки с тротуара той же фуражкой. Так нет, идут мимо.
«Нет, думаю, милые! Не понимаем мы ещё общественных заданий. Прём по стёклам».
А тут ещё, вижу, кой-какие ребята остановились.
— Эх, говорят, жаль, что босых нынче мало. А то, говорят, вот бы здорово напороться можно.
И вдруг идёт человек.
Совершенно простого, пролетарского вида человек.
Останавливается этот человек вокруг этой битой бутылки. Качает своей милой головой. Кряхтя, нагибается и газетиной сметает осколки в сторону.
«Вот, думаю, здорово! Зря горевал. Не остыло ещё сознание в массах».
И вдруг подходит до этого серого, простого человека милиционер и его ругает:
— Ты что ж это, говорит, куриная голова? Я тебе приказал унести осколки, а ты в сторону сыплешь? Раз ты дворник этого дома, то должон свой район освобождать от своих лишних стёкол.
Дворник, бубня что-то себе под нос, ушёл во двор и через минуту снова явился с метлой и жестяной лопаткой. И начал прибирать.
А я долго ещё, пока меня не прогнали, сидел на тумбе и думал о всякой ерунде.
А знаете, пожалуй, самое удивительное в этой истории то, что милиционер велел прибрать стёкла.
Марина Цветаева
"Повесть о Сонечке "монолог
- Ах, Марина! Как я люблю - любить! Как я безумно люблю - сама любить! С утра, нет, до утра,
в то самое до-утро - еще спать и уже знать, что опять.. . Вы когда-нибудь забываете, когда
любите - что любите? Я - никогда. Это как зубная боль - только наоборот, наоборотная зубная
боль, только там ноет, а здесь - и слова нет. (Подумав: поёт? ) Ну, как сахар обратное соли,
но той же силы. Ах, Марина! Марина! Марина! Какие они дикие дураки. (Я, все же изумленная: -
Кто? ) - Да те, кто не любят, сами не любят, точно в том дело, чтобы тебя любили. Я не
говорю.. . конечно.. . -устаешь - как в стену. Но Вы знаете, Марина (таинственно) , нет такой
стены, которую бы я не пробила! Ведь и Юрочка.. . минуточками.. . у него почти любящие глаза!
Но у него - у меня такое чувство - нет сил сказать это, ему легче гору поднять, чем сказать
это слово. Потому что ему нечем его поддержать, а у меня за горою - еще гора, и еще гора, и
еще гора.. . -целые Гималаи любви, Марина! Вы замечаете, Марина, как все они, даже самые
целующие, даже самые как будто любящие, боятся сказать это слово, как они его никогда не
говорят? ! Мне один объяснял, что это.. . грубо.. . (фыркает).. . отстало, что: зачем слова,
когда - дела? (то есть поцелуи и так далее) . А я ему - ?Э-э! нет! Дело еще ничего не
доказывает, а слово - всё?. Мне ведь только этого от человека нужно: люблю, и больше ничего,
пусть потом что угодно делают, как угодно не любят, я делам не поверю, потому что слово -
было. Я только этим словом кормилась, Марина, потому так и отощала.
О, какие они скупые, расчетливые, опасливые, Марина! Мне всегда хочется сказать: - Ты только
- скажи. Я проверять - не буду. Но не говорят, потому что думают, что это - жениться,
связаться, не развязаться. Если я первым скажу, то никогда уже первым не смогу уйти. (Они и
вторым не говорят, Марина, никоторым. ) Точно со мной можно не-первому уйти!
Марина! Я - в жизни! - не уходила первая. И в жизни - сколько мне ее еще Бог отпустит -
первая не уйду. Я просто не могу. Я всегда жду, чтобы другой ушел, все делаю, чтобы другой
ушел, потому что мне первой уйти - легче перейти через собственный труп. (Какое страшное
слово. Совсем мертвое. Ах, поняла: это тот мертвый, которого никто никогда не любил. Но для
меня и такого мертвого нет, Марина! ) Я и внутри себя никогда не уходила первая. Никогда
первая не переставала любить. Всегда - до последней возможности, до самой последней капельки
- как когда в детстве пьешь. И уж жарко от пустого стакана - а все еще тянешь, и только собственный пар!
Ах, знаете, вы будете смеяться - это была совсем короткая встреча - в одном турне - неважно,
кто - совсем молодой - и я безумно в него влюбилась, потому что он все вечера садился в
первый ряд - и бедно одетый, Марина! не по деньгам садился, а по глазам, и на третий вечер
так на меня смотрел, что - либо глаза выскочат, либо сам - вскочит на сцену. (Говорю,
двигаюсь, а сама все кошусь: ну, как? нет, еще сидит. ) Только это нужно понять! Потому что
это не был обычный влюбленный мужской едящий взгляд (он был почти мальчик) - это был пьющий
взгляд, Марина, он глядел как завороженный, точно я его каждым словом и движением - как на
нитке - как на канате - притягиваю, наматываю - это чувство должны знать русалки - и еще
скрипачи, верней смычки - и реки.. . И пожары, Марина!. . Что вот-вот вскочит в меня - как в
костер. Я просто не знаю, как доиграла. Потому что у меня, Марина, все время было чувство,
что в него, в эти глаза - оступлюсь.
В.Голявкин. Как мы в трубу лазали
Большущая труба валялась на дворе, и мы на неё с Вовкой сели. Мы посидели на этой трубе, а потом я сказал:
– Давай-ка в трубу полезем. В один конец влезем, а выйдем с другого. Кто быстрей вылезет.
Вовка сказал:
– А вдруг мы там задохнёмся.
– В трубе два окошка, сказал я, как в комнате. Ты же в комнате дышишь?
Вовка сказал:
– Какая же это комната. Раз это труба. – Он всегда спорит.
Я полез первым, а Вовка считал. Он досчитал до тринадцати, когда я вылез.
– А ну-ка я, – сказал Вовка.
Он полез в трубу, а я считал. Я досчитал до шестнадцати.
– Ты быстро считаешь, – сказал он, – а ну-ка ещё! И он снова полез в трубу.
Я сосчитал до пятнадцати.
– Совсем там не душно, – сказал он, – там очень прохладно.
Потом к нам подошёл Петька Ящиков.
– А мы, – говорю, – в трубу лазаем! Я на счёте тринадцать вылез, а он на пятнадцати.
– А ну-ка я, – сказал Петя.
И он тоже полез в трубу. Он вылез на восемнадцати. Мы стали смеяться. Он снова полез. Вылез он очень потный.
– Ну как? – спросил он.
– Извини, – сказал я, – мы сейчас не считали.
– Что же, значит, я даром полз? Он обиделся, но полез снова.
Я сосчитал до шестнадцати.
– Ну вот, – сказал он, – постепенно получится! – И он снова полез в трубу.
В этот раз он там долго полз. Чуть не до двадцати. Он разозлился, хотел опять лезть, но я сказал:
– Дай другим полезть, – оттолкнул его и полез сам. Я набил себе шишку и долго полз. Мне было очень больно.
Я вылез на счёте тридцать.
– Мы думали, что ты пропал, – сказал Петя.
Потом полез Вовка. Я уже до сорока сосчитал, а он всё не вылезает. Гляжу в трубу – там темно. И другого конца не видно.
Вдруг он вылезает. С того конца, в который влез. Но вылез он головой вперёд. А не ногами. Вот что нас удивило!
– Ух, – говорит Вовка, – чуть не застрял Как это ты повернулся там?
– С трудом, – говорит Вовка, – чуть не застрял.
Мы здорово удивились!
Тут подошёл Мишка Меньшиков.
– Чем вы тут, – говорит, – занимаетесь?
– Да вот, – говорю, – в трубу лазаем. Хочешь полезть?
– Нет, – говорит, – не хочу. Зачем мне туда лазать?
– А мы, – говорю, – туда лазаем.
– Это видно, – он говорит.
– Чего видно?
– Что вы туда лазали.
Глядим мы друг на друга. И вправду видно. Мы все как есть в красной ржавчине. Все как будто заржавели. Просто жуть!
– Ну, я пошёл, – говорит Мишка Меньшиков. И он пошёл.
А мы больше в трубу не полезли. Хотя мы уже все были ржавые. Нам всё равно уже было. Лезть можно было. Но мы всё равно не полезли.
Любовь Воронкова «Девочка из города»
Фронт был далеко от села Нечаева. Нечаевские колхозники не слышали грохота орудий, не видели, как бьются в небе самолёты и как полыхает по ночам зарево пожаров там, где враг проходит по русской земле. Но оттуда, где был фронт, шли через Нечаево беженцы. Они тащили салазки с узелками, горбились под тяжестью сумок и мешков. Цепляясь за платье матерей, шли и вязли в снегу ребятишки. Останавливались, грелись по избам бездомные люди и шли дальше.
Однажды в сумерки, когда тень от старой берёзы протянулась до самой житницы, в избу к Шалихиным постучались.
Рыжеватая проворная девочка Таиска бросилась к боковому окну, уткнулась носом в проталину, и обе её косички весело задрались кверху.
– Две тётеньки! – закричала она. – Одна молодая, в шарфе! А другая совсем старушка, с палочкой! И ещё… глядите – девчонка!
Груша, старшая Таискина сестра, отложила чулок, который вязала, и тоже подошла к окну.
– И правда девчонка. В синем капоре…
– Так идите же откройте, – сказала мать. – Чего ждёте-то?
Груша толкнула Таиску:
– Ступай, что же ты! Всё старшие должны?
Таиска побежала открывать дверь. Люди вошли, и в избе запахло снегом и морозом.
Пока мать разговаривала с женщинами, пока спрашивала, откуда они, да куда идут, да где немцы и где фронт, Груша и Таиска разглядывали девочку.
– Гляди-ка, в ботиках!
– А чулок рваный!
– Гляди, в сумку свою как вцепилась, даже пальцы не разжимает. Чего у ней там?
– А ты спроси.
– А ты сама спроси.
В это время явился с улицы Романок. Мороз надрал ему щёки. Красный, как помидор, он остановился против чужой девочки и вытаращил на неё глаза. Даже ноги обмести забыл.
А девочка в синем капоре неподвижно сидела на краешке лавки.
Правой рукой она прижимала к груди жёлтую сумочку, висевшую через плечо. Она молча глядела куда-то в стену и словно ничего не видела и не слышала.
Мать налила беженкам горячей похлёбки, отрезала по куску хлеба.
– Ох, да и горемыки же! – вздохнула она. – И самим нелегко, и ребёнок мается… Это дочка ваша?
– Нет, – ответила женщина, – чужая.
– На одной улице жили, – добавила старуха.
Мать удивилась:
– Чужая? А где же родные-то твои, девочка?
Девочка мрачно поглядела на неё и ничего не ответила.
– У неё никого нет, – шепнула женщина, – вся семья погибла: отец – на фронте, а мать и братишка – здесь.
Убиты…
Мать глядела на девочку и опомниться не могла.
Она глядела на ее лёгонькое пальто, которое, наверно, насквозь продувает ветер, на её рваные чулки, на тонкую шею, жалобно белеющую из-под синего капора…
Убиты. Все убиты! А девчонка жива. И одна-то она на целом свете!
Мать подошла к девочке.
– Как тебя зовут, дочка? – ласково спросила она.
– Валя, – безучастно ответила девочка.
– Валя… Валентина… – задумчиво повторила мать. – Валентинка…
Увидев, что женщины взялись за котомки, она остановила их:
– Оставайтесь-ка вы ночевать сегодня. На дворе уже поздно, да и позёмка пошла – ишь как заметает! А утречком отправитесь.
Женщины остались. Мать постелила усталым людям постели. Девочке она устроила постель на тёплой лежанке – пусть погреется хорошенько. Девочка разделась, сняла свой синий капор, ткнулась в подушку, и сон тотчас одолел её. Так что, когда вечером пришёл домой дед, его всегдашнее место на лежанке было занято, и в эту ночь ему пришлось улечься на сундуке.
После ужина все угомонились очень скоро. Только мать ворочалась на своей постели и никак не могла уснуть.
Ночью она встала, зажгла маленькую синюю лампочку и тихонько подошла к лежанке. Слабый свет лампы озарил нежное, чуть разгоревшееся лицо девочки, большие пушистые ресницы, тёмные с каштановым отливом волосы, разметавшиеся по цветастой подушке.
– Сиротинка ты бедная! – вздохнула мать. – Только глаза на свет открыла, а уж сколько горя на тебя навалилось! На такую-то маленькую!..
Долго стояла возле девочки мать и всё думала о чём-то. Взяла с пола её ботики, поглядела – худые, промокшие. Завтра эта девчушка наденет их и опять пойдёт куда-то… А куда?
Рано-рано, когда чуть забрезжило в окнах, мать встала и затопила печку. Дед поднялся тоже: он не любил долго лежать. В избе было тихо, только слышалось сонное дыхание да Романок посапывал на печке. В этой тишине при свете маленькой лампы мать тихонько разговаривала с дедом.
– Давай возьмём девочку, отец, – сказала она. – Уж очень её жалко!
Дед отложил валенок, который чинил, поднял голову и задумчиво поглядел на мать.
– Взять девочку?.. Ладно ли будет? – ответил он. – Мы деревенские, а она из города.
– А не всё ли равно, отец? И в городе люди, и в деревне люди. Ведь она сиротинка! Нашей Таиске подружка будет. На будущую зиму вместе в школу пойдут…
Дед подошёл, посмотрел на девочку:
– Ну что же… Гляди. Тебе виднее. Давай хоть и возьмём. Только смотри, сама потом не заплачь с нею!
– Э!.. Авось да не заплачу.
Вскоре поднялись и беженки и стали собираться в путь. Но когда они хотели будить девочку, мать остановила их:
– Погодите, не надо будить. Оставьте Валентинку у меня! Если кто родные найдутся, скажите: живёт в Нечаеве, у Дарьи Шалихиной. А у меня было трое ребят – ну, будет четверо. Авось проживём!
Женщины поблагодарили хозяйку и ушли. А девочка осталась.
– Вот у меня и ещё одна дочка, – сказала задумчиво Дарья Шалихина, – дочка Валентинка… Ну что же, будем жить.
Так появился в селе Нечаеве новый человек.
Виктор Голявкин «Карусель в голове»
К концу учебного года я просил отца купить мне двухколёсный велосипед, пистолет-пулемёт на батарейках, самолёт на батарейках, летающий вертолёт и настольный хоккей.
— Мне так хочется иметь эти вещи! — сказал я отцу. — Они постоянно вертятся у меня в голове наподобие карусели, и от этого голова так кружится, что трудно удержаться на ногах.
— Держись, — сказал отец, — не упади и напиши мне на листке все эти вещи, чтоб мне не забыть.
— Да зачем же писать, они и так у меня крепко в голове сидят.
— Пиши, — сказал отец, — тебе ведь это ничего не стоит.
— В общем-то ничего не стоит, — сказал я, — только лишняя морока. — И я написал большими буквами на весь лист:
ВИЛИСАПЕТ
ПИСТАЛЕТ-ПУЛИМЁТ
САМАЛЁТ
ВИРТАЛЁТ
ХАКЕЙ
Потом подумал и ещё решил написать «мороженое», подошёл к окну, поглядел на вывеску напротив и дописал:
МОРОЖЕНОЕ
Отец прочёл и говорит:
— Куплю я тебе пока мороженое, а остальное подождём.
Я думал, ему сейчас некогда, и спрашиваю:
— До которого часу?
— До лучших времён.
— До каких?
— До следующего окончания учебного года.
— Почему?
— Да потому, что буквы в твоей голове вертятся, как карусель, от этого у тебя кружится голова, и слова оказываются не на своих ногах.
Как будто у слов есть ноги!
А мороженое мне уже сто раз покупали.
МАТЕРЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ В.Закруткин
Ничто не нарушало зимней тишины. Где–то очень далеко шли сражения, а здесь, в пустом, заснеженном поле, стояла тишина,
Вдруг Марии почудилось, что она слышит глухие, невнятные человеческие голоса.
Мария прислушалась. Да, там, где стояла покрытая снегом копна сена, слышался детский плач, а два голоса, тоже детских, уговаривали кого-то, и Мария ясно услышала слова:
– Перестань плакать! Слышишь? Тебе говорят! Перестань, а то немцы придут, всех нас повесят...
Дружок и Дамка, навострив уши, поглядывали то на копну, то на Марию и всем своим видом показывали: в копне кто-то есть.
Мария предостерегающе подняла руку. Осторожно, стараясь не скрипеть снегом, пошла к копне. У самой копны остановилась, шепотом сказала собакам:
– Тихо!
Из копны послышался тот же слабый детский голос:
– Не плачь, Дашенька! Слышишь? Не плачь! Разве ты одна хочешь кушать?
И Таня хочет кушать, и Наташа, и Лара, и Андрюша – все хотят кушать, а они, видишь, не плачут...
Обойдя копну, Мария увидела протоптанную в снегу тропу… Сердце Марии сжалось.
«Дети! – мелькнула у нее мысль. – Малые дети! Заблудились... голодные...» Она наклонилась, разгребла сено. Увидела смуглое лицо худенькой девочки, ее широко раскрытые, полные страха карие глаза.
– Не бойтесь, деточки, – негромко сказала Мария. – Выходите! Немцев тут нет... Я одна... Тетя Мария меня зовут... Выходите, прошу вас...
Из копны вылезла черноглазая девочка лет тринадцати, такая изможденная и худая, что Мария дрогнула от жалости.
– Откуда вы, детки, и сколько вас тут? – спросила она, обняв девочку.
Девочка заплакала навзрыд, упала на снег, обхватила ноги Марии непослушными руками, невнятно залепетала:
– Нас тут много... Семеро... Мы из Ленинграда, из детского дома... Эвакуированные... Нас долго везли поездом, потом, когда немцы стали бомбить поезд, наши воспитатели были убиты и много детей сгорело... А мы, которые остались живыми, убежали... Бежали долго и заблудились... Нас было восемнадцать, осталось семеро... Одиннадцать умерло по дороге с голода – три девочки и восемь мальчиков... Не обижайте нас, тѐтечка... миленькая... нам всем очень холодно, и мы хотим кушать...
Опустившись на корточки, прижав к себе худое тельце едва прикрытой лохмотьями девочки, Мария забормотала, содрогаясь от рыданий:
– Голубяточки мои... Деточки родные... Выходите все... Все выходите... Я вас накормлю, напою, искупаю... Мы будем жить вместе... Я одна, совсем одна... и голоса человеческого давно не слышала...
Из копны стали вылезать дети. Худые, полуголые, забитые, придавленные страхом и голодом, с глазами, полными слез, они сгрудились вокруг рыдающей Марии, навзрыд заплакали сами, повисли на ее шее, на плечах, прижимались к ней, бились у ее ног..
Они шли по заснеженной степи гуськом. Впереди, неся на руках двух–, трехлетних детей – Дашу и Андрюшу – шла Мария. Черноглазая Галя – она в этой заблудившейся стайке была за старшую – тащила на спине совсем ослабевшую, уснувшую Олю, а белобрысая Наташа и две девочки – Таня и Лара, спотыкаясь, еле волоча ноги, брели сзади...
Весь вечер Мария грела на печке воду, поочередно искупала детей, помыла им головы, напоила всех теплым молоком и уложила спать, а сама, поглядывая на спавших детей, принялась стирать их ветхие лохмотья.
Не спали только две старшие девочки – Галя и Наташа. Следя за Марией полузакрытыми глазами, они вздыхали, тихо ворочались, потом, не выдержав, стали шепотом, чтобы не разбудить спящих, рассказывать Марии о долгих и страшных мытарствах.
– Из Ленинграда наш детдом везли ночью на машинах, – шептала Галя. – Было очень холодно, и мы долго ехали по льду. Над нами летали немецкие самолеты, они бросали бомбы. Потом нас привезли на какую–то станцию, посадили в поезд, но никто не сказал, куда мы едем...
– А в Ленинграде все люди голодали и воды ни у кого не было, потому что немцы окружили город, – вспоминала Наташа. – Нашему детдому еще давали хлеб и повидло...маленький такой кусочек хлеба, как спичечная коробка, и чайную ложечку повидла... У нас умерло мало детей: только девять мальчиков и четыре девочки...
Галя прерывисто вздохнула:
– Когда немцы бомбили наш поезд, было так страшно, – сказала Наташа.
– Они налетели утром, мы все еще спали. Вскочили от взрывов, а вагоны уже горят и опрокидываются под насыпь.
Отвернувшись к стене, Галя заплакала.
– Не плачь, деточка, – сказала Мария. – Не плачь и ничего не бойся. Теперь все будет хорошо... У меня вот тоже сыночек был, Васенька... такой примерно, как вы... так немцы его повесили...
Мария тоже заплакала. Теперь Галя стала ее утешать:
– Не плачьте, тетенька, не надо. Вы же сами сказали, что теперь все будет хорошо.
Помолчав, Галя закончила горестный свой рассказ:
– Когда немцы разбомбили наш поезд, все дети разбежались, кто куда. Всего нас в поезде было сто шестьдесят. Кого убили, кто сгорел и куда девались остальные, мы не знаем... Мы долго шли степью, лесами. Ночевали где–нибудь в кустах или в копнах, чтоб немцы нас не нашли. Иногда заходили в деревни, и женщины плакали и давали нам хлеба, сала, яичек… Шли долго, много дней, и очень хотели пить. Один раз нашли пустые консервные банки, подвязали к ним проволоку. Получились ведрышки. Когда приходили к пруду или к речке, набирали в них воду и несли с собой...
– А что ж вы, бедняжки, ели? – спросила Мария.
– Ели, что придется. Картошку копали и грызли сырую, потому что спичек у нас не было и мы не могли развести костер. Семечки подсолнухов ели, разную травку и листья жевали. Нашли брошенный людьми сад, яблок с собой набрали.
– Ну, а те три девочки и восемь мальчиков, – спросила Мария, – они что? С голоду умерли?
– Да, – спокойно сказала Галя, – с голоду. Сначала у них началось расстройство желудка, они одной водой ходили, потом совсем ослабели и умерли за два дня. Мы их закопали, крестики из веточек на их могилах поделали, поплакали и пошли дальше...
Мария погладила темные волосы девочки, прижалась щекой к ее щеке.
– Спи, деточка, – сказала она тихо, – больше этого ничего не будет. Дождемся наших, и все будет хорошо...
Так семь маленьких странников, сирот из ленинградского детского дома, остались жить с Марией в ее теплом погребе. Вот Марии и пригодилось тряпье, которое она собрала в окопах, постирала и сложила про запас.
Несколько дней она возилась, обшивая полураздетых детей: пошила им платьишки, тапочки и шапочки из плотного шинельного сукна, раскроила и порезала полинявшие солдатские гимнастерки на портяночки, одела всех потеплее.
С приходом детей Мария как будто ожила: рассказывала им о хуторе, о приходе немцев, о смерти Ивана, Васятки и Фени, о том, как, ища человека, к ней стали сходиться коровы, собаки, овцы, лошади, куры, как слетелись на хуторское пожарище голуби.
Она по–прежнему ежедневно уходила на работу, наказав детям никуда не отлучаться, выходить из погреба только по крайней нужде и не разговаривать громко, чтобы не привлечь к себе внимания.
Несколько дней она кормила детей щами из соленого конского мяса, заправленной молоком кукурузной кашей, потом зарезала овцу, пять кур. На ее глазах изможденные дети стали поправляться, посвежели, на их худых, обветренных лицах появился румянец...
Маленький Андрюша первый назвал ее мамой. Однажды вечером, когда Мария вернулась с поля и спустилась в погреб, мальчик вскочил с нар, повис у нее на шее и радостно закричал:
– Мама пришла! Мама пришла!
А трехлетняя Даша повторила, захлопав в ладошки:
– Мама! Наша мама!
Скрывая слезы, Мария сказала:
– Ну да... мама... ваша мама... а то чья ж?
В этот же вечер Галя, Наташа, Таня и Лара, окружив Марию, спросили застенчиво:
– Можно, мы тоже будем называть вас мамой?
А я и есть ваша мама, – глухо сказала Мария. – Выл у меня один-единственный сыночек, а теперь вон вас сколько, и все славные, хорошие деточки...
Л.Н. Толстой «Анна Каренина»
Анна вошла в высокую дверь. Направо от двери стояла кровать, и на кровати сидел, поднявшись, мальчик в одной расстегнутой рубашечке и, перегнувшись тельцем, потягиваясь, доканчивал зевок. В ту минуту, как губы его сходились вместе, они сложились в блаженно-сонную улыбку, и с этой улыбкой он опять медленно и сладко повалился назад.
— Сережа! — прошептала она, неслышно подходя к нему.
Во время разлуки с ним и при том приливе любви, который она испытывала все это последнее время, она воображала его четырехлетним мальчиком, каким она больше всего любила его. Теперь он был даже не таким, как она оставила его; он еще дальше стал от четырехлетнего, еще вырос и похудел. Что это! Как худо его лицо, как коротки его волосы! Как длинны руки! Как изменился он с тех пор, как она оставила его! Но это был он, с его формой головы, его губами, его мягкою шейкой и широкими плечиками.
— Сережа! — повторила она над самым ухом ребенка.
Он поднялся опять на локоть, поводил спутанною головой на обе стороны, как бы отыскивая что-то, и открыл глаза. Тихо и вопросительно он поглядел несколько секунд на неподвижно стоявшую пред ним мать, потом вдруг блаженно улыбнулся и, опять закрыв слипающиеся глаза, повалился, но не назад, а к ней, к ее рукам.
— Сережа! Мальчик мой милый! — проговорила она, задыхаясь и обнимая руками его пухлое тело.
— Мама! — проговорил он, двигаясь под ее руками, чтобы разными местами тела касаться ее рук.
Сонно улыбаясь, все с закрытыми глазами, он перехватился пухлыми ручонками от спинки кровати за ее плечи, привалился к ней, обдавая ее тем милым сонным запахом и теплотой, которые бывают только у детей, и стал тереться лицом об ее шею и плечи.
— Я знал, — открывая глаза, сказал он. — Нынче мое рожденье. Я знал, что ты придешь. Я встану сейчас.
И, говоря это, он засыпал.
Анна жадно оглядывала его; она видела, как он вырос и переменился в ее отсутствие. Она узнавала и не узнавала его голые, такие большие теперь, ноги, выпроставшиеся из одеяла, узнавала эти похуделые щеки, эти обрезанные короткие завитки волос на затылке, в который она так часто целовала его. Она ощупывала все это и не могла ничего говорить; слезы душили ее.
— О чем же ты плачешь, мама? — сказал он, совершенно проснувшись. — Мама, о чем ты плачешь? — прокричал он плаксивым голосом.
— Я? не буду плакать... Я плачу от радости. Я так давно не видела тебя. Я не буду, не буду, — сказала она, глотая слезы и отворачиваясь. — Ну, тебе одеваться теперь, — оправившись, прибавила она, помолчав, и, не выпуская его руки, села у его кровати на стул, на котором было приготовлено платье.
— Как ты одеваешься без меня? Как... — хотела она начать говорить просто и весело, но не могла и опять отвернулась.
— Я не моюсь холодною водой, папа не велел. А Василия Лукича ты не видала? Он придет. А ты села на мое платье! — и Сережа расхохотался.
Она посмотрела на него и улыбнулась.
— Мама, душечка, голубушка! — закричал он, бросаясь опять к ней и обнимая ее. Как будто он теперь только, увидав ее улыбку, ясно понял, что случилось. — Это не надо, — говорил он, снимая с нее шляпу. И, как будто вновь увидав ее без шляпы, он опять бросился целовать ее.
— Но что же ты думал обо мне? Ты не думал, что я умерла?
— Никогда не верил.
— Не верил, друг мой?
— Я знал, я знал! — говорил он свою любимую фразу и, схватив за руку, которая ласкала его волосы, стал прижимать ее ладонью к своему рту и целовать ее.
Василий Лукич между тем, не понимавший сначала, кто была эта дама, и узнав из разговора, что это была та самая мать, которая бросила мужа и которую он не знал, так как поступил в дом уже после нее, был в сомнении, войти ли ему, или нет, или сообщить Алексею Александровичу. Сообразив наконец то, что его обязанность состоит в том, чтобы поднимать Сережу в определенный час и что поэтому ему нечего разбирать, кто там сидит, мать или другой кто, а нужно исполнять свою обязанность, он оделся, подошел к двери и отворил ее.
Но ласки матери и сына, звуки их голосов и то, что они говорили, — все это заставило его изменить намерение. Он покачал головой и, вздохнув, затворил дверь. «Подожду еще десять минут», — сказал он себе, откашливаясь и утирая слезы.
Между прислугой дома в это же время происходило сильное волнение. Все узнали, что приехала барыня, и что Капитоныч пустил ее, и что она теперь в детской, а между тем барин всегда в девятом часу сам заходит в детскую, и все понимали, что встреча супругов невозможна и что надо помешать ей. Корней, камердинер, сойдя в швейцарскую, спрашивал, кто и как пропустил ее, и, узнав, что Капитоныч принял и проводил ее, выговаривал старику. Швейцар упорно молчал, но когда Корней сказал ему, что за это его согнать следует, Капитоныч подскочил к нему и, замахав руками пред лицом Корнея, заговорил:
— Да, вот ты бы не впустил! Десять лет служил, кроме милости, ничего не видал, да ты бы пошел теперь да и сказал: пожалуйте, мол, вон! Ты политику-то тонко понимаешь! Так-то! Ты бы про себя помнил, как барина обирать да енотовые шубы таскать!
— Солдат! — презрительно сказал Корней и повернулся ко входившей няне. — Вот судите, Марья Ефимовна: впустил, никому не сказал, — обратился к ней Корней. — Алексей Александрович сейчас выйдут, пойдут в детскую.
— Дела, дела! — говорила няня. — Вы бы, Корней Васильевич, как-нибудь задержали его, барина-то, а я побегу, как-нибудь ее уведу. Дела, дела!
Когда няня вошла в детскую, Сережа рассказывал матери о том, как они упали вместе с Наденькой, покатившись с горы, и три раза перекувырнулись. Она слушала звуки его голоса, видела его лицо и игру выражения, ощущала его руку, но не понимала того, что он говорил. Надо было уходить, надо было оставить его, — только одно это и думала и чувствовала она. Она слышала и шаги Василия Лукича, подходившего к двери и кашлявшего, слышала и шаги подходившей няни; но сидела, как окаменелая, не в силах ни начать говорить, ни встать.
— Барыня, голубушка! — заговорила няня, подходя к Анне и целуя ее руки и плечи. — Вот Бог привел радость имениннику. Ничего-то вы не переменились.
— Ах, няня, милая, я не знала, что вы в доме, — на минуту очнувшись, сказала Анна.
— Я не живу, я с дочерью живу, я поздравить пришла, Анна Аркадьевна, голубушка!
Няня вдруг заплакала и опять стала целовать ее руку.
Сережа, сияя глазами и улыбкой и держась одною рукой за мать, другою за няню, топотал по ковру жирными голыми ножками. Нежность любимой няни к матери приводила его в восхищенье.
— Мама! Она часто ходит ко мне, и когда придет... — начал было он, но остановился, заметив, что няня шепотом что-то сказала матери и что на лице матери выразился испуг и что-то похожее на стыд, что так не шло к матери.
Она подошла к нему.
— Милый мой! — сказала она.
Она не могла сказать прощай, но выражение ее лица сказало это, и он понял. — Милый, милый Кутик! — проговорила она имя, которым звала его маленьким, — ты не забудешь меня? Ты... — но больше она не могла говорить.
Сколько потом она придумывала слов, которые она могла сказать ему! А теперь она ничего не умела и не могла сказать. Но Сережа понял все, что она хотела сказать ему. Он понял, что она была несчастлива и любила его. Он понял даже то, что шепотом говорила няня. Он слышал слова: «Всегда в девятом часу», и он понял, что это говорилось про отца и что матери с отцом нельзя встречаться. Это он понимал, но одного он не мог понять: почему на ее лице показались испуг и стыд?.. Она не виновата, а боится его и стыдится чего-то. Он хотел сделать вопрос, который разъяснил бы ему это сомнение, но не смел этого сделать: он видел, что она страдает, и ему было жаль ее. Он молча прижался к ней и шепотом сказал:
— Еще не уходи. Он не скоро придет.
Мать отстранила его от себя, чтобы понять, то ли он думает, что говорит, и в испуганном выражении его лица она прочла, что он не только говорил об отце, но как бы спрашивал ее, как ему надо об отце думать.
— Сережа, друг мой, — сказала она, — люби его, он лучше и добрее меня, и я пред ним виновата. Когда ты вырастешь, ты рассудишь.
— Лучше тебя нет!.. — с отчаянием закричал он сквозь слезы и, схватив ее за плечи, изо всех сил стал прижимать ее к себе дрожащими от напряжения руками.
— Душечка, маленький мой! — проговорила Анна и заплакала так же слабо, по-детски, как плакал он.
В это время дверь отворилась, вошел Василий Лукич. У другой двери послышались шаги, и няня испуганным шепотом сказала:
— Идет, — и подала шляпу Анне.
Сережа опустился в постель и зарыдал, закрыв лицо руками. Анна отняла эти руки, еще раз поцеловала его мокрое лицо и быстрыми шагами вышла в дверь. Алексей Александрович шел ей навстречу. Увидав ее, он остановился и наклонил голову.
Несмотря на то, что она только что говорила, что он лучше и добрее ее, при быстром взгляде, который она бросила на него, охватив всю его фигуру со всеми подробностями, чувства отвращения и злобы к нему и зависти за сына охватили ее. Она быстрым движением опустила вуаль и, прибавив шагу, почти выбежала из комнаты.
Она не успела и вынуть и так и привезла домой те игрушки, которые она с такой любовью и грустью выбирала вчера в лавке.
Лидия Чарская."Чудесная звездочка"
Жила в роскошном замке маленькая принцесса, хорошенькая, нарядная, всегда в золотых платьях и драгоценных ожерельях.
Ну, словом, настоящая сказочная принцесса и, как все сказочные принцессы, недовольная своей судьбой.
Избаловали маленькую Эзольду (так звали принцессу) напропалую. Баловал отец, баловала мать, баловали старшие братья и сестры, баловала угодливая свита. Чего ни пожелает принцесса - мигом исполнялось.
- Хочу иметь коня совсем белого, с черной звездочкой на лбу! - заявила как-то Эзольда и топнула ножкой.
Топнула ножкой, и помчались рыцари во все стороны, и старые и молодые, и знатные и незнатные, и глупые и умные - все искать белого коня с черною звездою на лбу.
По всему свету искали. Наконец нашли. Нашли с болъшим трудом в конюшне одного азиатского хана.
Стали у хана просить продать лошадь, а он заупрямился.
- Не отдам дешево лошадь. Конь хороший. Очень хороший конь. Давайте целую конюшню червонцев взамен.
Дали рыцари целую конюшню червонцев, взяли коня, привели к Эзольде.
А Эзольда и смотреть на коня не хочет.
- Очень нужно мне его! Я уже расхотела. Надо было раньше. А теперь кошку хочу. Кошку такую, чтобы была вся золотая и пушистая, а глаза - как бирюза...
Нечего делать: поехали двадцать рыцарей искать золотую кошку с бирюзовыми глазами.
Искали, искали - нигде не нашли. Целый год искали, и еще год и еще...
Эзольда уже из девочки в девушку превратилась, а рыцари все по свету рыскают - ищут кошку для принцессы.
Наконец убедились - нет такой кошки на свете. Нечего и искать коли нет. Потужили, погоревали и возвращаются ни с чем, с пустыми руками, с вытянутыми носами.
На самой границе государства встречает их хитрая волшебница Урсула. Ехала Урсула верхом на волке, а зайцы над ней пестрый балдахин несли. Увидела рыцарей, хитро прищурилась и сказала:
- Эге! Золотую кошку с бирюзовыми глазами я, Урсула, вам дам, пожалуй, только за это двадцать лет вы мне служить должны... все, кроме одного, который повезет кошку вашей принцессе.
- Согласны, согласны! - вскричали обрадованные рыцари, и девятнадцать из них по жребию остались служить у волшебницы, а двадцатый получил из рук Урсулы золотую кошку с бирюзовыми глазами и повез ее Эзольде.
Та как вскинула глазами на кошку, так вся и затряслась от гнева.
- Долго искали. Не хочу больше кошку. Раньше хотела, а теперь другого хочу. Хочу звездочку с неба. Самую большую, самую красивую. Вон ту самую, которая теперь так мигает на небе.
И принцесса показывает пальцем на яркую звезду.
Пожалел рыцарь о своих девятнадцати товарищах, которые ни за что, ни про что должны были двадцать лет служить волшебнице Урсуле, но не сказал ни слова, а только задумался, как исполнить новое желание принцессы. Легко сказать: достать звезду с неба, а как ее достанешь?
Отправился рыцарь к жившим в том городе мудрецам, спрашивает их совета. Думали, думали мудрецы и решили, что единственный способ достать звездочку - приставить длинную-длинную лестницу, которой хватило бы до самого неба, и по этой лестнице пусть взойдут сильные рыцари, пусть ухватятся за звездочку и снесут ее на землю.
Передал рыцарь этот совет товарищам, и те в один голос заявили, что готовы помочь рыцарю в его трудном деле. Принялись рыцари строить лестницу высокую-высокую. Не едят, не пьют, все топорами размахивают. Готова лестница. Поставили. Нет, до неба не хватает. Принялись опять за дело, пристроили к этой лестнице другую, потом третью. Получилась такая высокая лестница, что кто на верх ее взглянет, тот непременно опрокинется. Уж очень высокого голову приходилось поднимать. Однако полезли смельчаки-рыцари по той лестнице на небо.
Вот они уже у самых облаков. Прямо перед ними - яркая, блестящая звездочка. Кажется, вот-вот можно ее рукой достать. Но едва рыцари протянули к ней руки, как звездочка ввысь уплыла.
Еще приставили лестницу, опять полезли. И опять неудача. Уходит все выше и выше звездочка. А сама мигает, точно смеется над своей погоней.
Выбились из сил рыцари. Слезли вниз и тут же у лестницы уснули от усталости. А принцесса ждет не дождется, когда наконец рыцари принесут ей звездочку: то ножками от нетерпения топает, то слезами от злости заливается.
Вдруг в ее горнице стало разом светло, как днем, и чей-то тоненький голосок послышался за плечами.
Оглянулась принцесса и чуть не вскрикнула: та самая звездочка, которая ей так понравилась и которую тщетно старались достать для нее рыцари, слетела с неба и стоит перед нею.
- Не плачь, Эзольда, не плачь, капризная принцесса, - говорит звездочка с усмешкой, - слезами не поможешь. Ты требуешь невозможного.
- Нет ничего невозможного для дочери короля! - с гневом вскричала Эзольда. - Меня любят все подданные моего oтца и охотно готовы жизнь свою положить, чтобы исполнить каждое мое желание. Они достали мне белого коня с черной звездочкой на лбу, достали золотую кошку с бирюзовыми глазами, достанут и звездочку с неба, да! Да! Они очень любят меня!
- А за что они тебя любят, что ты сделала для того, чтобы они тебя любили? Чем заслужила их любовь? - спросила звездочка.
- За что меня любят? - изумилась Эзольда. - Да ведь я дочь могущественного и богатого короля, я принцесса, и меня нельзя не любить...
- Ха! Ха! Ха! - засмеялась звездочка. - Так, значит, ты заслужила любовь только тем, что ты дочь короля?.. Но сама-то ты сделала хоть что-нибудь такое, за что тебя мог бы полюбить народ?
Эзольда задумалась. Она хотела припомнить, что она сделала доброго в жизни, и не могла ничего припомнить.
- А вот, принцесса, - произнесла спустя некоторое время звездочка, - я покажу тебе, что люди любят не одних только королей и принцесс. Гляди туда, вперед!
Эзольда вперила глаза в темноту сада, раскинутого около замка. И вдруг королевский сад исчез. Вместо него Эзольда увидела городскую площадь. Толпы народа заполняли ее. Посреди площади шел человек, просто одетый, с посохом в руках. 3a ним бежала толпа с громкими восторженными криками. Он скромно кланялся, отвечая на приветствия. На пути его попадались все новые и новые толпы народа. Лица всех обращались к нему с благоговейною любовью. Глаза людей восторженно устремлялись на него.
- Кто этот царь, которого так горячо любит народ? - спросила звездочку Эзольда.
- Ты ошибаешься: не царь это, а простой бедный человек, - ответила звездочка. - Но этот человек нашел способ печатать книги и этим распространил свет науки среди темных до сих пор, неученых людей. Он принес огромную пользу своей стране, и народ благодарит его за это. Но смотри: я покажу тебе, за что еще можно любить людей, - поспешно прибавила звездочка.
И разом исчезла городская площадь, исчезли и толпы народа и человек, которому они поклонялись, и перед изумленными взорами Эзольды выросла огромная зала. Посреди залы было устроено возвышение, все засыпанное цветами. На возвышении стоял человек. Двое других людей венчали его голову лавровым венком. Люди, наполнявшие зал, громкими криками выражали свой восторг человеку в лавровом венке. Многие из них падали на колени и посылали ему со слезами тысячи благословений.
- Это, должно быть, могущественный король. Вон какие почести воздают ему люди! - произнесла Эзольда.
- О, нет! Не король это, - отвечала звездочка, - а врач, который нашел средство лечить людей от самых опасных, самых серьезных болезней. И благодарные люди, поняв всю пользу, принесенную им, горячо полюбили своего благодетеля. Но смотри, смотри, Эзольда, еще смотри! - заключила свою речь звездочка.
Глянула Эзольда. Где же дворец, зала с возвышением и человек в лавровом венке? Ничего нет! Все исчезло. Только длинная, бесконечная дорога представилась ее глазам.
По дороге идет путник. За ним бежит народ. Народ спешит забежать вперед, чтобы заглянуть в лицо путника, чтобы сказать ему несколько горячих слов любви и благодарности. И сколько преданности, сколько признательности сияет в обращенных на него глазах людей!
- Кто это? - спросила звездочку Эзольда, боясь, что снова ошибется, если назовет царем сопровождаемого толпою человека.
- Это недавний богач, теперь самый бедный нищий в стране, - пояснила звездочка. - Он все, что имел, роздал неимущим: все деньги и богатства, которые были у него, - все до последнего гроша. И за это получил самое большое, самое отрадное сокровище: любовь народа...
Сказав это, звездочка исчезла. Исчез с нею и чудесный свет в комнате Эзольды. А сама Эзольда быстро уснула, утомленная необычайными впечатлениями.
На другое утро рыцари, фрейлины и свита собрались у дверей принцессы, ожидая новых приказаний, новых капризов и желаний Эзольды.
Но принцесса ничего не приказывала...
* * *
- Что же дальше? Разве сказка уже окончена? - спросила я голубую фею, которая рассказала мне про принцессу Эзольду.
- Что дальше? - ответила она. - Вот что: на следующий день принцесса заявила, что она уже не желает иметь звездочку. рыцари знали, как быстро менялись прихоти принцессы, и ничуть не удивились этому. Они стали терпеливо ждать нового приказания принцессы. Но прошел день, прошел другой, третий - Эзольда ничего не требовала, ничего не приказывала.
- Что случилось с Эзольдой? - недоумевали рыцари и свита.
В самом деле, что случилось с Эзольдой?
Оскар Уайльд «Соловей и роза»
– Она сказала, что будет танцевать со мной, если я принесу ей красных роз, – воскликнул молодой Студент, – но в моем саду нет ни одной красной розы.
Его услышал Соловей, в своем гнезде на Дубе, и, удивленный, выглянул из листвы.
– Ни единой красной розы во всем моем саду! – продолжал сетовать Студент, и его прекрасные глаза наполнились слезами. – Ах, от каких пустяков зависит порою счастье! Я прочел все, что написали мудрые люди, я постиг все тайны философии, а жизнь моя разбита из-за того только, что у меня нет красной розы.
– Вот он, наконец-то, настоящий влюбленный, – сказал себе Соловей. – Ночь за ночью я пел о нем, хотя и не знал его, ночь за ночью я рассказывал о нем звездам, и наконец я увидел его. Его волосы темны, как темный гиацинт, а губы его красны, как та роза, которую он ищет; но страсть сделала его лицо бледным, как слоновая кость, и скорбь наложила печать на его чело.
– Завтра вечером принц дает бал, – шептал молодой Студент, – и моя милая приглашена. Если я принесу ей красную розу, она будет танцевать со мной до рассвета. Если я принесу ей красную розу, я буду держать ее в своих объятиях, она склонит головку ко мне на плечо, и моя рука будет сжимать ее руку. Но в моем саду нет красной розы, и мне придется сидеть в одиночестве, а она пройдет мимо. Она даже не взглянет на меня, и сердце мое разорвется от горя.
– Это настоящий влюбленный, – сказал Соловей. – То, о чем я лишь пел, он переживает на деле; что для меня радость, то для него страдание. Воистину любовь – это чудо. Она драгоценнее изумруда и дороже прекраснейшего опала. Жемчуга и гранаты не могут купить ее, и она не выставляется на рынке. Ее не приторгуешь в лавке и не выменяешь на золото.
– На хорах будут сидеть музыканты, – продолжал молодой Студент. – Они будут играть на арфах и скрипках, и моя милая будет танцевать под звуки струн. Она будет носиться по зале с такой легкостью, что ноги ее не коснутся паркета, и вокруг нее будут толпиться придворные в расшитых одеждах. Но со мной она не захочет танцевать, потому что у меня нет для нее красной розы.
И юноша упал ничком на траву, закрыл лицо руками и заплакал.
– О чем он плачет? – спросила маленькая зеленая Ящерица, которая проползала мимо него, помахивая хвостиком.
– Да, в самом деле, о чем? – подхватила Бабочка, порхавшая в погоне за солнечным лучом.
– О чем? – спросила Маргаритка нежным шепотом свою соседку.
– Он плачет о красной розе, – ответил Соловей.
– О красной розе! – воскликнули все. – Ах, как смешно!
А маленькая Ящерица, несколько склонная к цинизму, беззастенчиво расхохоталась.
Один только Соловей понимал страдания Студента, он тихо сидел на Дубе и думал о таинстве любви.
Но вот он расправил свои темные крылышки и взвился в воздух. Он пролетел над рощей, как тень, и, как тень, пронесся над садом.
Посреди зеленой лужайки стоял пышный Розовый Куст. Соловей увидел его, подлетел к нему и спустился на одну из его веток.
– Дай мне красную розу, – воскликнул он, – и я спою тебе свою лучшую песню!
Но Розовый Куст покачал головой.
– Мои розы белые, – ответил он, – они белы, как морская пена, они белее снега на горных вершинах. Пойди к моему брату, что растет возле старых солнечных часов, – может быть, он даст тебе то, чего ты просишь.
И Соловей полетел к Розовому Кусту, что рос возле старых солнечных часов.
– Дай мне красную розу, – воскликнул он, – и я спою тебе свою лучшую песню!
Но Розовый Куст покачал головой.
– Мои розы желтые, – ответил он, – они желты, как волосы сирены, сидящей на янтарном престоле, они желтее златоцвета на нескошенном лугу. Пойди к моему брату, что растет под окном у Студента, может быть, он даст тебе то, чего ты просишь.
И Соловей полетел к Розовому Кусту, что рос под окном у Студента.
– Дай мне красную розу, – воскликнул он, – и я спою тебе свою лучшую песню!
Но Розовый Куст покачал головой.
– Мои розы красные – ответил он, – они красны, как лапки голубя, они краснее кораллов, что колышутся, как ветер, в пещерах на дне океана. Но кровь в моих жилах застыла от зимней стужи, мороз побил мои почки, буря поломала мои ветки, и в этом году у меня совсем не будет роз.
– Одну только красную розу – вот все, чего я прошу, – воскликнул Соловей. – Одну-единственную красную розу! Знаешь ты способ получить ее?
– Знаю, – ответил Розовый Куст, – но он так страшен, что у меня не хватает духу открыть его тебе.
– Открой мне его, – попросил Соловей, – я не боюсь.
– Если ты хочешь получить красную розу, – молвил Розовый Куст, – ты должен сам создать ее из звуков песни при лунном сиянии, и ты должен обагрить ее кровью сердца. Ты должен петь мне, прижавшись грудью к моему шипу. Всю ночь ты должен мне петь, и мой шип пронзит твое сердце, и твоя живая кровь перельется в мои жилы и станет моею кровью.
– Смерть – дорогая цена за красную розу, – воскликнул Соловей. – Жизнь мила каждому! Как хорошо, сидя в лесу, любоваться солнцем в золотой колеснице и луною в колеснице из жемчуга. Сладко благоухание боярышника, милы синие колокольчики в долине и вереск, цветущий на холмах. Но Любовь дороже Жизни, и сердце какой-то пташки – ничто в сравнении с человеческим сердцем!
И, взмахнув своими темными крылышками. Соловей взвился в воздух. Он пронесся над садом, как тень, и, как тень, пролетел над рощей.
А Студент все еще лежал в траве, где его оставил Соловей, и слезы еще не высохли в его прекрасных глазах.
– Радуйся! – крикнул ему Соловей. – Радуйся, будет у тебя красная роза. Я создам ее из звуков моей песни при лунном сиянии и обагрю ее горячей кровью своего сердца. В награду я прошу у тебя одного: будь верен своей любви, ибо как ни мудра Философия, в Любви больше Мудрости, чем в Философии, и как ни могущественна Власть, Любовь сильнее любой Власти. У нее крылья цвета пламени, и пламенем окрашено тело ее. Уста ее сладки, как мед, а дыхание подобно ладану.
Студент привстал на локтях и слушал, но он не понял того, что говорил ему Соловей, ибо он знал только то, что написано в книгах.
А Дуб понял и опечалился, потому что очень любил эту малую пташку, которая свила себе гнездышко в его ветвях.
– Спой мне в последний раз твою песню, – прошептал он. – Я буду сильно тосковать, когда тебя не станет.
И Соловей стал петь Дубу, и пение его напоминало журчание воды, льющейся из серебряного кувшина.
Когда Соловей кончил петь, Студент поднялся с травы, вынул из кармана карандаш и записную книжку и сказал себе, направляясь домой из рощи:
– Да, он мастер формы, это у него отнять нельзя. Но есть ли у него чувство? Боюсь, что нет. В сущности, он подобен большинству художников: много виртуозности и ни капли искренности. Он никогда не принесет себя в жертву другому. Он думает лишь о музыке, а всякий знает, что искусство эгоистично. Впрочем, нельзя не признать, что иные из его трелей удивительно красивы. Жаль только, что в них нет никакого смысла и они лишены практического значения.
И он пошел к себе в комнату, лег на узкую койку и стал думать о своей любви; вскоре он погрузился в сон.
Когда на небе засияла луна, Соловей прилетел к Розовому Кусту, сел к нему на ветку и прижался к его шипу. Всю ночь он пел, прижавшись грудью к шипу, и холодная хрустальная луна слушала, склонив свой лик. Всю ночь он пел, а шип вонзался в его грудь все глубже и глубже, и из нее по каплям сочилась теплая кровь.
Сперва он пел о том, как прокрадывается любовь в сердце мальчика и девочки. И на Розовом Кусте, на самом верхнем побеге, начала распускаться великолепная роза. Песня за песней – лепесток за лепестком. Сперва роза была бледная, как легкий туман над рекою, бледная, как стопы зари, и серебристая, как крылья рассвета. Отражение розы в серебряном зеркале, отражение розы в недвижной воде – вот какова была роза, расцветавшая на верхнем побеге Куста.
А Куст кричал Соловью, чтобы тот еще крепче прижался к шипу.
– Крепче прижмись ко мне, милый Соловушка, не то день придет раньше, чем заалеет роза!
Все крепче и крепче прижимался Соловей к шипу, и песня его звучала все громче и громче, ибо он пел о зарождении страсти в душе мужчины и девушки.
И лепестки розы окрасились нежным румянцем, как лицо жениха, когда он целует в губы свою невесту. Но шип еще не проник в сердце Соловья, и сердце розы оставалось белым, ибо только живая кровь соловьиного сердца может обагрить сердце розы.
Опять Розовый Куст крикнул Соловью, чтобы тот крепче прижался к шипу.
– Крепче прижмись ко мне, милый Соловушка, не то день придет раньше, чем заалеет роза!
Соловей еще сильнее прижался к шипу, и острие коснулось наконец его сердца, и все тело его вдруг пронзила жестокая боль. Все мучительнее и мучительнее становилась боль, все громче и громче раздавалось пение Соловья, ибо он пел о Любви, которая обретает совершенство в Смерти, о той Любви, которая не умирает в могиле.
И стала алой великолепная роза, подобно утренней заре на востоке. Алым стал ее венчик, и алым, как рубин, стало ее сердце.
А голос Соловья все слабел и слабел, и вот крылышки его судорожно затрепыхались, а глазки заволокло туманом. Песня его замирала, и он чувствовал, как что-то сжимает его горло.
Но вот он испустил свою последнюю трель. Бледная луна услышала ее и, забыв о рассвете, застыла на небе. Красная роза услышала ее и вся затрепетала в экстазе, раскрыла свои лепестки навстречу прохладному дуновению утра. Эхо понесло эту трель к своей багряной пещере в горах и разбудило спавших там пастухов. Трель прокатилась по речным камышам, и те отдали ее морю.
– Смотри! – воскликнул Куст. – Роза стала красной!
Но Соловей ничего не ответил. Он лежал мертвый в высокой траве, и в сердце у него был острый шип.
В полдень Студент распахнул окно и выглянул в сад.
– Ах, какое счастье! – воскликнул он. – Вот она, красная роза. В жизни не видал такой красивой розы! У нее, наверное, какое-нибудь длинное латинское название.
И он высунулся из окна и сорвал ее.
Потом он взял шляпу и побежал к Профессору, держа розу в руках.
Профессорская дочь сидела у порога и наматывала голубой шелк на катушку. Маленькая собачка лежала у нее в ногах.
– Вы обещали, что будете со мной танцевать, если я принесу вам красную розу! – воскликнул Студент. – Вот самая красивая роза на свете. Приколите ее вечером поближе к сердцу, и, когда мы будем танцевать, она расскажет вам, как я люблю вас.
Но девушка нахмурилась.
– Боюсь, что эта роза не подойдет к моему туалету, – ответила она. – К тому же племянник камергера прислал мне настоящие каменья, а всякому известно, что каменья куда дороже цветов.
– Как вы неблагодарны! – с горечью сказал Студент и бросил розу на землю.
Роза упала в колею, и ее раздавило колесом телеги.
– Неблагодарна? – повторила девушка. – Право же, какой вы грубиян! Да и кто вы такой в конце концов? Всего-навсего студент. Не думаю, чтоб у вас были такие серебряные пряжки к туфлям, как у камергерова племянника.
И она встала с кресла и ушла в комнаты.
– Какая глупость – эта Любовь, – размышлял Студент, возвращаясь домой. – В ней и наполовину нет той пользы, какая есть в Логике. Она ничего не доказывает, всегда обещает несбыточное и заставляет верить в невозможное. Она удивительно непрактична, а так как наш век – век практический, то вернусь я лучше к Философии и буду изучать Метафизику.
И он вернулся к себе в комнату, вытащил большую запыленную книгу и принялся ее читать.
М. Зощенко «Елка»
В этом году мне исполнилось, ребята, сорок лет. Значит, выходит, что я сорок раз видел новогоднюю ёлку. Это много!
Ну, первые три года жизни я, наверно, не понимал, что такое ёлка. Наверно, мама выносила меня на ручках. И, наверно, я своими чёрными глазёнками без интереса смотрел на разукрашенное дерево.
А когда мне, дети, ударило пять лет, то я уже отлично понимал, что такое ёлка. И я с нетерпением ожидал этого весёлого праздника. И даже в щёлочку двери подглядывал, как моя мама украшает ёлку.
А моей сестрёнке Леле было в то время семь лет. И она была исключительно бойкая девочка. Она мне однажды сказала:
— Минька, мама ушла на кухню. Давай пойдём в комнату, где стоит ёлка, и поглядим, что там делается.
Вот мы с сестрёнкой Лелей вошли в комнату. И видим: очень красивая ёлка. А под ёлкой лежат подарки. А на ёлке разноцветные бусы, флаги, фонарики, золотые орехи, пастилки и крымские яблочки.
Моя сестрёнка Леля говорит:
— Не будем глядеть подарки. А вместо того давай лучше съедим по одной пастилке. И вот она подходит к ёлке и моментально съедает одну пастилку, висящую на ниточке. Я говорю:
— Леля, если ты съела пастилочку, то я тоже сейчас что-нибудь съем. И я подхожу к ёлке и откусываю маленький кусочек яблока. Леля говорит:
— Минька, если ты яблоко откусил, то я сейчас другую пастилку съем и вдобавок возьму себе ещё эту конфетку.
А Леля была очень такая высокая, длинновязая девочка. И она могла высоко достать. Она встала на цыпочки и своим большим ртом стала поедать вторую пастилку. А я был удивительно маленького роста. И мне почти что ничего нельзя было достать, кроме одного яблока, которое висело низко. Я говорю:
— Если ты, Лелища, съела вторую пастилку, то я ещё раз откушу это яблоко. И я снова беру руками это яблочко и снова его немножко откусываю. Леля говорит:
— Если ты второй раз откусил яблоко, то я не буду больше церемониться и сейчас съем третью пастилку и вдобавок возьму себе на память хлопушку и орех. Тогда я чуть не заревел. Потому что она могла до всего дотянуться, а я нет. Я ей говорю:
— А я, Лелища, как поставлю к ёлке стул и как достану себе тоже что-нибудь, кроме яблока.
И вот я стал своими худенькими ручонками тянуть к ёлке стул. Но стул упал на меня. Я хотел поднять стул. Но он снова упал. И прямо на подарки. Леля говорит:
— Минька, ты, кажется, разбил куклу. Так и есть. Ты отбил у куклы фарфоровую ручку.
Тут раздались мамины шаги, и мы с Лелей убежали в другую комнату. Леля говорит:
— Вот теперь, Минька, я не ручаюсь, что мама тебя не выдерет.
Я хотел зареветь, но в этот момент пришли гости. Много детей с их родителями. И тогда наша мама зажгла все свечи на ёлке, открыла дверь и сказала:
— Все входите.
И все дети вошли в комнату, где стояла ёлка. Наша мама говорит:
— Теперь пусть каждый ребёнок подходит ко мне, и я каждому буду давать игрушку и угощение.
И вот дети стали подходить к нашей маме. И она каждому дарила игрушку. Потом снимала с ёлки яблоко, пастилку и конфету и тоже дарила ребёнку. И все дети были очень рады. Потом мама взяла в руки то яблоко, которое я откусил, и сказала:
— Леля и Минька, подойдите сюда. Кто из вас двоих откусил это яблоко? Леля сказала:
— Это Минькина работа.
Я дёрнул Лелю за косичку и сказал:
— Это меня Лелька научила. Мама говорит:
— Лелю я поставлю в угол носом, а тебе я хотела подарить заводной паровозик. Но теперь этот заводной паровозик я подарю тому мальчику, которому я хотела дать откусанное яблоко.
И она взяла паровозик и подарила его одному четырёхлетнему мальчику. И тот моментально стал с ним играть. И я рассердился на этого мальчика и ударил его по руке игрушкой. И он так отчаянно заревел, что его собственная мама взяла его на ручки и сказала:
— С этих пор я не буду приходить к вам в гости с моим мальчиком. И я сказал:
— Можете уходить, и тогда паровозик мне останется. И та мама удивилась моим словам и сказала:
— Наверное, ваш мальчик будет разбойник. И тогда моя мама взяла меня на ручки и сказала той маме:
— Не смейте так говорить про моего мальчика. Лучше уходите со своим золотушным ребёнком и никогда к нам больше не приходите. И та мама сказала:
— Я так и сделаю. С вами водиться — что в крапиву садиться. И тогда ещё одна, третья мама, сказала:
— И я тоже уйду. Моя девочка не заслужила того, чтобы ей дарили куклу с обломанной рукой. И моя сестрёнка Леля закричала:
— Можете тоже уходить со своим золотушным ребёнком. И тогда кукла со сломанной ручкой мне останется. И тогда я, сидя на маминых руках, закричал:
— Вообще можете все уходить, и тогда все игрушки нам останутся. И тогда все гости стали уходить. И наша мама удивилась, что мы остались одни. Но вдруг в комнату вошёл наш папа. Он сказал:
— Такое воспитание губит моих детей. Я не хочу, чтобы они дрались, ссорились и выгоняли гостей. Им будет трудно жить на свете, и они умрут в одиночестве. И папа подошёл к ёлке и потушил все свечи. Потом сказал:
— Моментально ложитесь спать. А завтра все игрушки я отдам гостям. И вот, ребята, прошло с тех пор тридцать пять лет, и я до сих пор хорошо помню эту ёлку. И за все эти тридцать пять лет я, дети, ни разу больше не съел чужого яблока и ни разу не ударил того, кто слабее меня. И теперь доктора говорят, что я поэтому такой сравнительно весёлый и добродушный.
Анатолий Приставкин «Звезды»
(1) Нас было в комнате одиннадцать человек.
(2) У каждого из нас был на фронте отец.
(3) И при каждой похоронке, приходившей в детдом, одиннадцать маленьких сердец замирало.
(4) Но чёрные листки шли в другие спальни.
(5) И мы чуть-чуть радовались и начинали опять ждать отцов.
(6) это было единственное чувство, которое не угасало всю войну.
(7) Мы узнали, что война окончилась.
(8) Это случилось в чистое майское утро, когда к весеннему голубому небу прилипали первые клейкие листочки.
(9) Кто-то тихо вздохнул и открыл настежь окно.
(10) Раздался непривычно громкий смех.
(11) И вдруг все мы, одиннадцать человек, поняли, что мы победили, что мы дождались отцов.
(12) В детдоме готовился вечер, Витька Козырев разучивал песенку: (13) Окна светятся весь вечер, Как подснежники весной.
(14) Скоро мы дождёмся встречи С нашей армией родной.
(15) Эту песню хотели петь и другие ребята, но Козырев сказал: (16) - Ребята, я отца ждал дольше, чем вы.
(17) Он ушёл воевать ещё с белофиннами… (18) И мы решили, что Витька Козырев немного единоличник, но у него хороший отец и на фотографии очень красиво снят с военными орденами.
(19) Поэтому пускай Витька поёт.
(20) Наступил тихий вечер.
(21) Заблестели через серую пыльцу звёзды, и нам они казались звёздами с солдатских пилоток – протяни лишь руку и потрогай пальцами… (22) А что от них свет долго идёт, так это враньё просто.
(23) Звёзды были рядом, это мы хорошо знали в тот вечер.
(24) Появилась почтальонша, но мы уже не насторожились при её приходе.
(25) Мы подошли к окну и спросили, кому письмо.
(26) Козыреву протянули листок.
(27) И вдруг спальня замолчала.
(28) Но нам понималось, что кто-то закричал.
(29) Было непонятно и страшно.
(30) «Сообщаем, что отец ваш, майор Козырев, пал смертью храбрых седьмого мая сорок пятого года».
(31) Нас было в спальне одиннадцать человек, и десять из них молчали.
(32) Майская прохладная ночь дышала в окно.
(33) Светились далёкие звёзды.
(34) И было ясно, что свет от них шёл долго.
А.П. Чехов. "Чайка". Монолог Нины Заречной (финальная сцена прощания с Треплевым).
Я так утомилась... Отдохнуть бы... Отдохнуть!
Я - чайка... Нет, не то. Я - актриса. И он здесь... Он не верил в театр, все смеялся над моими мечтами, и мало-помалу я тоже перестала верить и пала духом... А тут заботы любви, ревность, постоянный страх за маленького... Я стала мелочною, ничтожною, играла бессмысленно... Я не знала, что делать с руками, не умела стоять на сцене, не владела голосом. Вы не понимаете этого состояния, когда чувствуешь, что играешь ужасно. Я - чайка.
Нет, не то... Помните, вы подстрелили чайку? Случайно пришел человек, увидел и от нечего делать погубил... Сюжет для небольшого рассказа...
О чем я?.. Я говорю о сцене. Теперь уж я не так... Я уже настоящая актриса, я играю с наслаждением, с восторгом, пьянею на сцене и чувствую себя прекрасной. А теперь, пока живу здесь, я все хожу пешком, все хожу и думаю, думаю и чувствую, как с каждым днем растут мои душевные силы... Я теперь знаю, понимаю. Костя, что в нашем деле - все равно, играем мы на сцене или пишем - главное не слава, не блеск, не то, о чем я мечтала, а уменье терпеть. Умей нести свой крест и веруй. Я верую, и мне не так больно, и когда я думаю о своем призвании, то не боюсь жизни.
Нет, нет... Не провожайте, я сама дойду... Лошади мои близко... Значит, она привезла его с собою? Что ж, все равно. Когда увидите Тригорина, то не говорите ему ничего... Я люблю его. Я люблю его даже сильнее, чем прежде... Люблю, люблю страстно, до отчаяния люблю!
Хорошо было прежде, Костя! Помните? Какая ясная, теплая, радостная, чистая жизнь, какие чувства, - чувства, похожие на нежные, изящные цветы... "Люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые рыбы, обитавшие в воде, морские звезды и те, которых нельзя было видеть глазом, - словом, все жизни, все жизни, все жизни, свершив печальный круг, угасли. Уже тысячи веков, как земля не носит на себе ни одного живого существа, и эта бедная луна напрасно зажигает свой фонарь. На лугу уже не просыпаются с криком журавли, и майских жуков не бывает слышно в липовых рощах..."
Я пойду. Прощайте. Когда я стану большою актрисой, приезжайте взглянуть на меня.
Обещаете? А теперь... Уже поздно. Я еле на ногах стою...
Сценка-монолог матери из повести С.Алексиевич “Цинковые мальчики”
– Он у меня маленького роста был. Родился маленький, как девочка, вес – два килограмма, рост тридцать сантиметров. Боялась в руках держать...
Прижму к себе:
– Мое ты солнышко...
Ничего не боялся, только паука. Приходит с улицы... Мы ему новое пальто купили... Это ему исполнилось четыре года... Повесила я это пальто на вешалку и слышу из кухни: шлеп-шлеп, шлеп-шлеп... Выбегаю: полная прихожая лягушек, они из карманов его пальто выскакивают. Он их собирает:
– Мамочка, ты не бойся. Они добрые. – И назад в карман запихивает.
– Мое ты солнышко.
Игрушки любил военные. Дарила ему танк, автомат, пистолет. Нацепит на себя и марширует по дому.
– Я солдат... Я солдат...
– Мое ты солнышко... Поиграй во что-нибудь мирное.
– Я – солдат...
Идти в первый класс, не можем нигде купить костюм, какой не примеряем – он в нем тонет.
– Мое ты солнышко...
Забрали в армию. Я молила не о том, чтобы его не убили, а чтобы не били.
Я боялась, что будут издеваться ребята посильнее, он такой маленький.
Рассказывал, что и туалет зубной щеткой могут заставить чистить, и трусы чужие стирать. Я этого боялась. Попросил: "Пришлите все свои фото: мама, папа, сестренка. Я уезжаю..."
Куда уезжает, не написал. Через два месяца пришло письмо из Афганистана:
"Ты, мама, не плачь, наша броня надежная".
– Мое ты солнышко... Наша броня надежная...
Уже домой ждала, ему месяц остался до конца службы. Рубашечки купила, шарфик, туфли. И сейчас они в шкафу. Одела бы в могилку... Сама бы его одела, так не разрешили гроб открыть... Поглядеть на сыночка, дотронуться...
Нашли ли они ему форму по росту? В чем он там лежит?
Первым пришел капитан из военкомата:
– Крепитесь, мать...
– Где мой сын?
– Здесь, в городе. Сейчас привезут.
Я осела на пол:
– Мое ты солнышко!!! – Поднялась и набросилась с кулаками на капитана:
– Почему ты живой, а моего сына нет? Ты такой здоровый, такой сильный...
А он маленький... Ты – мужчина, а он – мальчик. Почему ты живой?!
Привезли гроб, я стучалась в гроб:
– Мое ты солнышко! Мое ты солнышко!
А сейчас хожу к нему на могилку. Упаду на камни, обниму:
– Мое ты солнышко…
Андрэ Моруа Письма незнакомке (Ураев)
Вы существуете, и вместе с тем вас нет. Когда один мой друг предложил мне писать вам раз в неделю, я мысленно нарисовал себе ваш образ. Я создал вас прекрасной – и лицом, и разумом. Я знал: Вы не замедлите возникнуть живой из грез моих, и станете читать мои послания, и отвечать на них, и говорить мне все, что жаждет услышать автор.
С первого же дня я придал вам определенный облик – облик редкостно красивой и юной женщины, которую я увидал в театре. Нет, не на сцене – в зале. Никто из тех, кто был со мною рядом, не знал ее. С тех пор вы обрели глаза и губы, голос и стать, но, как и подобает, по-прежнему остались незнакомкой.
В печати появились два-три моих письма, и я, как ожидал, стал получать от вас ответы. Здесь «вы» – лицо собирательное. Вас много разных незнакомок: Одна – наивная, другая – вздорная, а третья – шалунья и насмешница. Мне не терпелось затеять с вами переписку, однако я удержался: Вам надлежало оставаться всеми, нельзя было, чтоб вы стали одной.
Вы укоряете меня за сдержанность, за мой неизменный сентиментальный морализм. Но что поделаешь? И самый терпеливый из людей пребудет верным незнакомке лишь при том условии, что однажды она откроется ему. Мериме довольно быстро узнал о том, что его незнакомку зовут Женни Дакен, и вскоре ему позволили поцеловать ее прелестные ножки. Да, наш кумир должен иметь и ножки, и все остальное, ибо мы устаем от созерцания бестелесной богини.
Я обещал, что стану продолжать эту игру до той поры, пока буду черпать в ней удовольствие. Прошло больше года, я поставил точку в нашей переписке, возражений не последовало. Воображаемый разрыв совсем не труден. Я сохраню о вас чудесное, незамутненное воспоминание. Прощай.
Аркадий Аверченко На "Французской выставке за сто лет"
- Посмотрим, посмотрим... Признаться, не верю я этим французам.
- Почему?
- Так как-то... Кричат: "Искусство, искусство!" А что такое искусство, почему искусство? - никто не знает.
- Я вас немного не понимаю, - что вы хотите сказать словами - почему искусство?
- Да так: я вот вас спрашиваю - почему искусство?
- То есть как - почему?
- Да так! Вот небось и вы даже не ответите, а то французские какие-то живописцы. Наверное, все больше из декадентов.
- Почему же уж так сразу и декаденты? Ведь декаденты недавно появились, а эта выставка за сто лет.
- Ну, половина, значит, декадентов. Вы думаете что! Им же все равно.
- Давайте лучше рассматривать картины.
- Ну, давайте. Вы рассматривайте ту, желтую, а я эту.
- Что ж тут особенного рассматривать - вот я уже и рассмотрел.
- Нельзя же так скоро. Вы еще посмотрите на нее.
- Да куда ж еще смотреть?! Все видно как на ладони: стол, на столе яблоки, апельсины, какая-то овощь. Интересно, как она называется?
- А какой номер?
- Сто двадцать седьмой.
- Сейчас... Гм! Что за черт! В каталоге эта картина называется "Лесная тишина". Как это вам понравится?! У этих людей все с вывертом... Он не может прямо и ясно написать: "Стол с яблоками" или "Плоды". Нет, ему, видите ли, нужно что-нибудь этакое почуднее придумать! Лесная тишина! Где она тут? А потом возьмет он, нарисует лесную тишину и подпишет: "Стол с апельсином". А я вам скажу прямо: такому молодцу не на выставке место, а в сумасшедшем доме!
- Ну, может быть, это ошибка. Мало ли что бывает: типографщик напился пьяный и допустил ошибку.
- Допустим. Пойдем дальше. А это что за картина? Ну... голая женщина - это еще ничего. Искусство там, натура, как вообще... Какая-нибудь этакая Далила или Семирамида. Какой номер? Двести восемнадцать? Посмотрим. Вот тебе! Я ж говорю, что у этих людей вместо головы коробка от шляпы! И это называется "новым искусством"! Новыми путями! Может, скажете - опять типографская ошибка? Нарисована голая женщина, а в каталоге ее называют: "Вид с обрыва"! Нет-с, это не типографская ошибка, а тенденция! Как бы почудней, как бы позабористее на голову стать. Эх вы! Просвещенные мореплаватели!
- Это не англичане, а французы.
- Я и говорю. И я уверен, что вся выставка в стиле "О, закрой свои голубые ноги". Это что? Четыреста одиннадцатый? Лошадки на лугу пасутся. Как оно там? Ну конечно! Они это называют "Заседание педагогического совета"!
- А знаете - это мне нравится. Тут есть какая-то сатира... Гм! Ненормальная постановка дела высшего образования в России. Проект Кассо...
- Нет! Нет! Вы посмотрите! Тут нормальному человеку можно с ума сойти! Я бы за это новое искусство в Сибирь ссылал! Вы видите? Нарисован здоровенный мужчинище с бородой, а под этим номером творец сего увража в каталоге пишет: "Моя мать"... Его мать! Да я б его... Нет, не могу больше! Я им сейчас покажу, как публику обманывать. Ты, милый мой, хоть и декадент, а тюрьма и для декадентов, и для недекадентов одинаковая! Эй, кто тут! Вы капельдинер? Билеты отбираете? За что? Может, и у вас новое течение?
Посмотрите вашими бесстыдными глазами, - кто это может допустить?! Это какой номер? Девяносто пятый? Мужчина с бородой? А в каталоге что? Девяносто пятый
- "Моя мать"? Мать с бородой? Или зарвавшаяся наглость изломанных идиотов, которым все прощается? Я вас спрашиваю! Что вы мне на это скажете?
- Что я скажу? Позвольте ваш каталог... Вы сейчас откуда?
- Мы, миленький мой, сейчас из такого места, которое не вам чета! Там художники хранят святые старые традиции! Одним словом - с академической выставки, которая...
- Вы бы, господин, если так экономите, то уж не кричали бы, - ведь у вас каталог-то не нашей, а чужой выставки.
Любовь Воронкова «Девочка из города»
Фронт был далеко от села Нечаева. Нечаевские колхозники не слышали грохота орудий, не видели, как бьются в небе самолёты и как полыхает по ночам зарево пожаров там, где враг проходит по русской земле. Но оттуда, где был фронт, шли через Нечаево беженцы. Они тащили салазки с узелками, горбились под тяжестью сумок и мешков. Цепляясь за платье матерей, шли и вязли в снегу ребятишки. Останавливались, грелись по избам бездомные люди и шли дальше.
Однажды в сумерки в избу к Шалихиным постучались.
Рыжеватая проворная девочка Таиска бросилась к боковому окну, уткнулась и увидела
– Две тётеньки! – закричала она. – Одна молодая, в шарфе! А другая совсем старушка, с палочкой! И ещё… глядите – девчонка!
Груша, старшая Таискина сестра, отложила чулок, который вязала, и тоже подошла к окну.
– И правда девчонка. В синем капоре…
– Так идите же откройте, – сказала мать. – Чего ждёте-то?
Таиска побежала открывать дверь. Люди вошли, и в избе запахло снегом и морозом.
Пока мать разговаривала с женщинами, пока спрашивала, откуда они, да куда идут, да где немцы и где фронт, Груша и Таиска разглядывали девочку.
– Гляди-ка, в ботиках!
– А чулок рваный!
А девочка в синем капоре неподвижно сидела на краешке лавки. Правой рукой она прижимала к груди жёлтую сумочку, висевшую через плечо. Она молча глядела куда-то в стену и словно ничего не видела и не слышала.
Мать налила беженкам горячей похлёбки, отрезала по куску хлеба.
– Ох, да и горемыки же! – вздохнула она. – И самим нелегко, и ребёнок мается… Это дочка ваша?
– Нет, – ответила женщина, – чужая.
– На одной улице жили, – добавила старуха.
Мать удивилась:
– Чужая? А где же родные-то твои, девочка?
Девочка мрачно поглядела на неё и ничего не ответила.
– У неё никого нет, – шепнула женщина, – вся семья погибла: отец – на фронте, а мать и братишка – здесь.
Убиты…
Мать глядела на девочку и опомниться не могла. Она глядела на ее лёгонькое пальто, которое, наверно, насквозь продувает ветер, на её рваные чулки, на тонкую шею, жалобно белеющую из-под синего капора…
Убиты. Все убиты! А девчонка жива. И одна-то она на целом свете!
Мать подошла к девочке.
– Как тебя зовут, дочка? – ласково спросила она.
– Валя, – безучастно ответила девочка.
– Валя… Валентина… – задумчиво повторила мать. – Валентинка…
Увидев, что женщины взялись за котомки, она остановила их:
– Оставайтесь-ка вы ночевать сегодня. На дворе уже поздно, да и позёмка пошла – ишь как заметает! А утречком отправитесь.
Женщины остались. Мать постелила усталым людям постели. Девочке она устроила постель на тёплой лежанке – пусть погреется хорошенько.
Ночью она встала, зажгла маленькую синюю лампочку и тихонько подошла к лежанке..
– Сиротинка ты бедная! – вздохнула мать. – Только глаза на свет открыла, а уж сколько горя на тебя навалилось! На такую-то маленькую!..
Долго стояла возле девочки мать и всё думала о чём-то. Взяла с пола её ботики, поглядела – худые, промокшие. Завтра эта девчушка наденет их и опять пойдёт куда-то… А куда?
Рано-рано, когда чуть забрезжило в окнах, мать встала и затопила печку.\
Вскоре поднялись и беженки и стали собираться в путь. Но когда они хотели будить девочку, мать остановила их:
– Погодите, не надо будить. Оставьте Валентинку у меня! Если кто родные найдутся, скажите: живёт в Нечаеве, у Дарьи Шалихиной. А у меня было трое ребят – ну, будет четверо. Авось проживём!
Женщины поблагодарили хозяйку и ушли. А девочка осталась.
– Вот у меня и ещё одна дочка, – сказала задумчиво Дарья Шалихина, – дочка Валентинка… Ну что же, будем жить.
Так появился в селе Нечаеве новый человек.
Анатолий Приставкин «Звезды»
(1) Нас было в комнате одиннадцать человек.
(2) У каждого из нас был на фронте отец.
(3) И при каждой похоронке, приходившей в детдом, одиннадцать маленьких сердец замирало.
(4) Но чёрные листки шли в другие спальни.
(5) И мы чуть-чуть радовались и начинали опять ждать отцов.
(6) это было единственное чувство, которое не угасало всю войну.
(7) Мы узнали, что война окончилась.
(8) Это случилось в чистое майское утро, когда к весеннему голубому небу прилипали первые клейкие листочки.
(9) Кто-то тихо вздохнул и открыл настежь окно.
(10) Раздался непривычно громкий смех.
(11) И вдруг все мы, одиннадцать человек, поняли, что мы победили, что мы дождались отцов.
(12) В детдоме готовился вечер, Витька Козырев разучивал песенку: (13) Окна светятся весь вечер, Как подснежники весной.
(14) Скоро мы дождёмся встречи С нашей армией родной.
(15) Эту песню хотели петь и другие ребята, но Козырев сказал: (16) - Ребята, я отца ждал дольше, чем вы.
(17) Он ушёл воевать ещё с белофиннами… (18) И мы решили, что Витька Козырев немного единоличник, но у него хороший отец и на фотографии очень красиво снят с военными орденами.
(19) Поэтому пускай Витька поёт.
(20) Наступил тихий вечер.
(21) Заблестели через серую пыльцу звёзды, и нам они казались звёздами с солдатских пилоток – протяни лишь руку и потрогай пальцами… (22) А что от них свет долго идёт, так это враньё просто.
(23) Звёзды были рядом, это мы хорошо знали в тот вечер.
(24) Появилась почтальонша, но мы уже не насторожились при её приходе.
(25) Мы подошли к окну и спросили, кому письмо.
(26) Козыреву протянули листок.
(27) И вдруг спальня замолчала.
(28) Но нам понималось, что кто-то закричал.
(29) Было непонятно и страшно.
(30) «Сообщаем, что отец ваш, майор Козырев, пал смертью храбрых седьмого мая сорок пятого года».
(31) Нас было в спальне одиннадцать человек, и десять из них молчали.
(32) Майская прохладная ночь дышала в окно.
(33) Светились далёкие звёзды.
(34) И было ясно, что свет от них шёл долго.
"Записка". Татьяна Петросян
Записка имела самый безобидный вид.
В ней по всем джентльменским законам должна была обнаружиться чернильная рожа и дружеское пояснение: "Сидоров - козёл".
Так что Сидоров, не заподозрив худого, мгновенно развернул послание... и остолбенел.
Внутри крупным красивым почерком было написано: "Сидоров, я тебя люблю!".
В округлости почерка Сидорову почудилось издевательство. Кто же ему такое написал?
Прищурившись, он оглядел класс. Автор записки должен был непременно обнаружить себя. Но главные враги Сидорова на сей раз почему-то не ухмылялись злорадно.
(Как они обычно ухмылялись. Но на сей раз - нет.)
Зато Сидоров сразу заметил, что на него не мигая глядит Воробьёва. Не просто так глядит, а со значением!
Сомнений не было: записку писала она. Но тогда выходит, что Воробьёва его любит?!
И тут мысль Сидорова зашла в тупик и забилась беспомощно, как муха в стакане. ЧТО ЗНАЧИТ ЛЮБИТ??? Какие последствия это повлечёт и как теперь Сидорову быть?..
"Будем рассуждать логически,- рассуждал Сидоров логически.- Что, к примеру, люблю я? Груши! Люблю - значит, всегда хочу съесть..."
В этот момент Воробьёва снова обернулась к нему и кровожадно облизнулась. Сидоров окоченел. Ему бросились в глаза её давно не стриженные... ну да, настоящие когти! Почему-то вспомнилось, как в буфете Воробьёва жадно догрызала костлявую куриную ногу...
"Нужно взять себя в руки, - взял себя в руки Сидоров. (Руки оказались грязными. Но Сидоров игнорировал мелочи.) - Я люблю не только груши, но и родителей. Однако не может быть и речи о том, чтобы их съесть. Мама печет сладкие пирожки. Папа часто носит меня на шее. А я их за это люблю..."
Тут Воробьёва снова обернулась, и Сидоров с тоской подумал, что придётся ему теперь день-деньской печь для неё сладкие пирожки и носить её в школу на шее, чтобы оправдать такую внезапную и безумную любовь. Он пригляделся и обнаружил, что Воробьёва - не худенькая и носить её будет, пожалуй, нелегко.
"Ещё не всё потеряно,- не сдавался Сидоров.-Я также люблю нашу собаку Бобика. Особенно когда дрессирую его или вывожу гулять..." Тут Сидорову стало душно при одной мысли о том, что Воробьёва может заставить его прыгать за каждым пирожком, а потом выведет на прогулку, крепко держа за поводок и не давая уклоняться ни вправо, ни влево...
"...Люблю кошку Мурку, особенно когда дуешь ей прямо в ухо...- в отчаянии соображал Сидоров,- нет, это не то... мух люблю ловить и сажать в стакан... но это уж слишком... люблю игрушки, которые можно сломать и посмотреть, что внутри..."
От последней мысли Сидорову стало нехорошо. Спасение было только в одном. Он торопливо вырвал листок из тетрадки, сжал решительно губы и твердым почерком вывел грозные слова: "Воробьёва, я тебя тоже люблю". Пусть ей станет страшно.
Джоан Роулинг
Отрывок из романа «Гарри Поттер и философский камень»
1 отрывок. Это было лучшее гаррино Рождество. Но что-то в глубине души беспокоило его целый день. До тех пор, как он не забрался в кровать и не получил возможность спокойно это обдумать: Плащ-Невидимка и кто его прислал.
Рон, переполенный индейкой и пирогом, и не обеспокоенный ничем таинственным, заснул сразу же, как только задернул полог. Гарри повернулся и вытащил из-под кровати Плащ.
Его отец... это принадлежало его отцу. Он пропустил материю сквозь пальцы, мягкую, как шелк, легкую, как воздух. Используй его с честью, говорилось в записке.
Он должен испытать его, сейчас же. Он выскользнул из кровати и накинул Плащ. Посмотрев себе на ноги, он увидал только лунный свет и тени. Это было забавное ощущение.
Используй его с честью.
Вдруг Гарри будто очнулся. Весь Хогвартс открыт ему в этом Плаще. Его охватил восторг. Он стоял среди темноты и тишины. Он может пойти в этом всюду, куда угодно, и Филч никогда ничего не узнает.
Он прокрался из спальни, вниз по лестнице, через гостиную и выбрался через ход под портретом.
Куда бы пойти? С бьющимся сердцем он остановился и задумался. И тут он понял. Закрытая Секция библиотеки. Теперь он сможет находиться там, сколько захочет, столько, сколько ему потребуется.
Закрытая Секция находилась в самом конце. Аккуратно переступив через веревку, которая отделяла ее от остальной библиотеки, Гарри поднес лампочку ближе, чтобы прочитать надписи на корешках.
Гладкие, выпуклые буквы складывались в слова на непонятных Гарри языках. На некоторых вообще не было названий. На одной книге было пятно, страшно похожее на кровь. У Гарри встали дыбом волосы на затылке. Может, ему только это казалось, но от книг будто бы исходил зловещий шепот, будто бы они знали, что здесь находится кто-то, кому не следует.
Надо с чего-то начать. Осторожно поставив лампочку на пол, он оглядел нижние полки в поисках книги интересного вида. Большой серебряно-черный том привлек его внимание. Он вытащил его с трудом, потому что книжка была очень тяжелой, и, стоя на коленках, раскрыл.
Резкий, леденящий душу крик разорвал тишину - книга кричала! Гарри захлопнул ее, но крик длился и длился, тонкий, непрерывный, терзающий слух. Он попятился и опрокинул лампочку, которая тут же погасла. Услыхав шаги по наружному коридору, он в панике запихнул визжащую книгу на полку и побежал. Уже в дверях он едва не столкнулся с Филчем; Филчевы бледные, дикие глаза смотрели прямо сквозь него. Гарри сумел проскользнуть под его вытянутыми руками и выскочил в коридор. Визг книги еще звенел у него в ушах.
2 отрывок. «Они выходили из замка, спускаясь по каменным ступеням, когда Гарри повернулся к остальным.
— Вот что мы должны сделать, — горячо прошептал он. — Один из нас должен следить за Снеггом. Нужно встать у учительской и пойти за ним, когда он из нее выйдет. Это задание для тебя, Гермиона.
— Но почему я?
— Это очевидно, — ответил Рон. — Ты можешь сказать, что ждешь профессора Флитвика, ты же его любимица, как и многих других, кстати. А если Флитвик окажется в учительской, ты найдешь, что ему сказать. «О, профессор Флитвик, я так волнуюсь, мне кажется, что в экзаменационной работе я неправильно ответила на вопрос 146…»
— Замолчи, — бросила Гермиона. Рон очень похоже изобразил ее и ее голос, но, кажется, Гермиона вовсе не обиделась. — Ну ладно, я согласна.
— А мы будем караулить в коридоре третьего этажа. — Гарри повернулся к Рону. — Пошли.
(…) Гарри и Рон вернулись в Общую гостиную Гриффиндора, и не успел Гарри сказать, что по крайней мере Снегг сейчас под присмотром, как в комнату вошла Гермиона.
— Мне очень жаль, Гарри! — прохныкала она. — Снегг вышел из учительской и спросил меня, что я тут делаю. Я сказала, что жду Флитвика. А Снегг пошел и позвал его. И я только что от него отделалась. А пока я разговаривала с Флитвиком, Снегг ушел, и теперь я не знаю, где он.
— Ну что ж, похоже, час пробил, не так ли? — медленно выговорил Гарри. Он был бледен, но глаза его сверкали.
Рон и Гермиона молча уставились на него.
— Сегодня ночью я выйду из спальни и попытаюсь первым завладеть камнем. — В голосе Гарри была отчаянная решимость.
— Ты с ума сошел! — воскликнул Рон.
— Ты не сможешь! — подхватила эстафету Гермиона. — После того, что тебе сказали МакГонагалл и Снегг? Да тебя же отчислят!
— И ЧТО? — выкрикнул Гарри. — Неужели вы ничего не понимаете? Если Снегг украдет камень, Волан-де-Морт вернется! Разве вы не слышали о тех временах, когда он пытался захватить власть? Тогда уже никого не выгонят из Хогвартса, потому что школы просто не будет!
Марина Дружинина «Хорошо быть оптимистом!»
Стасик сидел за компьютером, когда мама пришла с работы.
– Как дела, сынок? – Мама ласково потрепала Стасика за вихры. – Не скучал один?
– Ни капельки! – бодро ответил Стасик. – Я радовался, что могу играть на компьютере сколько душе угодно!
– Всё ясно, – покачала головой мама. – Тогда, наверное, ты огорчился моему приходу: я же не разрешаю тебе часами сидеть у компьютера!
– Нет, я опять очень рад! Я уже по тебе соскучился! – Стасик решительно выключил компьютер. – Да и поужинать очень хочется. Ты ведь принесла что-нибудь вкусненькое?
– Молодец! – засмеялась мама. – Ты настоящий оптимист!
– Кто-кто?
– Оп-ти-мист, – по слогам повторила мама. – Это человек, который во всём находит хорошее, никогда не унывает.
– А тот, кто унывает?
–Того называют пессимистом. Например, если отключили горячую воду и дома стало холодно, пессимист ноет: «О-о-ох, я простужу-у-усь!» А оптимист говорит: «Отлично! Самое время зарядку сделать!» – и – р-раз! р-раз! – помашет руками, поотжимается и согреется.
– А если слишком жарко?
– Пессимист стонет: «Ох, как плохо!» А оптимист: «Ах, как приятно залезть под холодный душ! Самое время закаляться! – Мама на секунду задумалась. – Или размораживать холодильник».
–А если они оба заболели? – продолжал допытываться Стасик.
– Пессимист, ясное дело, причитает: «Бедный я, несчастный!» А оптимист себя подбадривает: «Скоро выздоровею! Начну заниматься спортом и не буду болеть. А пока посижу дома, книжек побольше почитаю». И выздоравливает быстрее пессимиста!
–Здо́рово! – захлопал в ладоши Стасик.–А ты, мамочка, оптимист?
–Конечно, – улыбнулась мама. – Я стараюсь никогда не унывать.
– Правильно! – обрадовался Стасик. – Значит, ты не очень огорчишься, что я сегодня двойку получил? Я ведь её обязательно на пятёрку исправлю!
© 2023, Шайдуллина Надежда Альбертовна 28707 468
Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей
Похожие файлы
Полезное для учителя