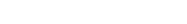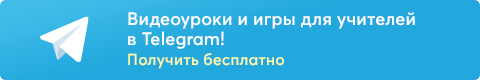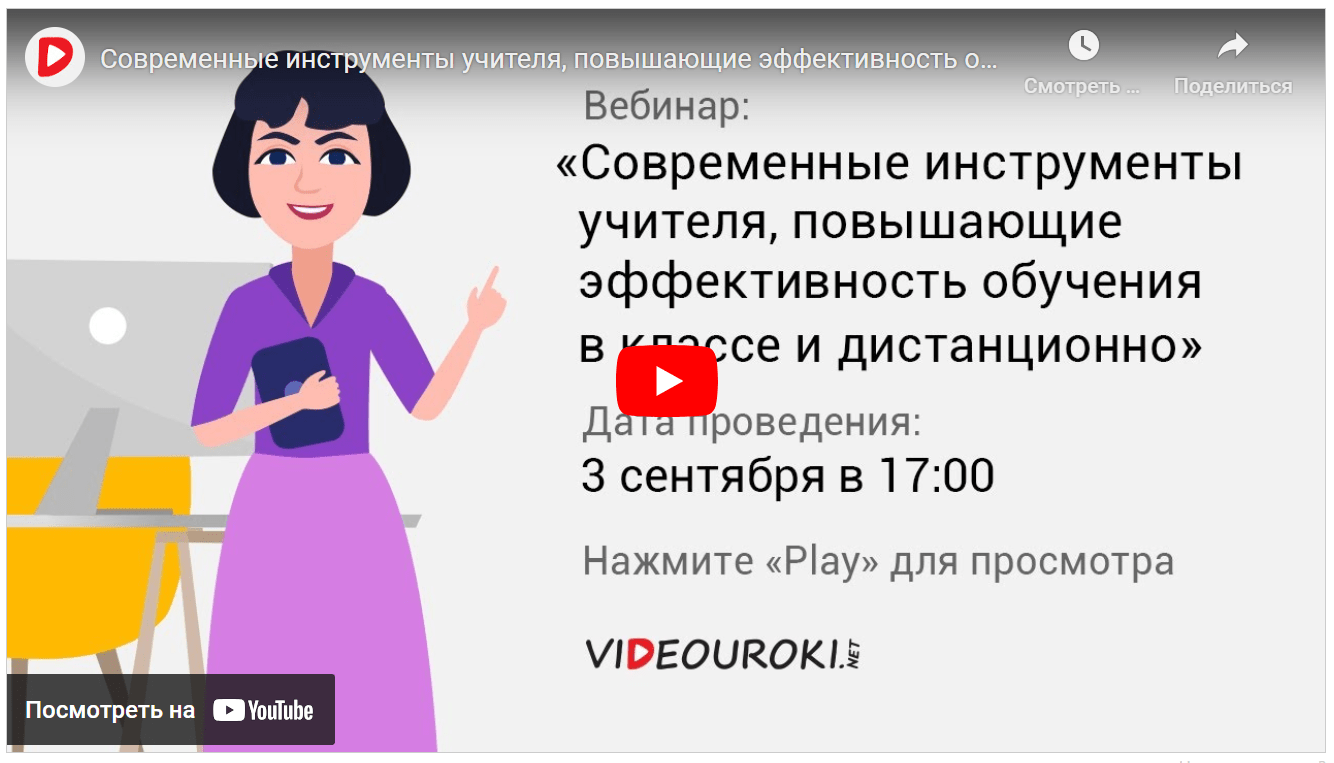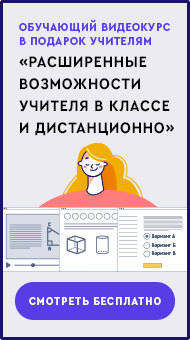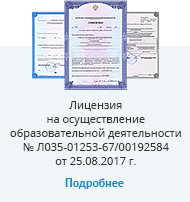СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ
Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно
Скидки до 50 % на комплекты
только до
Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой
Организационный момент
Проверка знаний
Объяснение материала
Закрепление изученного
Итоги урока

Военные стихи поэтов-классиков
Александр Твардовский Есть имена и есть такие даты, - Они нетленной сущности полны. Мы в буднях перед ними виноваты, - Не замолить по праздникам вины. И славословья музыкою громкой Не заглушить их памяти святой. И в наших будут жить они потомках, Что, может, нас оставят за чертой.
Просмотр содержимого документа
«Военные стихи поэтов-классиков»
Военные стихи поэтов-классиков
Александр Твардовский
Есть имена и есть такие даты, -
Они нетленной сущности полны.
Мы в буднях перед ними виноваты, -
Не замолить по праздникам вины.
И славословья музыкою громкой
Не заглушить их памяти святой.
И в наших будут жить они потомках,
Что, может, нас оставят за чертой.
ПРОЕКТ «ПОСЛЕДНИЙ ПОКЛОН»
Мария Петровых
Проснёмся, уснём ли - война, война.
Ночью ли, днём ли - война, война.
Сжимает нам горло, лишает сна,
Путает имена.
О чём ни подумай - война, война.
Наш спутник угрюмый - она одна.
Чем дальше от битвы, тем сердцу тесней,
Тем горше с ней.
Восходы, закаты - всё ты одна.
Какая тоска ты - война, война!
Мы знаем, что с нами
Рассветное знамя,
Но ты, ты, проклятье, - темным-темна.
Где павшие братья, - война, война!
В безвестных могилах...
Мы взыщем за милых,
Но крови святой неоплатна цена.
Как солнце багрово! Всё ты, одна.
Какое ты слово: война, война...
Как будто на слове
Ни пятнышка крови,
А свет всё багровей во тьме окна.
Тебе говорит моя страна:
Мне трудно дышать, - говорит она,-
Но я распрямлюсь, и на все времена
Тебя истреблю, война!
1942
Даниил Андреев. Беженцы
Киев пал. Все ближе знамя Одина.
На восток спасаться, на восток!
Там тюрьма. Но в тюрьмах дремлет Родина,
Пряха-мать всех судеб и дорог.
Гул разгрома катится в лесах.
Троп не видно в дымной пелене…
Вездесущий рокот в небесах
Как ознобом хлещет по спине.
Не хоронят. Некогда. И некому.
На восток, за Волгу, за Урал!
Там Россию за родными реками
Пять столетий враг не попирал!..
Клячи. Люди. Танк. Грузовики.
Стоголосый гомон над шоссе…
Волочить ребят, узлы, мешки,
Спать на вытоптанной полосе.
Лето меркнет. Черная распутица
Хлюпает под тысячами ног.
Крутится метелица да крутится,
Заметает тракты на восток.
Пламенеет небо назади,
Кровянит на жниве кромку льда,
Хлюпает под тысячами ног.
Крутится метелица да крутится,
Заметает тракты на восток.
Пламенеет небо назади,
Кровянит на жниве кромку льда,
Точно пурпур грозного судьи,
Точно трубы Страшного Суда.
По больницам, на перронах, палубах,
Среди улиц и в снегах дорог
Вечный сон, гасящий стон и жалобы,
Им готовит нищенский восток.
Слишком жизнь звериная скудна!
Слишком сердце тупо и мертво.
Каждый пьет свою судьбу до дна,
Ни в кого не веря, ни в кого.
Шевельнулись затхлые губернии,
Заметались города в тылу.
В уцелевших храмах за вечернями
Плачут ниц на стершемся полу:
О погибших в битвах за Восток,
Об ушедших в дальние снега
И о том, что родина-острог
Отмыкается рукой врага.
1942
Владимир Пучков
Кто мне скажет, что такое это -
Пройденные годы за плечом?
Человек рождается для света,
Чтобы стать сияющим лучом!
Было детство на широкой Волге,
А потом - блокада и война.
И не нужно говорить о долге -
Мы его исполнили сполна!
За сестёр, за счастье наших близких
Бились мы с коричневой чумой.
Нас совсем не много в этих списках,
Кто пришёл с Победою домой!
Кто прошёл немыслимое пекло,
Чтоб навек закончилась война!
Чтоб, как феникс, поднялась из пепла
Наша потрясённая страна!
Юлия Друнина. Мой отец
Нет, мой отец погиб не на войне —
Был слишком стар он, чтобы стать солдатом,
В эвакуации, в сибирской стороне,
Преподавал он физику ребятам.
Он жил как все. Как все, недоедал.
Как все, вздыхал над невеселой сводкой.
Как все, порою горе заливал
На пайку хлеба выменянною водкой.
Ждал вести с фронта — писем от меня,
А почтальоны проходили мимо…
И вдалеке от дыма и огня
Был обожжен войной неизлечимо.
Вообще-то слыл он крепким стариком —
Подтянутым, живым, молодцеватым.
И говорят, что от жены тайком
Все обивал порог военкомата.
В Сибири он легко переносил
Тяжелый быт, недосыпанье, голод.
Но было для него превыше сил
Смириться с тем, что вновь мы сдали город.
Чернел, а в сердце ниточка рвалась —
Одна из тех, что связывают с жизнью.
(Мы до конца лишь в испытанья час
Осознаем свою любовь к Отчизне.)
За нитью — нить. К разрыву сердце шло.
(Теперь инфарктом называют это…)
В сибирское таежное село
Вползло военное второе лето.
Старались сводки скрыть от старика,
Старались — только удавалось редко.
Информбюро тревожная строка
В больное сердце ударяла метко.
Он задыхался в дыме и огне,
Хоть жил в Сибири — в самом центре тыла.
Нет, мой отец погиб не на войне,
И все-таки война его убила…
Ах, если бы он ведать мог тогда
В глухом селе, в час отступленья горький,
Что дочь в чужие будет города
Врываться на броне «тридцатьчетверки»!
Юлия Друнина. Поклонись им по-русски
С ветхой крыши заброшенного сарая
Прямо к звёздам мальчишка взлетает в «ракете»…
Хорошо, что теперь в космонавтов играют,
А в войну не играют соседские дети.
Хорошо, что землянки зовут погребами,
Что не зарево в небе - заря,
И что девушки ходят теперь за грибами
В партизанские лагеря. Хорошо…
Но немые кричат обелиски.
Не сочтёшь, не упомнишь солдатских могил.
Поклонись же по-русски им - низко-низко,
Тем, кто сердцем тебя заслонил.
Борис Слуцкий
Теперь Освенцим часто снится мне:
Дорога между станцией и лагерем.
Иду, бреду с толпою бедным Лазарем,
А чемодан колотит по спине.
Наверно, что-то я подозревал
И взял удобный, легкий чемоданчик.
Я шел с толпою налегке, как дачник.
Шел и окрестности обозревал.
А люди чемоданы и узлы
Несли с собой,
и кофры, и баулы,
Высокие, как горные аулы.
Им были те баулы тяжелы.
Дорога через сон куда длинней,
Чем наяву, и тягостней и длительней.
Как будто не идешь — плывешь по ней,
И каждый взмах все тише и медлительней.
Иду как все: спеша и не спеша,
И не стучит застынувшее сердце.
Давным-давно замерзшая душа
На том шоссе не сможет отогреться.
Нехитрая промышленность дымит
Навстречу нам
поганым сладким дымом
И медленным полетом
лебединым
Остатки душ поганый дым томит.
Борис Слуцкий. Прогресс в средствах массовой информации
Тарелка сменилась коробкой.
Тоскливый радиовой
сменился беседой неробкой,
толковой беседой живой.
О чем нам толкуют толково
те, видящие далеко,
какие интриги и ковы
изобличают легко,
о чем, положив на колени
ладонь с обручальным кольцом,
они рассуждают без лени,
зачин согласуя с концом?
Они и умны и речисты.
Толкуют они от души.
Сменившие их хоккеисты
не менее их хороши.
Пожалуй, еще интересней
футбол, но изящней — балет
и с новой пришедшие песней
певица и музыковед.
Тарелка того не умела.
Бесхитростна или проста,
ревела она и шумела:
близ пункта взята высота.
Ее очарованный громом,
стоять перед ней был готов,
внимая названьям знакомым
отбитых вчера городов.
Вы раньше звучали угрюмо,
когда вас сдавали врагу,
а нынче ни хрипа, ни шума
заметить никак не могу.
Одни лишь названья рокочут.
Поют городов имена.
Отечественная война
вернуть все отечество хочет.
Константин Симонов. Возвращение в город
Когда ты входишь в город свой
И женщины тебя встречают,
Над побелевшей головой
Детей высоко поднимают;
Пусть даже ты героем был,
Но не гордись — ты в день вступленья
Не благодарность заслужил
От них, а только лишь прощенье.
Ты только отдал страшный долг,
Который сделал в ту годину,
Когда твой отступивший полк
Их на год отдал на чужбину.
1943
Ольга Бергольц
Вот так, исполнены любви,
из-за кольца, из тьмы разлуки
друзья твердили нам: «Живи!»,
друзья протягивали руки.
Оледеневшие, в огне,
в крови, пронизанные светом,
они вручили вам и мне
единой жизни эстафету.
Безмерно счастие моё.
Спокойно говорю в ответ им:
- Друзья, мы приняли её,
мы держим вашу эстафету.
Мы с ней прошли сквозь дни зимы.
В давящей мгле её терзаний
всей силой сердца жили мы,
всем светом творческих дерзаний.
Да, мы не скроем: в эти дни
мы ели землю, клей, ремни;
но, съев похлёбку из ремней,
вставал к станку упрямый мастер,
чтобы точить орудий части,
необходимые войне.
Но он точил, пока рука
могла производить движенья.
И если падал - у станка,
как падает солдат в сраженье.
И люди слушали стихи,
как никогда, - с глубокой верой,
в квартирах чёрных, как пещеры,
у репродукторов глухих.
И обмерзающей рукой,
перед коптилкой, в стуже адской,
гравировал гравёр седой
особый орден - ленинградский.
Колючей проволокой он,
как будто бы венцом терновым,
кругом - по краю - обведён,
блокады символом суровым.
В кольце, плечом к плечу, втроём -
ребенок, женщина, мужчина,
под бомбами, как под дождем,
стоят, глаза к зениту вскинув.
И надпись сердцу дорога, -
она гласит не о награде,
она спокойна и строга:
«Я жил зимою в Ленинграде».
Так дрались мы за рубежи
твои, возлюблённая жизнь!
И я, как вы, - упряма, зла, -
за них сражалась, как умела.
Душа, крепясь, превозмогла
предательскую немощь тела.
И я утрату понесла.
К ней не притронусь даже словом -
такая боль... И я смогла,
как вы, подняться к жизни снова.
Затем, чтоб вновь и вновь сражаться
за жизнь.
1942 год
Муса Джалиль. Песня девушки
Милый мой, радость жизни моей,
За отчизну уходит в поход.
Милый мой, солнце жизни моей,
Сердце друга с собой унесет.
Я расстанусь с любимым моим,
Нелегко провожать на войну.
Пусть бои он пройдет невредим
И в родную придет сторону.
Весть о том, что и жду, и люблю,
Я джигиту пошлю своему.
Весть о том, что я жду и люблю,
Всех подарков дороже ему.
Ольга Берггольц
Не сына, не младшего брата —
тебя бы окликнуть, любя:
«Волчонок, волчонок, куда ты?
Я очень боюсь за тебя!»
Сама приручать не хотела
и правды сказать не могла.
На юность, на счастье, на смелость,
на гордость тебя обрекла.
Мы так же росли и мужали.
Пусть ноет недавний рубец —
прекрасно, что ранняя жалость
не трогала наших сердец.
И вот зазвенела в тумане,
в холодном тумане струна.
Тебя искушает и манит
на встречу с бессмертьем война.
Прости, я кругом виновата —
горит и рыдает в груди,
«Волчонок, волчонок, куда ты?»
Но я не окликну. Иди.
Евгений Долматовский. Нам хорошо живется на земле
Нам хорошо живется на земле,
Мы спор ведем в уюте и тепле.
С веселой и надменной высоты
Двадцатилетья своего,—
Когда все ясно,
Беспрекословно изрекаешь ты,
Что много жертв принесено напрасно.
Вот, например:
Зачем профессора
В трагическом народном ополченье,
Нестройно и смешно крича «ура»,
В атаку шли, забыв свое значенье?
Как мотылек, раздавлено пенсне,
И первый снег не тает на ресницах.
Об осени не помнят по весне,
И тот октябрь уже не многим снится.
Истерзаны осколками леса,
И от полка бойцов осталась горстка.
Они держались только два часа,
На рваном рубеже Солнечногорска.
Лишь два часа!..
… За этот краткий срок
Успели в том пылающем районе
Собрать младенцев, чтобы на восток
Отправить под бомбежкой в эшелоне.
Насколько помню, ты был в их числе.
… Нам хорошо живется на земле!
Юлия Друнина. Снега, снега...
Всё замело дремучими снегами.
Снега, снега — куда ни бросишь взгляд...
Давно ль скрипели вы под сапогами
Чужих солдат?
Порой не верится, что это было,
А не привиделось в тяжёлом сне...
Лишь у обочин братские могилы
Напоминают о войне.
Снега, снега… Проходят тучи низко,
И кажется — одна из них вот-вот
Гранитного коснётся обелиска
И хлопьями на землю упадёт.
Константин Симонов. У огня
Кружится испанская пластинка.
Изогнувшись в тонкую дугу,
Женщина под черною косынкой
Пляшет на вертящемся кругу.
Одержима яростною верой
В то, что он когда-нибудь придет,
Вечные слова «Yo te quiero»*
Пляшущая женщина поет.
В дымной, промерзающей землянке,
Под накатом бревен и земли,
Человек в тулупе и ушанке
Говорит, чтоб снова завели.
У огня, где жарятся консервы,
Греет свои раны он сейчас,
Под Мадридом продырявлен в первый
И под Сталинградом — в пятый раз.
Он глаза устало закрывает,
Он да песня — больше никого…
Он тоскует? Может быть. Кто знает?
Кто спросить посмеет у него?
Проволоку молча прогрызая,
По снегу ползут его полки.
Южная пластинка, замерзая,
Делает последние круги.
Светит догорающая лампа,
Выстрелы да снега синева…
На одной из улочек Дель-Кампо
Если ты сейчас еще жива,
Если бы неведомою силой
Вдруг тебя в землянку залучить,
Где он, тот голубоглазый, милый,
Тот, кого любила ты, спросить?
Ты, подняв опущенные веки,
Не узнала б прежнего, того,
В грузном поседевшем человеке,
В новом, грозном имени его.
Что ж, пора. Поправив автоматы,
Встанут все. Но, подойдя к дверям,
Вдруг он вспомнит и мигнет солдату:
«Ну-ка, заведи вдогонку нам».
Тонкий луч за ним блеснет из двери,
И метель их сразу обовьет.
Но, как прежде, радуясь и веря,
Женщина вослед им запоет.
Потеряв в снегах его из виду,
Пусть она поет еще и ждет:
Генерал упрям, он до Мадрида
Все равно когда-нибудь дойдет.
* «Я тебя люблю» (исп.).
1943
Людмила Татьяничева. Суровый танец
И на току,
И в чистом поле
В войну я слышала не раз:
- А ну-ка, бабы,
Спляшем, что ли!
И начинался сухопляс.
Без музыки.
Без вскриков звонких,
Сосредоточенны, строги,
Плясали бабы и девчонки,
По-вдовьи повязав платки.
Не павами по кругу плыли,
С ладами чуткими в ладу.
А будто дробно молотили
Цепями горе-лебеду.
Плясали, словно угрожая
Врагу:
- Хоть трижды нас убей,
Воскреснем мы и нарожаем
Отечеству богатырей!
Наперекор нелёгкой доле,
Да так, чтобы слеза из глаз,
Плясали бабы в чистом поле
Суровый танец -
Сухопляс.
Борис Слуцкий. Последнее поколение
Выходит на сцену последнее из поколений войны —
зачатые второпях и доношенные в отчаянии,
Незнамовы и Непомнящие, невесть чьи сыны,
Безродные и Беспрозванные, Непрошеные и Случайные.
Их одинокие матери, их матери-одиночки
сполна оплатили свои счастливые ночки,
недополучили счастья, переполучили беду,
а нынче их взрослые дети уже у всех на виду.
Выходят на сцену не те, кто стрелял и гранаты бросал,
не те, кого в школах изгрызла бескормица гробовая,
а те, кто в ожесточении пустые груди сосал,
молекулы молока оттуда не добывая.
Войны у них в памяти нету, война у них только в крови,
в глубинах гемоглобинных, в составе костей нетвердых.
Их вытолкнули на свет божий, скомандовали: «Живи!» —
в сорок втором, в сорок третьем и даже в сорок четвертом.
Они собираются ныне дополучить сполна
все то, что им при рождении недодала война.
Они ничего не помнят, но чувствуют недодачу.
Они ничего не знают, но чувствуют недобор.
Поэтому все им нужно: знание, правда, удача.
Поэтому жесток и краток отрывистый разговор.
Сергей Островой
Войны начинаются внезапно.
Ходит по границе тишина.
А потом обвал. И сразу пятна.
Красные. И - вот она - война.
Вот она - гремучая, шальная,
Вся в лоскутьях дыма и огня,
Землю под железо подминая,
Целится в тебя или в меня.
Как она к нам кралась. Как таилась.
Заползала в камни. И в траву.
Отступись, погибель, сделай милость.
Я ещё покуда поживу.
Я ещё пройду свои походы.
Горюшко своё хлебну до дна.
Высоко взметнулись наши всходы.
Нам бы жить да жить... А тут война.
И пошла железом по живому.
И упала красная роса.
По всему раздолью полевому
Засвистела смертная коса.
И косила подлая. Косила.
Но уже в народе, в свой черёд,
Поднималась в рост такая сила,
Что любую силу перебьёт.
Ты слыхал, как в голос плачут вдовы?
Отняла мужей у них война.
И сошлись два мира. Две основы.
Два пути. А правда-то одна.
Кто кого! Навеки. Или - или.
Лечь врагу. И никогда не встать.
Мы к нему с бедой не приходили,
Это он пришёл к нам яко тать.
И летят к нам вещих предков зовы.
И ведёт нас в битву торный путь.
Две души. Два мира. Две основы.
Два врага смертельных. Грудь на грудь.
1982, из поэмы "Цыгане"
Александр Твардовский
В тот день, когда окончилась война
И все стволы палили в счёт салюта,
В тот час на торжестве была одна
Особая для наших душ минута.
В конце пути, в далёкой стороне,
Под гром пальбы прощались мы впервые
Со всеми, что погибли на войне,
Как с мёртвыми прощаются живые.
До той поры в душевной глубине
Мы не прощались так бесповоротно.
Мы были с ними как бы наравне,
И разделял нас только лист учётный.
Мы с ними шли дорогою войны
В едином братстве воинском до срока,
Суровой славой их озарены,
От их судьбы всегда неподалёку.
И только здесь, в особый этот миг,
Исполненный величья и печали,
Мы отделялись навсегда от них:
Нас эти залпы с ними разлучали.
Внушала нам стволов ревущих сталь,
Что нам уже не числиться в потерях.
И, кроясь дымкой, он уходит вдаль,
Заполненный товарищами берег.
И, чуя там сквозь толщу дней и лет,
Как нас уносят этих залпов волны,
Они рукой махнуть не смеют вслед,
Не смеют слова вымолвить. Безмолвны.
Вот так, судьбой своею смущены,
Прощались мы на празднике с друзьями.
И с теми, что в последний день войны
Ещё в строю стояли вместе с нами;
И с теми, что её великий путь
Пройти смогли едва наполовину;
И с теми, чьи могилы где-нибудь
Ещё у Волги обтекали глиной;
И с теми, что под самою Москвой
В снегах глубоких заняли постели,
В её предместьях на передовой
Зимою сорок первого; и с теми,
Что, умирая, даже не могли
Рассчитывать на святость их покоя
Последнего, под холмиком земли,
Насыпанном нечуждою рукою.
Со всеми - пусть не равен их удел, -
Кто перед смертью вышел в генералы,
А кто в сержанты выйти не успел -
Такой был срок ему отпущен малый.
Со всеми, отошедшими от нас,
Причастными одной великой сени
Знамён, склонённых, как велит приказ, -
Со всеми, до единого со всеми.
Простились мы.
И смолкнул гул пальбы,
И время шло. И с той поры над ними
Берёзы, вербы, клёны и дубы
В который раз листву свою сменили.
Но вновь и вновь появится листва,
И наши дети вырастут и внуки,
А гром пальбы в любые торжества
Напомнит нам о той большой разлуке.
И не за тем, что уговор храним,
Что память полагается такая,
И не за тем, нет, не за тем одним,
Что ветры войн шумят не утихая.
И нам уроки мужества даны
В бессмертье тех, что стали горсткой пыли.
Нет, даже если б жертвы той войны
Последними на этом свете были, -
Смогли б ли мы, оставив их вдали,
Прожить без них
в своём отдельном счастье,
Глазами их не видеть их земли
И слухом их не слышать мир отчасти?
И, жизнь пройдя по выпавшей тропе,
В конце концов у смертного порога,
В себе самих не угадать себе
Их одобренья или их упрёка!
Что ж, мы трава? Что ж, и они трава?
Нет. Не избыть нам связи обоюдной.
Не мёртвых власть, а власть того родства,
Что даже смерти стало неподсудно.
К вам, павшие в той битве мировой
За наше счастье на земле суровой,
К вам, наравне с живыми, голос свой
Я обращаю в каждой песне новой.
Вам не услышать их и не прочесть.
Строка в строку они лежат немыми.
Но вы - мои, вы были с нами здесь,
Вы слышали меня и знали имя.
В безгласный край, в глухой покой земли,
Откуда нет пришедших из разведки,
Вы часть меня с собою унесли
С листка армейской маленькой газетки.
Я ваш, друзья, - и я у вас в долгу,
Как у живых, - я так же вам обязан.
И если я, по слабости, солгу,
Вступлю в тот след, который мне заказан,
Скажу слова, что нету веры в них,
То, не успев их выдать повсеместно,
Ещё не зная отклика живых, -
Я ваш укор услышу бессловесный.
Суда живых - не меньше павших суд.
И пусть в душе до дней моих скончанья
Живёт, гремит торжественный салют
Победы и великого прощанья.
Илья Эренбург
Наступали. А мороз был крепкий.
Пахло гарью. Дым стоял тяжёлый.
И вдали горели, будто щепки,
Старые насиженные села.
Догорай, что было сердцу любо!
Хмурились и шли ещё поспешней.
А от прошлого остались трубы
Да на голом дереве скворешня.
Над золою женщина сидела, -
Здесь был дом её, родной и милый,
Здесь она любила и жалела
И на фронт отсюда проводила.
Тёплый пепел. Средь густого снега
Что она ещё припоминала!
И какое счастье напоследок
Руки смутные отогревало!
И хотелось бить и сквернословить,
Перебить - от жалости и злобы.
А вдали как будто тёплой кровью
Обливались мёртвые сугробы.
1942
Дмитрий Кедрин - Мы - Родины солдаты
По смерти близких -
Учит нас война
Вести счёт дням без отдыха и сна,
По шрамам -
Битв мы вспоминаем даты,
Мы - Родины бесстрашные солдаты.
У каждого из нас была семья,
Был дом,
Смеялось счастье в нём,
Сияло солнце в нём…
Домов лишились мы.
В ночи на карауле
Мы видим вместо звёзд светящиеся пули,
Нам даже лунный свет претит в полночный час:
Он - лишний,
Он во мгле демаскирует нас.
В окопах мы живём
В ненастье,
В снег,
Во вьюгу.
Нам бороды побрить нет времени друг другу.
Забыли мы любовь…
Но что нам в нашей жизни,
Когда затмили день враги у нас в отчизне?
К чему нам солнца свет,
Который не для всех?
Что смех,
Когда звучит немногим этот смех?
Мы, мстя за всех, идём по вражескому следу,
Чтоб встретить на пути
Иль смерть,
Или победу.
Решимости полны, мы в смертный бой идём,
Чтоб от лихих врагов освободить наш дом.
Вот так-то мы живём, -
Далеко от родни,
По умершим друзьям считая наши дни,
По шрамам -
Битв припоминая даты,
Мы -
Родины бесстрашные солдаты.
Александр Твардовский. О себе
Я покинул дом когда-то,
Позвала дорога вдаль.
Не мала была утрата,
Но светла была печаль.
И годами с грустью нежной —
Меж иных любых тревог —
Угол отчий, мир мой прежний
Я в душе моей берег.
Да и не было помехи
Взять и вспомнить наугад
Старый лес, куда в орехи
Я ходил с толпой ребят.
Лес — ни пулей, ни осколком
Не пораненный ничуть,
Не порубленный без толку,
Без порядку как-нибудь;
Не корчеванный фугасом,
Не поваленный огнем,
Хламом гильз, жестянок, касок
Не заваленный кругом;
Блиндажами не изрытый,
Не обкуренный зимой,
Ни своими не обжитый,
Ни чужими под землей.
Милый лес, где я мальчонкой
Плел из веток шалаши,
Где однажды я теленка,
Сбившись с ног, искал в глуши…
Полдень раннего июня
Был в лесу, и каждый лист,
Полный, радостный и юный,
Был горяч, но свеж и чист.
Лист к листу, листом прикрытый,
В сборе лиственном густом
Пересчитанный, промытый
Первым за лето дождем.
И в глуши родной, ветвистой,
И в тиши дневной, лесной
Молодой, густой, смолистый,
Золотой держался зной.
И в спокойной чаще хвойной
У земли мешался он
С муравьиным духом винным
И пьянил, склоняя в сон.
И в истоме птицы смолкли…
Светлой каплею смола
По коре нагретой елки,
Как слеза во сне, текла…
Мать-земля моя родная,
Сторона моя лесная,
Край недавних детских лет,
Отчий край, ты есть иль нет?
Детства день, до гроба милый,
Детства сон, что сердцу свят,
Как легко все это было
Взять и вспомнить год назад.
Вспомнить разом что придется —
Сонный полдень над водой,
Дворик, стежку до колодца,
Где песочек золотой;
Книгу, читанную в поле,
Кнут, свисающий с плеча,
Лед на речке, глобус в школе
У Ивана Ильича…
Да и не было запрета,
Проездной купив билет,
Вдруг туда приехать летом,
Где ты не был десять лет…
Чтобы с лаской, хоть не детской,
Вновь обнять старуху мать,
Не под проволокой немецкой
Нужно было проползать.
Чтоб со взрослой грустью сладкой
Праздник встречи пережить —
Не украдкой, не с оглядкой
По родным лесам кружить.
Чтоб сердечным разговором
С земляками встретить день —
Не нужда была, как вору,
Под стеною прятать тень…
Мать-земля моя родная,
Сторона моя лесная,
Край, страдающий в плену!
Я приду — лишь дня не знаю,
Но приду, тебя верну.
Не звериным робким следом
Я приду, твой кровный сын,—
Вместе с нашею победой
Я иду, а не один.
Этот час не за горою,
Для меня и для тебя…
А читатель той порою
Скажет:
— Где же про героя?
Это больше про себя.
Про себя? Упрек уместный,
Может быть, меня пресек.
Но давайте скажем честно:
Что ж, а я не человек?
Спорить здесь нужды не вижу,
Сознавайся в чем в другом.
Я ограблен и унижен,
Как и ты, одним врагом.
Я дрожу от боли острой,
Злобы горькой и святой.
Мать, отец, родные сестры
У меня за той чертой.
Я стонать от боли вправе
И кричать с тоски клятой.
То, что я всем сердцем славил
И любил,— за той чертой.
Друг мой, так же не легко мне,
Как тебе с глухой бедой.
То, что я хранил и помнил,
Чем я жил — за той, за той —
За неписаной границей,
Поперек страны самой,
Что горит, горит в зарницах
Вспышек - летом и зимой…
И скажу тебе, не скрою, -
В этой книге, там ли, сям,
То, что молвить бы герою,
Говорю я лично сам.
Я за все кругом в ответе,
И заметь, коль не заметил,
Что и Теркин, мой герой,
За меня гласит порой.
Он земляк мой и, быть может,
Хоть нимало не поэт,
Все же как-нибудь похоже
Размышлял. А нет, ну - нет.
Роберт Рождественский. Сорок трудный год
Сорок трудный год. Омский госпиталь.
Коридоры сухие и маркие.
Шепчет старая нянечка: «Господи,
До чего же артисты маленькие! »
Коридоры широкие, длинные.
Мы почти растворяемся в них
С балалайками, с мандолинами
И с большими пачками книг.
Что в программе? В программе - чтение,
Пара песен военных, «правильных»…
Мы в палату тяжелораненных
Входим с трепетом и почтением.
Двое здесь. Майор артиллерии
С ампутированной ногой,
В сумасшедшем бою под Ельней
На себя принявший огонь.
На пришельцев глядит он весело… .
И другой - до бровей забинтован,
Капитан, таранивший «мессера»
Три недели назад над Ростовом.
Мы вошли. Мы стоим в молчании.
Вдруг срывающимся фальцетом
Абрикосов Гришка отчаянно
Объявляет начало концерта.
А за ним, не вполне совершенно,
Но вовсю запевале внимая,
О народной поём, о священной
Так, как мы её понимаем…
В ней Чапаев сражается заново,
Краснозвёздные мчатся танки.
В ней шагают наши в атаки,
А фашисты падают замертво.
Здесь чужое железо плавится,
Здесь и смерть отступать должна… .
И сказать бы по правде - нравится
Нам такая война… .
Мы поём…. Только голос лётчика
Раздаётся, а в нём укор:
«Погодите, постойте, хлопчики… .
Погодите…. Умер майор… »
Балалайка всплакнула горестно,
Торопливо, будто в бреду… .
Вот и всё о концерте в госпитале
В том далёком военном году.
Вероника Тушнова. Кукла
Много нынче в памяти потухло,
а живёт безделица, пустяк:
девочкой потерянная кукла
на железных скрещенных путях.
Над платформой пар от паровозов
низко плыл, в равнину уходя...
Тёплый дождь шушукался в берёзах,
но никто не замечал дождя.
Эшелоны шли тогда к востоку,
молча шли, без света и воды,
полные внезапной и жестокой,
горькой человеческой беды.
Девочка кричала и просила
и рвалась из материнских рук, -
показалась ей такой красивой
и желанной эта кукла вдруг.
Но никто не подал ей игрушки,
и толпа, к посадке торопясь,
куклу затоптала у теплушки
в жидкую струящуюся грязь.
Маленькая смерти не поверит,
и разлуки не поймёт она...
Так хоть этой крохотной потерей
дотянулась до неё война.
Некуда от странной мысли деться:
это не игрушка, не пустяк, -
это, может быть, обломок детства
на железных скрещенных путях.
1943
Александр Твардовский. Баллада об отречении
Вернулся сын в родимый дом
С полей войны великой.
И запоясана на нем
Шинель каким-то лыком.
Не брита с месяц борода,
Ершится — что чужая.
И в дом пришел он, как беда
Приходит вдруг большая…
Но не хотели мать с отцом
Беде тотчас поверить,
И сына встретили вдвоем
Они у самой двери.
Его доверчиво обнял
Отец, что сам когда-то
Три года с немцем воевал
И добрым был солдатом;
Навстречу гостю мать бежит:
— Сынок, сынок родимый…-
Но сын за стол засесть спешит
И смотрит как-то мимо.
Беда вступила на порог,
И нет родным покоя.
— Как на войне дела, сынок?-
А сын махнул рукою.
А сын сидит с набитым ртом
И сам спешит признаться,
Что ради матери с отцом
Решил в живых остаться.
Родные поняли не вдруг,
Но сердце их заныло.
И край передника из рук
Старуха уронила.
Отец себя не превозмог,
Поникнул головою.
— Ну что ж, выходит так, сынок,
Ты убежал из боя? ..-
И замолчал отец-солдат,
Сидит, согнувши спину,
И грустный свой отводит взгляд
От глаз родного сына.
Тогда глядит с надеждой сын
На материн передник.
— Ведь у тебя я, мать, один —
И первый, и последний.-
Но мать, поставив щи на стол,
Лишь дрогнула плечами.
И показалось, день прошел,
А может год, в молчанье.
И праздник встречи навсегда
Как будто канул в омут.
И в дом пришедшая беда
Уже была, как дома.
Не та беда, что без вреда
Для совести и чести,
А та, нещадная, когда
Позор и горе вместе.
Такая боль, такой позор,
Такое злое горе,
Что словно мгла на весь твой двор
И на твое подворье,
На всю родню твою вокруг,
На прадеда и деда,
На внука, если будет внук,
На друга и соседа…И вот поднялся, тих и строг
В своей большой кручине,
Отец-солдат:- Так вот, сынок,
Не сын ты мне отныне.
Не мог мой сын,- на том стою,
Не мог забыть присягу,
Покинуть Родину в бою,
Притти домой бродягой.Не мог мой сын, как я не мог,
Забыть про честь солдата,
Хоть защищали мы, сынок,
Не то, что вы. Куда там!
И ты теперь оставь мой дом,
Ищи отца другого.
А не уйдешь, так мы уйдем
Из-под родного крова.
Не плачь, жена. Тому так быть.
Был сын — и нету сына,
Легко растить, легко любить.
Трудней из сердца вынуть…-
И что-то молвил он еще
И смолк. И, подняв руку,
Тихонько тронул за плечо
Жену свою, старуху.
Как будто ей хотел сказать:
— Я все, голубка, знаю.
Тебе еще больней: ты — мать,
Но я с тобой, родная.
Пускай наказаны судьбой,-
Не век скрипеть телеге,
Не так нам долго жить с тобой,
Но честь живет вовеки…
-А гость, качнувшись, за порог
Шагнул, нащупал выход.
Вот, думал, крикнут: «Сын, сынок!
Вернись!» Но было тихо.
И, как хмельной, держась за тын,
Прошел он мимо клети.
И вот теперь он был один,
Один на белом свете.
Один, не принятый в семье,
Что отреклась от сына,
Один на всей большой земле,
Что двадцать лет носила.
И от того, как шла тропа,
В задворках пропадая,
Как под ногой его трава
Сгибалась молодая;
И от того, как свеж и чист
Сиял весь мир окольный,
И трепетал неполный лист —
Весенний,- было больно.
И, посмотрев вокруг, вокруг
Глазами не своими,
Кравцов Иван,- назвал он вслух
Свое как будто имя.
И прислонился головой
К стволу березы белой.
— А что ж ты, что ж ты над собой,
Кравцов Иван, наделал?
Дошел до самого конца,
Худая песня спета.
Ни в дом родимого отца
Тебе дороги нету,
Ни к сердцу матери родной,
Поникшей под ударом.
И кары нет тебе иной,
Помимо смертной кары.
Иди, беги, спеши туда,
Откуда шел без чести,
И не прощенья, а суда
Себе проси на месте.
И на глазах друзей-бойцов,
К тебе презренья полных,
Тот приговор, Иван Кравцов,
Ты выслушай безмолвно.
Как честь, прими тот приговор.
И стой, и будь, как воин,
Хотя б в тот м
Вероника Тушнова
Сколько милых ровесников
в братских могилах лежит.
Узловатая липа
родительский сон сторожит.
Все беднее теперь я,
бесплотнее день ото дня,
с каждой новой потерей
все меньше на свете меня.
Черноглазый ребенок...
Давно его, глупого, нет.
Вместо худенькой девушки -
плоский бумажный портрет.
Вместо женщины юной
осталась усталая мать.
Надлежит ей исчезнуть...
Но я не хочу исчезать!
Льются годы рекою,
сто обличий моих хороня,
только с каждой строкою
все больше на свете меня.
Оттого все страшнее мне
браться теперь за перо,
оттого все нужнее
разобраться, где зло, где добро.
Оттого все труднее
бросать на бумагу слова:
вот, мол, люди, любуйтесь,
глядите, мол, я какова!
Чем смогу заплатить я
за эту прекрасную власть,
за высокое право
в дома заходить не стучась?
Что могу?
Что должна я?
Сама до конца не пойму...
Только мне не солгать бы
ни в чем, никогда, никому!
Михаил Исаковский. Весенняя песня
Отходили свое, отгуляли метели,
Отшумела в оврагах вода.
Журавли из-за моря домой прилетели,
Пастухи выгоняют стада.
Веет ветер весенний — то терпкий, то сладкий,
Снятся девушкам жаркие сны.
И все чаще глядят на дорогу солдатки —
Не идут ли солдаты с войны.
Пусть еще и тиха и безлюдна дорога,
Пусть на ней никого не видать, —
Чует сердце — совсем уж, совсем уж немного
Остается теперь ожидать.
Скоро, скоро приказ о победе услышат
В каждом городе, в каждом селе.
Может статься, сегодня его уже пишут
Всем на радость в Московском Кремле.
1945 г.
Сергей Орлов. А мы такую книгу прочитали...
А мы такую книгу прочитали…
Не нам о недочитанных жалеть.
В огне багровом потонули дали
И в памяти остались пламенеть.
Кто говорит о песнях недопетых?
Мы жизнь свою, как песню, пронесли.
Пусть нам теперь завидуют поэты:
Мы все сложили в жизни, что могли.
Как самое великое творенье
Пойдет в века, переживет века
Информбюро скупое сообщенье
О путь-дороге нашего полка.
1945
Константин Симонов
Сколько б ни придумывал фамилий
Мертвым из моих военных книг,
Все равно их в жизни хоронили.
Кто-то ищет каждого из них.
Женщина из Тулы ищет брата,
Без вести пропавшего в Крыму.
Видел ли я сам того солдата
В час, когда явилась смерть к нему?
И в письме из Старого Оскола,
То же имя вычитав из книг,
Детскою рукою пишет школа -
Не ее ли это ученик?
Инвалид войны из той же роты
По приметам друга узнает, -
Если сохранилось его фото,
Просит переснять.
И деньги шлет.
А в четвертом, кратком, из Тагила,
Просят только верный адрес дать:
Сын к отцу желает на могилу,
Не успев при жизни повидать…
Взял я русское простое имя,
Первое из вспомнившихся мне,
Но оно закопано с другими
Слишком много раз на той войне.
На одну фамилию - четыре
Голоса людских отозвалось…
Видно, чтобы люди жили в мире,
Нам дороже всех платить пришлось!
Получаю письма… получаю…
Снова, виноватый без вины,
На запросы близких отвечаю
Двадцать лет, -
как политрук с войны…
Дмитрий Кедрин. Полянка зимняя бела...
Полянка зимняя бела,
В лесу — бурана вой.
Ночная вьюга замела
Окопчик под Москвой.
На черных сучьях белый снег
Причудлив и космат.
Ничком лежат пять человек —
Советских пять солдат.
Лежат. Им вьюга дует в лоб,
Их жжет мороз. И вот —
На их заснеженный окоп
Фашистский танк ползет.
Ползет — и что-то жабье в нем.
Он сквозь завал пролез
И прет, губительным огнем
Прочесывая лес.
«Даешь!» — сказал сержант. «Даешь!»—
Ответила братва.
За ними, как железный еж,
Щетинилась Москва.
А черный танк все лез и лез,
Утаптывая снег.
Тогда ему наперерез
Поднялся человек.
Он был приземист, белокур,
Курнос и синеок.
Холодный глаз его прищур
Был зорок и жесток.
Он шел к машине головной
И помнил, что лежат
В котомке за его спиной
Пять разрывных гранат.
Он массой тела своего
Ей путь загородил.
Так на медведя дед его
С рогатиной ходил.
И танк, паля из всех стволов,
Попятился, как зверь.
Боец к нему, как зверолов,
По насту полз теперь.
Он прятался от пуль за жердь,
За кочку, за хвою,
Но отступающую смерть
Преследовал свою!
И черный танк, взрывая снег,
Пустился наутек,
А коренастый человек
Под гусеницу лег.
И, все собою заслоня,
Величиной в сосну,
Не человек, а столб огня
Поднялся в вышину!
Сверкнул — и через миг померк
Тот огненный кинжал…
Как злая жаба, брюхом вверх,
Разбитый танк лежал.
1943
Дмитрий Кедрин. Усы
Посвящается капитану А. Ерофеевскому
Не назовешь его ни лысым,
Ни гладким, как столовый нож:
Он на Давыдова Дениса,
Гусара славного похож.
Но если в битвах, точно туча,
На скакуне носился тот,
То этот выбрал жребий лучше
И пересел на самолет.
Фашистам в землю влезть охота,
Дрожат коричневые псы,
Когда торчат из самолета
Его гусарские усы!
А он парит над их оравой
И вниз бросает страшный груз,
То левый теребя, то правый
Свой знаменитый пышный ус…
— Я дал зарок, — он мне поведал, —
Что с дня, когда пришла война,
Усов моих до Дня Победы
Коснуться бритва не должна!
Летят горячие недели,
Гремят жестокие бои,
И мне, признаться, надоели
Усы пушистые мои.
Не раз я слышал разговоры.
Что староват уже летать,
Мне девушки дают под сорок,
Хотя мне только двадцать пять.
Что ж! Потерплю! Мы в схватках бранных
Удары множим по врагу.
Уже он близок — день желанный,
Когда я снять зарок могу.
Хоть точный срок его неведом,
Держу я крепко свой обет,
Чтобы в счастливый День Победы
Помолодеть на двадцать лет.
1943
Дмитрий Кедрин. Колыбельная песня
На полу игрушки. В доме тишь.
Мама вяжет. Ты спокойно спишь.
В темно-голубой квадрат окна
Смотрит любопытная луна.
Где-то в небе возникает вдруг
Ровный-ровный, нежный-нежный звук,
Словно деловитая пчела
Песню над цветами завела.
В ясном небе близ луны плывет
Маленький отцовский самолет.
«Спи, сынок!— гудят его винты.—
Чтоб в саду играл спокойно ты,
Чтоб лежали в домике в тылу
Детские игрушки на полу,
Каждый вечер ввысь взлетаю я,
И со мной летят мои друзья!
Вражьи «юнкерсы» еще бомбят
Беззащитных маленьких ребят.
Их глаза незрячие пусты,
Их игрушки кровью залиты!
Чтоб добыть победу, чтоб принесть
Детям счастье, а фашистам месть,—
Чуть настанет вечер, над тобой
Мы летим на Запад, в жаркий бой!..»
В темно-голубой квадрат окна
Смотрит любопытная луна.
На полу игрушки, в доме тишь.
Мама вяжет. Ты спокойно спишь.
Над тобой отцовский самолет
Песню колыбельную поет.
1943
Дмитрий Кедрин. Дети
Страшны еще
Войны гримасы,
Но мартовские дни -
Ясны,
И детвора
Играет в «классы» -
Всегдашнюю
Игру весны.
Среди двора
Вокруг воронки
Краснеют груды кирпича,
А ребятишки
Чуть в сторонке
Толпятся,
Весело крича.
Во взгляде женщины
Несмелом
Видна печаль,
А детвора
Весь день рисует
Клетки мелом
Среди широкого двора.
Железо,
Свернутое в свиток,
Напоминает
О враге,
А мальчуган
На стеклах битых
Танцует
На одной ноге…
Что ж,
Если нас
Враги принудят,
Мы вроем надолбы
В асфальт,
Но дни пройдут -
И так же будет
Звенеть
Беспечный
Детский альт!
Он - вечен!
В смерть душа не верит:
Жизнь не убьют,
Не разбомбят!..
У них эмблема -
Крест и череп.
Мы -
За бессмертный
Смех
Ребят.
1942
Борис Пастернак
Всё нынешней весной особое,
Живее воробьев шумиха.
Я даже выразить не пробую,
Как на душе светло и тихо.
Иначе думается, пишется,
И громкою октавой в хоре
Земной могучий голос слышится
Освобождённых территорий.
Весеннее дыханье родины
Смывает след зимы с пространства
И чёрные от слёз обводины
С заплаканных очей славянства.
Везде трава готова вылезти,
И улицы старинной Праги
Молчат, одна другой извилистей,
Но заиграют, как овраги.
Сказанья Чехии, Моравии
И Сербии с весенней негой,
Сорвавши пелену бесправия,
Цветами выйдут из-под снега.
Всё дымкой сказочной подёрнется,
Подобно завиткам по стенам
В боярской золочёной горнице
И на Василии Блаженном.
Мечтателю и полуночнику
Москва милей всего на свете.
Он дома, у первоисточника
Всего, чем будет цвесть столетье.
Алексей Сурков. Весна
Стыдливый подснежник
Над прелью весенних проталин.
Набухшие почки
Готовы пробрызнуть листвой.
Идёт батальон
Вдоль дымящихся, чёрных развалин.
Звенит синевой
Заднепровский простор ветровой.
Развалины Ржева
И мёртвые улицы Вязьмы
Под солнцем апреля
Стократно страшней и черней.
Пусть долго топтали
В походе весеннюю грязь мы,
Сердца стосковались
По радости солнечных дней.
Хоть тысячу вёрст
Мы по грязи пройдём без привала,
Гремящую смерть
Пронося в молчаливом стволе,
Лишь только б весна
Нам на запад пути открывала
И жизнь воскресала
Для нас на отбитой земле.
Мы знаем -
Вернётся домой из похода не каждый.
Но дали родные
В глазницах развалин сквозят.
И те, кто стране
Присягнули на верность однажды,
Не могут,
Не смеют
В пути оглянуться назад.
Пока не свершим мы
Обета завещанной мести,
Пока не отплатим
За кровь и за слёзы втройне,
Жених молодой
Не придёт на рассвете к невесте,
Сын мать не обнимет,
И муж не вернётся к жене.
Нет в мире вернее
Солдатского русского слова.
Окрепли мы,
Радость и горе по-братски деля.
Душа возмужала
И к подвигам новым готова.
Благослови нас на подвиг,
Родная земля.
Алексей Сурков. Утро победы
Где трава от росы и от крови сырая,
Где зрачки пулемётов свирепо глядят,
В полный рост, над окопом переднего края,
Поднялся победитель-солдат.
Сердце билось о ребра прерывисто, часто.
Тишина… Тишина… Не во сне - наяву.
И сказал пехотинец: - Отмаялись! Баста! -
И приметил подснежник во рву.
И в душе, тосковавшей по свету и ласке,
Ожил радости прежней певучий поток.
И нагнулся солдат и к простреленной каске
Осторожно приладил цветок.
Снова ожили в памяти были живые -
Подмосковье в снегах и в огне Сталинград.
За четыре немыслимых года впервые,
Как ребёнок, заплакал солдат.
Так стоял пехотинец, смеясь и рыдая,
Сапогом попирая колючий плетень.
За плечами пылала заря молодая,
Предвещая солнечный день.
Илья Эренбург. В мае 1945
1
Когда она пришла в наш город,
Мы растерялись. Столько ждать,
Ловить душою каждый шорох
И этих залпов не узнать.
И было столько муки прежней,
Ночей и дней такой клубок,
Что даже крохотный подснежник
В то утро расцвести не смог.
И только — видел я — ребенок
В ладоши хлопал и кричал,
Как будто он, невинный, понял,
Какую гостью увидал.
2
О них когда-то горевал поэт:
Они друг друга долго ожидали,
А встретившись, друг друга не узнали
На небесах, где горя больше нет.
Но не в раю, на том земном просторе,
Где шаг ступи — и горе, горе, горе,
Я ждал ее, как можно ждать любя,
Я знал ее, как можно знать себя,
Я звал ее в крови, в грязи, в печали.
И час настал — закончилась война.
Я шел домой. Навстречу шла она.
И мы друг друга не узнали.
3
Она была в линялой гимнастерке,
И ноги были до крови натерты.
Она пришла и постучалась в дом.
Открыла мать. Был стол накрыт к обеду.
«Твой сын служил со мной в полку одном,
И я пришла. Меня зовут Победа».
Был черный хлеб белее белых дней,
И слезы были соли солоней.
Все сто столиц кричали вдалеке,
В ладоши хлопали и танцевали.
И только в тихом русском городке
Две женщины как мертвые молчали.
1945
Семен Гудзенко. Перед атакой
Когда на смерть идут - поют,
А перед этим можно плакать.
Ведь самый страшный час в бою -
Час ожидания атаки.
Снег минами изрыт вокруг
И почернел от пыли минной.
Разрыв - и умирает друг.
И значит - смерть проходит мимо.
Сейчас настанет мой черёд,
За мной одним идёт охота.
Будь проклят сорок первый год,
И вмёрзшая в снега пехота.
Мне кажется, что я магнит,
Что я притягиваю мины.
Разрыв - и лейтенант хрипит.
И смерть опять проходит мимо.
Но мы уже не в силах ждать.
И нас ведёт через траншеи
Окоченевшая вражда,
Штыком дырявящая шеи.
Бой был короткий. А потом
Глушили водку ледяную,
И выковыривал ножом
Из-под ногтей я кровь чужую.
октябрь 1942
Михаил Кульчицкий
***
Мечтатель, фантазер, лентяй-завистник!
Что? Пули в каску безопасней капель?
И всадники проносятся со свистом
вертящихся пропеллерами сабель.
Я раньше думал: «лейтенант»
звучит вот так: «Налейте нам!»
И, зная топографию,
он топает по гравию.
Война — совсем не фейерверк,
а просто — трудная работа,
когда,
черна от пота,
вверх
скользит по пахоте пехота.
Марш!
И глина в чавкающем топоте
до мозга костей промерзших ног
наворачивается на чеботы
весом хлеба в месячный паек.
На бойцах и пуговицы вроде
чешуи тяжелых орденов.
Не до ордена.
Была бы Родина
с ежедневными Бородино.
26 декабря 1942, Хлебниково-Москва
Александр Межиров
***
Мы под Колпином скопом стоим,
Артиллерия бьет по своим.
Это наша разведка, наверно,
Ориентир указала неверно.
Недолет. Перелет. Недолет.
По своим артиллерия бьет.
Мы недаром присягу давали.
За собою мосты подрывали, —
Из окопов никто не уйдет.
Недолет. Перелет. Недолет.
Мы под Колпином скопом лежим
И дрожим, прокопченные дымом.
Надо все-таки бить по чужим,
А она — по своим, по родимым.
Нас комбаты утешить хотят,
Нас, десантников, армия любит...
По своим артиллерия лупит, —
Лес не рубят, а щепки летят.
Борис Слуцкий
Голос друга
Памяти поэта Михаила Кульчицкого
Давайте после драки
Помашем кулаками,
Не только пиво-раки
Мы ели и лакали,
Нет, назначались сроки,
Готовились бои,
Готовились в пророки
Товарищи мои.
Сейчас все это странно,
Звучит все это глупо.
В пяти соседних странах
Зарыты наши трупы.
И мрамор лейтенантов —
Фанерный монумент —
Венчанье тех талантов,
Развязка тех легенд.
За наши судьбы (личные),
За нашу славу (общую),
За ту строку отличную,
Что мы искали ощупью,
За то, что не испортили
Ни песню мы, ни стих,
Давайте выпьем, мертвые,
За здравие живых!
***
Ах, война, что ж ты сделала, подлая:
стали тихими наши дворы,
наши мальчики головы подняли,
повзрослели они до поры,
на пороге едва помаячили
и ушли за солдатом солдат...
До свидания, мальчики! Мальчики,
постарайтесь вернуться назад.
Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими,
не жалейте ни пуль, ни гранат
и себя не щадите вы... И все-таки
постарайтесь вернуться назад.
Ах, война, что ж ты, подлая, сделала:
Вместо свадеб — разлуки и дым!
Наши девочки платьица белые
Раздарили сестренкам своим.
Сапоги... Ну куда от них денешься?
Да зеленые крылья погон...
Вы наплюйте на сплетников, девочки!
Мы сведем с ними счеты потом.
Пусть болтают, что верить вам не во что,
Что идете войной наугад...
До свидания, девочки! Девочки,
Постарайтесь вернуться назад!
1958
Владимир Высоцкий. Братские могилы
На братских могилах не ставят крестов,
И вдовы на них не рыдают,
К ним кто-то приносит букеты цветов,
И Вечный огонь зажигают.
Здесь раньше вставала земля на дыбы,
А нынче - гранитные плиты.
Здесь нет ни одной персональной судьбы -
Все судьбы в единую слиты.
А в Вечном огне виден вспыхнувший танк,
Горящие русские хаты,
Горящий Смоленск и горящий рейхстаг,
Горящее сердце солдата.
У братских могил нет заплаканных вдов -
Сюда ходят люди покрепче.
На братских могилах не ставят крестов,
Но разве от этого легче?..
1964
Фёдор Сухов
Провожали меня на войну,
До дороги меня провожали,
На село я прощально взглянул,
И вдруг губы мои задрожали.
Ничего б не случилось со мной,
Если б я невзначай разрыдался, -
Я прощался с родной стороной,
Сам с собою, быть может, прощался.
А какая стояла пора!
Лето в полном цвету медовело.
Собирались косить клевера,
Рожь от жаркого солнышка млела.
Поспевала высокая рожь,
Наливалась густая пшеница,
И овёс, что так быстро подрос,
Прямо в ноги спешил поклониться.
Заиграла, запела гармонь,
Всё сказала своими ладами,
И платок с голобую каймой
Мне уже на прощанье подарен.
В отдалении гром грохотнул,
Был закат весь в зловещем пожаре…
Провожали меня на войну,
До дороги большой провожали.
Расул Гамзатов
Нас двадцать миллионов.
От неизвестных и до знаменитых,
Сразить которых годы не вольны,
Нас двадцать миллионов незабытых,
Убитых, не вернувшихся с войны.
Нет, не исчезли мы в кромешном дыме,
Где путь, как на вершину, был не прям.
Ещё мы женам снимся молодыми,
И мальчиками снимся матерям.
А в День Победы сходим с пьедесталов,
И в окнах свет покуда не погас,
Мы все от рядовых до генералов
Находимся незримо среди вас.
Есть у войны печальный день начальный,
А в этот день вы радостью пьяны.
Бьёт колокол над нами поминальный,
И гул венчальный льётся с вышины.
Мы не забылись вековыми снами,
И всякий раз у Вечного огня
Вам долг велит советоваться с нами,
Как бы в раздумье головы клоня.
И пусть не покидает вас забота
Знать волю не вернувшихся с войны,
И перед награждением кого-то
И перед осуждением вины.
Всё то, что мы в окопах защищали
Иль возвращали, кинувшись в прорыв,
Беречь и защищать вам завещали,
Единственные жизни положив.
Как на медалях, после нас отлитых,
Мы все перед Отечеством равны
Нас двадцать миллионов незабытых,
Убитых, не вернувшихся с войны.
Где в облаках зияет шрам наскальный,
В любом часу от солнца до луны
Бьёт колокол над нами поминальный
И гул венчальный льётся с вышины.
И хоть списали нас военкоматы,
Но недругу придется взять в расчёт,
Что в бой пойдут и мёртвые солдаты,
Когда живых тревога призовёт.
Будь отвратима, адова година.
Но мы готовы на передовой,
Воскреснув, вновь погибнуть до едина,
Чтоб не погиб там ни один живой.
И вы должны, о многом беспокоясь,
Пред злом ни шагу не подавшись вспять,
На нашу незапятнанную совесть
Достойное равнение держать.
Живите долго, праведно живите,
Стремясь весь мир к собратству
сопричесть,
И никакой из наций не хулите,
Храня в зените собственную честь.
Каких имён нет на могильных плитах!
Их всех племён оставили сыны.
Нас двадцать миллионов незабытых,
Убитых, не вернувшихся с войны.
Падучих звёзд мерцает зов сигнальный,
А ветки ив плакучих склонены.
Бьёт колокол над нами поминальный,
И гул венчальный льётся с вышины.
Александр Твардовский. Две строчки
Из записной потертой книжки
Две строчки о бойце-парнишке,
Что был в сороковом году
Убит в Финляндии на льду.
Лежало как-то неумело
По-детски маленькое тело.
Шинель ко льду мороз прижал,
Далеко шапка отлетела.
Казалось, мальчик не лежал,
А все еще бегом бежал
Да лед за полу придержал…
Среди большой войны жестокой,
С чего — ума не приложу,
Мне жалко той судьбы далекой,
Как будто мертвый, одинокий,
Как будто это я лежу,
Примерзший, маленький, убитый
На той войне незнаменитой,
Забытый, маленький, лежу.
1943
Самуил Маршак. Четвёрка дружная ребят
Четвёрка дружная ребят
Идёт по мостовой.
О чём-то громко говорят
Они между собой.
— Мне шесть, седьмой!
— Мне семь, восьмой!
— Мне скоро будет пять.
— Пойдет девятый мне зимой,
Мне в школу поступать.
— Ушёл сегодня мой отец.
— А мой ушёл вчера.
— Мой брат и прежде был боец.
— Моя сестра — сестра!
— Сегодня дома из мужчин
Остался я один.
Работы столько у меня,
Что не хватает дня.
Я гвоздь прибил.
Песок носил.
Насыпал два мешка.
Расчистил двор
И всякий сор
Убрал я с чердака.
— На фабрику уходит мать,
А детям нужен глаз.
Я их учу маршировать,
Носить противогаз!
— Нельзя ребятам на войну,
Пока не подрастут.
Но защищать свою страну
Сумеем мы и тут!
Четвёрка дружная ребят
Идет по мостовой.
И слышу: громко говорят
Они между собой.
Корней Чуковский. Ленинградским детям
Стих для взрослых
Промчатся над вами
Года за годами,
И станете вы старичками.
Теперь белобрысые вы,
Молодые,
А будете лысые вы
И седые.
И даже у маленькой Татки
Когда-нибудь будут внучатки,
И Татка наденет большие очки
И будет вязать своим внукам перчатки,
И даже двухлетнему Пете
Будет когда-нибудь семьдесят лет,
И все дети, всё дети на свете
Будут называть его: дед.
И до пояса будет тогда
Седая его борода.
Так вот, когда станете вы старичками
С такими большими очками,
И чтоб размять свои старые кости,
Пойдете куда-нибудь в гости, –
(Ну, скажем, возьмете внучонка Николку
И поведете на елку),
Или тогда же, – в две тысячи двадцать
четвертом году; –
На лавочку сядете в Летнем саду.
Или не в Летнем саду, а в каком-нибудь
маленьком скверике
В Новой Зеландии или в Америке,
– Всюду, куда б ни заехали вы, всюду,
везде, одинаково,
Жители Праги, Гааги, Парижа, Чикаго
и Кракова –
На вас молчаливо укажут
И тихо, почтительно скажут:
«Он был в Ленинграде… во время
осады…
В те годы… вы знаете… в годы
… блокады»
И снимут пред вами шляпы.
Елена Благинина. Шинель
— Почему ты шинель
бережёшь? —
я у папы спросила.
— Почему не порвёшь,
не сожжёшь? —
я у папы спросила. —
Ведь она и грязна и стара,
приглядись-ка получше,
на спине вон какая дыра,
приглядись-ка получше!
— Потому я её берегу, —
отвечает мне папа, —
потому не порву, не сожгу, —
отвечает мне папа, —
потому мне она дорога,
что вот в этой шинели
мы ходили, дружок, на врага
и его одолели.
Михаил Садовский. Шинель
К чему такая канитель:
Кроить и лицевать…
Надену старую шинель —
На моду наплевать!
Она любой дохи теплей
И прибавляет сил,
Отец ведь был на фронте в ней,
Отец её носил.
Она почти что мне до пят,
И рукава длинны,
Но кто достанет из ребят
Шинель, шинель с войны?!
Всё! Решено!
Я в ней иду.
Я в школу в ней пошёл
И самый лучший день в году
В шинели той провёл.
Но дружным был наш пятый класс —
Никто не отставал.
На утро не узнаешь нас:
В шинелях класс шагал.
По снегу полы волоча,
Мы гордо в школу шли,
Мы и подумать в этот час
О боли не могли.
А мы несли её с собой:
Не все шинель нашли,
У всех отцы ушли на бой,
Не все назад пришли.
Как много было вас в пальто,
Ребята…
кто же знал…
И больше, в класс идя, никто
Шинель не надевал.
Сергей Михалков. Десятилетний человек
Крест-накрест белые полоски
На окнах съежившихся хат.
Родные тонкие березки
Тревожно смотрят на закат.
И пес на теплом пепелище,
До глаз испачканный в золе.
Он целый день кого-то ищет
И не находит на селе.
Накинув драный зипунишко,
По огородам, без дорог,
Спешит, торопится парнишка
По солнцу, прямо на восток.
Никто в далекую дорогу
Его теплее не одел,
Никто не обнял у порога
И вслед ему не поглядел,
В нетопленой, разбитой бане,
Ночь скоротавши, как зверек,
Как долго он своим дыханьем
Озябших рук согреть не мог!
Но по щеке его ни разу
Не проложила путь слеза,
Должно быть, слишком много сразу
Увидели его глаза.
Все видевший, на все готовый,
По грудь проваливаясь в снег,
Бежал к своим русоголовый
Десятилетний человек.
Он знал, что где-то недалече,
Быть может, вон за той горой,
Его, как друга, в темный вечер
Окликнет русский часовой.
И он, прижавшийся к шинели,
Родные слыша голоса,
Расскажет все, на что глядели
Его недетские глаза.
1942
Ольга Берггольц. Пусть голосуют дети
Я в госпитале мальчика видала.
При нём снаряд убил сестру и мать.
Ему ж по локоть руки оторвало.
А мальчику в то время было пять.
Он музыке учился, он старался.
Любил ловить зеленый круглый мяч…
И вот лежал - и застонать боялся.
Он знал уже: в бою постыден плач.
Лежал тихонько на солдатской койке,
обрубки рук вдоль тела протянув…
О, детская немыслимая стойкость!
Проклятье разжигающим войну!
Проклятье тем, кто там, за океаном,
за бомбовозом строит бомбовоз,
и ждет невыплаканных детских слез,
и детям мира вновь готовит раны.
О, сколько их, безногих и безруких!
Как гулко в черствую кору земли,
не походя на все земные звуки,
стучат коротенькие костыли.
И я хочу, чтоб, не простив обиды,
везде, где люди защищают мир,
являлись маленькие инвалиды,
как равные с храбрейшими людьми.
Пусть ветеран, которому от роду
двенадцать лет,
когда замрут вокруг,
за прочный мир,
за счастие народов
подымет ввысь обрубки детских рук.
Пусть уличит истерзанное детство
тех, кто войну готовит, - навсегда,
чтоб некуда им больше было деться
от нашего грядущего суда.
Анна Ахматова. Памяти Вали
1
Щели в саду вырыты,
Не горят огни.
Питерские сироты,
Детоньки мои!
Под землей не дышится,
Боль сверлит висок,
Сквозь бомбежку слышится
Детский голосок.
2
Постучи кулачком - я открою.
Я тебе открывала всегда.
Я теперь за высокой горою,
За пустыней, за ветром и зноем,
Но тебя не предам никогда…
Твоего я не слышала стона.
Хлеба ты у меня не просил.
Принеси же мне ветку клена
Или просто травинок зеленых,
Как ты прошлой весной приносил.
Принеси же мне горсточку чистой,
Нашей невской студеной воды,
И с головки твоей золотистой
Я кровавые смою следы.
Наум Коржавин. Дети в Освенциме
Мужчины мучили детей.
Умно. Намеренно. Умело.
Творили будничное дело,
Трудились - мучили детей.
И это каждый день опять:
Кляня, ругаясь без причины…
А детям было не понять,
Чего хотят от них мужчины.
За что - обидные слова,
Побои, голод, псов рычанье?
И дети думали сперва,
Что это за непослушанье.
Они представить не могли
Того, что было всем открыто:
По древней логике земли,
От взрослых дети ждут защиты.
А дни всё шли, как смерть страшны,
И дети стали образцовы.
Но их всё били.
Так же.
Снова.
И не снимали с них вины.
Они хватались за людей.
Они молили. И любили.
Но у мужчин «идеи» были,
Мужчины мучили детей.
Я жив. Дышу. Люблю людей.
Но жизнь бывает мне постыла,
Как только вспомню: это - было!
Мужчины мучили детей!
Ольга Фокина. Я помню соседей по тем временам (отрывок)
... Идти по деревне куски собирать
Мы сами решили: страшно' умирать.
И мать, наклонясь над грудным малышом,
Сказала спокойно: "Ну, что ж, хорошо!"
(Что стоило это спокойствие ей,
Я знаю, пожалуй, получше людей.
Была моя мама добра, но горда:
За спичкой в соседи - и то никогда!
За спичками - стыдно. За солью - вдвойне.
Но пятеро нас накопилось к войне.
Кормилец - в могиле, малец - в подолу.
Верёвка для петли - в поветном углу.)
Дала нам она по суме из холста,
Велела просить, поминая Христа.
(Безбожница - мать! Колхозный актив!
Тебя не виню я, ты - тоже прости:
Ослушаться смела и, где ни была,
Я имя Христа помянуть не могла.
Зачем поминать? Для кого поминать?
Соседи и сами должны понимать.)
Я криком кричала, молчанье храня:
Подайте, коль можете, ради меня!
И ради братишек, таких же, как я!
И руку выпрастывала из тряпья.
У каждого дома я помню крыльцо.
И тёмные сени(а чьи-то - светлей).
И двери тугие(а чьи-то слабей).
И помню пороги: одни - высоки,
Другие - пониже. И помню куски.
И помню глаза подававших людей...
Я вечный должник у деревни моей.
Перила - краюшки, ступеньки - ломти, -
Без этой бы лесенки мне не взойти,
И самую лучшую песню мою
Я людям, соседям моим отдаю.
Но помню и этот, один изо всех,
Не сдержанный, к корке добавленный, смех.
Безжалостный, сытый, ехидный смешок,
Он ранил навылет, сквозь душу прошёл.
И тем, что живу я, и тем, что дышу,
Я этому смеху, наверное, мщу.
Глеб Горбовский. Блокадная дверь
Ледяная спит скала
на дворовом днище.
Тень последняя ушла
в вечность — из жилища.
Всё. В квартире тишь теперь.
Ни души. Ни гнома...
Лишь выпрыгивают в дверь
звуки метронома.
В первый раз не заперта,
дверь стояла — настежь.
Из её большого рта
ни дымка, ни "здрастье".
Ветер, жалок и бескрыл,
забредя с панели,
дверь несчастную закрыл
через три недели.
Вот и всё. И номерок
на эмали пыльной...
Мир остался. А мирок
лопнул, словно мыльный.
Мир за окнами сиял
инеем и верой!
Мир остался. Устоял.
Был больших размеров.
...И теперь не ты, не я
вместо прежних, вместо! —
воротилась тень твоя
в каменный подъезд тот.
Дверь ощупала, а день
к солнцу был нацелен!
И прошла сквозь нашу тень
девочка с портфелем.
Стало весело, поверь:
фартук, две косички...
И смеялась наша дверь
тоненько, как птичка.
Глеб Горбовский
"22-го июня ровно в 4 часа..."
Такого дня - не уготовь
нам заново судьба!
Я этот день ношу, как кровь,
в себе - за гранью лба.
Был я в тот день и глуп, и мал,
но - ощутил беду,
как бы узрел Девятый вал,
спасаясь на плоту.
Лавина стали и свинца
прогнула грудь страны.
И Сталин был нам за отца
(с улыбкой сатаны).
Война втоптала сонмы душ
невинных - в кровь и грязь.
А ведь причина бойни - чушь:
то бишь - борьба за власть.
...Я помню реченьку Шелонь,
стрельбу и первый труп,
с цепи сорвавшийся огонь
и крик истошный - с губ!
Муса Джалиль. Чулочки
Их расстреляли на рассвете
Когда еще белела мгла,
Там были женщины и дети
И эта девочка была.
Сперва велели им раздеться,
Затем к обрыву стать спиной,
И вдруг раздался голос детский
Наивный, чистый и живой:
-Чулочки тоже снять мне, дядя?
Не упрекая, не браня,
Смотрели прямо в душу глядя
Трехлетней девочки глаза.
«Чулочки тоже..?»
И смятеньем эсесовец объят.
Рука сама собой в волнении
Вдруг опускает автомат.
И снова скован взглядом детским,
И кажется, что в землю врос.
«Глаза, как у моей Утины» —
В смятеньи смутном произнес,
Овеянный невольной дрожью.
Нет! Он убить ее не сможет,
Но дал он очередь спеша…
Упала девочка в чулочках.
Снять не успела, не смогла.
Солдат, солдат, а если б дочка
Твоя вот здесь бы так легла,
И это маленькое сердце
Пробито пулею твоей.
Ты человек не просто немец,
Ты страшный зверь среди людей.
Шагал эсесовец упрямо,
Шагал, не подымая глаз.
Впервые может эта дума
В сознании отравленном зажглась,
И снова взгляд светился детский,
И снова слышится опять,
И не забудется навеки
«ЧУЛОЧКИ, ДЯДЯ, ТОЖЕ СНЯТЬ?»
Юрий Яковлев
Пройдут года, и вот однажды вечером
Вдруг спросит дочка, перестав играть:
"А верно, мама, ты была ефрейтором.
И не боялась из ружья стрелять?"
Ты дочку приласкаешь и пригреешь.
Посадишь на колени и тогда
Расскажешь ей про нашу батарею.
Про всех про нас, про трудные года...
Расскажешь ей, как мёрзла на разведке.
Как исправляла линию в метель.
Покажешь ей со звёздочкой беретку
И старую, потёртую шинель.
А дочка тихой и серьёзной станет.
Потёртую пилотку теребя.
И вдруг пилотку на себя натянет.
Чтоб быть хоть чуть похожей на тебя.
Завтра, доченька, нас убьют.
Я тебе не скажу об этом,
Спи. До смерти и до рассвета
Нам осталось сто пять минут.
Жизнь -такая же круговерть,
Как метель за окошком в клетку,
Остановит метели смерть,
Завтра, доченька. Завтра, детка.
Из костей прямо в небо мост,
По нему побредем мы тихо,
Свет от жёлтых еврейских звёзд,
Словно ягоды облепихи.
И откроются небеса,
И не смазано скрипнут дверцы,
Будут сухи мои глаза,
И давно не рыдает сердце.
Упадут наши платья с плеч,
Облака, словно хлопья дыма,
И нас ласково примет печь,
И проглотит ещё живыми.
От сапог на золе следы,
И сирена завоет тонко,
Большей нет на земле беды,
Чем не смочь уберечь ребёнка.
Завтра, доченька, нас убьют,
Льётся дождь из небесной лейки.
Не надеясь на божий суд,
Я сожму твою тонкую шейку.
Спи спокойно. Моя вина.
Спи, мой ангел. Лети, как птица…
Я сгорю за тебя сама.
Пусть тебе ничего не снится.
Александр Гутин
Ольга Фокина
Человек разумный, коль не спрошен,
Не начнёт о горьком говорить:
Хорошо припомнить о хорошем!
О худом - не худо б и забыть...
Но добра без худа не бывает.
И без «горько» «сладко» не живёт.
Отрезаю край у каравая,
На ломоть намазываю мёд.
И, как лента, скрученная туго,
Вдруг освобождённая от пут,
Память расправляется упруго,
Прошлое живьём: - Я есть! Я - тут!
...Что я помню? Зыбку возле печи
Очепок берёзовый качнул,
И родной огромный человече
На своё плечо меня взметнул:
Из тепла пелёночного - в стужу
Потолочин, в блёстках золотых
Смолки... и меня объемлет ужас,
Сладкий ужас горней высоты.
Но, собрав мои босые ножки
В горсть, отец смеётся: - Не боись! -
...Новые - под матицею - ложки
Расписные в связке: счастья близь!
Я ещё тяну ручонки к ложкам,
Но уже низвергнута с высот,
В красном платье синеньким горошком
Отражаюсь в тёмной глуби вод:
Ha полу (взялась откуда?!) бочка
Родниковой влагою полна!
Мама беспокоится за дочку:
- Перестань! Мала еще она! -
Но меня кунают без опаски
В тёплый омут - аж до головы!
...Мама нынче избу моет к Пасхе:
Лавки, стены, потолок, полы...
Мне три года. Хлопотное утро.
Хлеб из печи мама достает,
Говоря: - На скатерти покуда
Пусть маленько хлебец отдохнёт,
Поостынет. Будьте осторожней
С ножиком, со спичками. А я
Побегу до вечера на пожню... -
Успевает мама-палея
Щей горшок задвинуть на загнетку,
Таз под рукомойкой сполоснуть,
Под окном шумит уже соседка
С граблями, - торопит маму в путь,
Но, со лба потинки убирая,
На порог - отец:
- Постой чуток!
Я на складе получил у Раи,
Кладовщицы, с пасеки медок! -
И отпластанув ножом краюху,
Он буханку режет на ломти,
И в меду от уха и до уха,
Мы ломти горячие едим...
Это было, было, было, было!
...А потом - другое началось:
Мать отца к подводе проводила
И пришла, промокшая насквозь.
Увезла подвода, укатила
Мужиков куда-то «на войну»,
И обратно их не возвратила
До сих пор. И я не возверну.
...Лист бумажный свёрнут в треугольник,
Адрес - фиолетовая вязь
Буковок неровных...
Юный школьник
Грамоту осваивает всласть:
- Всё «Боровичи» писал, а, гляньте,
Нынче пишет «Барановичи»,
Знать, ошибся он, как я в диктанте,
За который тройку получил!
Карандаш химический-то сильно
Был послюнен, то почти что сух... -
Маме выяснять сомненья сына
Второпях, за стиркой, недосуг:
- Ты читай, читай, чего в письме-то?
- «Жив-здоров, того желаю вам.
Тришку, вот, убило... Бритву эту,
Тришкину, вернусь, семье отдам»...
Топим печку. В чугунке - картошка
Варится: вода кипит ключом!
Мы глядим в вечернее окошко,
На узоры инея на нём.
Не цветы невиданных растений
Нам рисует крепнущий мороз,
Колышки, колючки заграждений
Проволочных... Жизнь пошла всерьёз.
И, лучинкой пробуя картошку -
Не готова ль? - в бурном чугунке,
Мы спасти не можем «Тришку» - крошку
Той лучинки, - тонет в кипятке!
Но зато штырёк в руке у брата
Не кренясь стоит среди картох:
Это - «Тятя». Он придёт обратно!
Наше ликованье. Мамин вздох.
Мамин вздох! Я слышу и поныне,
Через шестьдесят с излишком лет,
Этот вздох.
И кровь по жилам стынет:
Этот вздох - начало новых бед...
Ольга Фокина. Памяти отца
...Без сил,
Как посудина без обручей!
Сумел, упросил
Госпитальных врачей:
Мол, раз безнадёжен...
А там - на сносях
Жена!.. И, быть может...
И плакал, прося.
Ворчали, конечно:
- Тебе ль не постель?
Всё ж выдали вместо
Пижамы шинель!
...Ботинки, обмотки
Надел-таки, смог!
В котомку - с пилотки -
Дорожный паёк...
- Как жив-то?
- Терпимо...
- Так рад?
- Как не рад!
- Прощай, побратимы!
- Счастливо, солдат!
...На улицу вышел
В глазах - зелено.
Качаются крыши,
Земля - ходуном.
Не шибко, не ходко,
А всё ж зашагал,
Ботинки-обмотки
Не зря надевал!
...Старушка сказала,
В какой стороне,
Добрёл до вокзала:
Теперь - на коне!
В вагон поместиться
(«Ляжь - я уж спала»)
Душа-проводница
Ему помогла.
Без простынь-подушки
Судьба хороша:
Берёзки, елушки
В окне мельтешат.
На смену копёнкам
Вдруг встанет стожок:
(«Никто же их жёнкам
Сметать не помог:
Бока - неочёсы!
Верха - не остры!
И криво, и косо
Стоят стожары»...)
Сойти б, переставить,
Стога перекласть,
Остожье поправить,
Под стогом упасть,
Чтоб сено - за ворот,
И в нос, и в глаза,
Чтоб въедливый порох
Не вис на усах,
Чтоб запахи тлена
Из памяти - вон!
...Его постепенно
Заманивал в сон
То сноп позабытый,
То речки изгиб,
То крепкий, завидный -
Хоть выскочи! - гриб...
Пилотка свалилась:
Так сон повелел!
И всё получилось,
Как он захотел:
Из речки умылся!
Стожок подровнял!
К грибу наклонился -
На губницу взял...
Как маленький в зыбке,
Утешен во снах:
Блуждает улыбка
На сизых губах!
...Не в отпуск - гостить,
Не косить, не метать, -
Его отпустили
Домой - умирать...
Всеволод Рождественский. За круглым столом
Когда мы сойдемся за круглым столом,
Который для дружества тесен,
И светлую пену полнее нальем
Под гул восклицаний и песен,
Когда мы над пиршеством сдвинем хрусталь
И тонкому звону бокала
Рокочущим вздохом ответит рояль,
Что время разлук миновало, -
В сиянии елки, сверканье огней
И блестках вина золотого
Я встану и вновь попрошу у друзей
Простого заздравного слова.
Когда так победно сверкает струя
И празднует жизнь новоселье,
Я так им скажу: «Дорогие друзья!
Тревожу я ваше веселье.
Двенадцать ударов. Рождается год.
Беспечны и смех наш и пенье,
А в памяти гостем нежданным встает
Жестокое это виденье.
Я вижу, как катится каменный дым
К глазницам разбитого дзота,
Я слышу — сливается с сердцем моим
Холодная дробь пулемета.
«Вперед!» — я кричу и с бойцами бегу,
И вдруг — нестерпимо и резко —
Я вижу его на измятом снегу
В разрыве внезапного блеска.
Царапая пальцами скошенный рот
И снег раздирая локтями,
Он хочет подняться, он с нами ползет
Туда, в этот грохот и пламя,
И вот уже сзади, на склоне крутом,
Он стынет в снегу рыжеватом —
Оставшийся парень с обычным лицом,
С зажатым в руке автоматом…
Как много их было — рязанских, псковских,
Суровых в последнем покое!
Помянем их молча и выпьем за них,
За русское сердце простое!
Бесславный конец уготован врагу, -
И с нами на празднестве чести
Все те, перед кем мы в безмерном долгу,
Садятся по дружеству вместе.
За них до краев и вино налито,
Чтоб жизнь, продолжаясь, сияла.
Так чокнемся молча и выпьем за то,
Чтоб время разлук миновало!».
Константин Симонов. Тот самый длинный день в году
Тот самый длинный день в году
С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду
На всех, на все четыре года.
Она такой вдавила след
И стольких наземь положила,
Что двадцать лет и тридцать лет
Живым не верится, что живы.
А к мертвым, выправив билет,
Все едет кто-нибудь из близких,
И время добавляет в списки
Еще кого-то, кого нет…
И ставит,
ставит
обелиски.
Константин Симонов. На час запомнив имена…
На час запомнив имена, —
Здесь память долгой не бывает, —
Мужчины говорят: «Война…» —
И наспех женщин обнимают.
Спасибо той, что так легко,
Не требуя, чтоб звали милой,
Другую, ту, что далеко,
Им торопливо заменила.
Она возлюбленных чужих
Здесь пожалела, как умела,
В недобрый час согрела их
Теплом неласкового тела.
А им, которым в бой пора
И до любви дожить едва ли,
Все легче помнить, что вчера
Хоть чьи-то руки обнимали.
Я не сужу их, так и знай.
На час, позволенный войною,
Необходим нехитрый рай
Для тех, кто послабей душою.
Пусть будет все не так, не то,
Но вспомнить в час последней муки
Пускай чужие, но зато
Вчерашние глаза и руки.
В другое время, может быть,
И я бы прожил час с чужою,
Но в эти дни не изменить
Тебе ни телом, ни душою.
Как раз от горя, от того,
Что вряд ли вновь тебя увижу,
В разлуке сердца своего
Я слабодушьем не унижу.
Случайной лаской не согрет,
До смерти не простясь с тобою,
Я милых губ печальный след
Навек оставлю за собою.
Степан Щипачев. 22 июня 1941 года
Казалось, было холодно цветам,
и от росы они слегка поблёкли.
Зарю, что шла по травам и кустам,
обшарили немецкие бинокли.
Цветок, в росинках весь, к цветку приник,
и пограничник протянул к ним руки.
А немцы, кончив кофе пить, в тот миг
влезали в танки, закрывали люки.
Такою всё дышало тишиной,
что вся земля ещё спала, казалось.
Кто знал, что между миром и войной
всего каких-то пять минут осталось!
Я о другом не пел бы ни о чём,
а славил бы всю жизнь свою дорогу,
когда б армейским скромным трубачом
я эти пять минут трубил тревогу.
Феликс Лаубе. Довоенный вальс
Мирное небо над крепостью Бреста,
В тесной квартире счастливые лица.
Вальс. Политрук приглашает невесту,
Новенький кубик блестит на петлице.
А за окном, за окном красота новолунья,
Шепчутся с Бугом плакучие ивы.
Год сорок первый, начало июня.
Все ещё живы, все ещё живы,
Все ещё живы, все, все, все.
Смотрит на Невском с афиши Утёсов,
В кинотеатрах идёт "Волга-Волга".
Снова Кронштадт провожает матросов:
Будет учебным поход их недолго.
А за кормой, за кормой белой ночи раздумье,
Кружатся чайки над Финским заливом.
Год сорок первый, начало июня.
Все ещё живы, все ещё живы,
Все ещё живы, все, все, все.
Мимо фасада Большого театра
Мчатся на отдых, трезвоня, трамваи.
В классах десятых экзамены завтра,
Вечный огонь у Кремля не пылает.
Всё впереди, всё пока, всё пока накануне:
Двадцать рассветов осталось счастливых:
Год сорок первый, начало июня.
Все ещё живы, все ещё живы,
Все ещё живы, все, все, все.
Вальс довоенный напомнил о многом,
Вальс воскресил дорогие нам лица,
С кем нас свела фронтовая дорога,
С кем навсегда нам пришлось разлучиться.
Годы прошли, и опять за окном тихий вечер.
Смотрят с портретов друзья молчаливо.
В памяти нашей сегодня и вечно
Все они живы, все они живы,
Все они живы, все, все, все...
Степан Гаврусев. Стяг Брестской крепости
Не раз,
Не второй
И не сотый
От крепости немец отбит.
Уже как пчелиные соты
Все стены, а крепость — стоит.
Ну, кто там, ну, кто там остался?
Форты разбомбили дотла
И доты…
А стяг не шатался,
А стяг не окутала мгла!
Убьёт знаменосца осколком,
Но стяг подымает другой.
Полотнище алого шёлка
Пылает над Бугом-рекой.
Но кровью горячею рдели
Все новые раны на нём.
Ряды знаменосцев редели
Под шквальным
кинжальным огнём.
И шли напролом самоходки,
Горели земля и кусты…
Бинтов не хватало —
обмотки
Пришлось разорвать на бинты.
Воды — по глоточку,
Но каждый «Максиму» её отдаст,
Чтоб не задохнулся от жажды,
Чтоб жил,
Чтоб служил
Пулемёт.
Пусть сил не хватает поправить
Повязку и кровь утереть,
Пока есть патроны —
не вправе
Никто из бойцов умереть.
А тучка плывёт над лесами…
Эх, если б свернула сюда!
Патроны взрываются сами
В стволе…
Докипела вода…
А где-то колышутся вишни,
И птицы поют на вербе…
Патроны последние вышли,
А самый последний —
себе.
Последний защитник свалился,
Упал на лафет
и — замолк.
И тихо над ним опустился
Пробитый осколками Шёлк.
Но только земли он коснулся —
От кожуха вспыхнул огнём
И в дымное небо рванулся.
А враг
налетел вороньём.
И огненный стяг сапогами
Тупыми хотел затоптать,
Но это высокое пламя
Ему никогда не достать.
Куражится чёрная стая,
Но ей не сносить головы!
Полотнище — ширь небокрая,
А древко — до самой Москвы!
Сомкнулись зелёные кроны
Над теми,
кто в смертном бою
Но жизнь сохранял,
а патроны
И верил
в победу свою.
Вадим Шефнер. 22 июня
Не танцуйте сегодня, не пойте.
В предвечерний задумчивый час
Молчаливо у окон постойте,
Вспомяните погибших за нас.
Там, в толпе, средь любимых, влюблённых,
Средь весёлых и крепких ребят,
Чьи-то тени в пилотках зелёных
На окраины молча спешат.
Им нельзя задержаться, остаться –
Их берёт этот день навсегда,
На путях сортировочных станций
Им разлуку трубят поезда.
Окликать их и звать их – напрасно,
Не промолвят ни слова в ответ,
Но с улыбкою грустной и ясной
Поглядите им пристально вслед.
Муса Джалиль
Ты прощай, моя умница,
Погрусти обо мне.
Перейду через улицу —
Окажусь на войне.
Если пуля достанется,
То тогда – не до встреч.
Ну, а песня останется —
Постарайся сберечь…
Михаил Исаковский
Один на один со слезами,
С несжатыми в поле хлебами
Ты встретила эту войну.
И всё без конца и без счёта —
Печали, труды и заботы
Пришлись на тебя на одну.
Ты шла, затаив своё горе,
Суровым путём трудовым.
Весь фронт, что от моря до моря,
Кормила ты хлебом своим.
В холодные зимы, в метели,
У той у далёкой черты
Солдат согревали шинели,
Что сшила заботливо ты.
Рубила возила, копала, —
А в письмах на фронт уверяла,
Что будто отлично живёшь.
Роберт Рождественский. ДАВНЕЕ
Я, как блиндаж партизанский,
травою пророс.
Но, оглянувшись,
очень отчетливо вижу:
падают мальчики,
запнувшись за мину,
как за порог,
наткнувшись на очередь,
будто на ленточку финиша.
Падают мальчики,
руки раскинув просторно,
на чернозем,
от безделья и крови
жирный.
Падают мальчики,
на мягких ладонях которых —
такие прекрасные,
такие длинные
линии
жизни.
Валентин Колумб. Лицо моего отца
Не раз меня вдаль провожала семья
По этой дороге, - и пыльной, и талой.
Дороже всего мне родная земля,
Рысцой убегающий мерин наш старый.
На дровнях -
Уж так повелось в старину -
Пускались мы в путь через взгорья и реки.
По этой дороге давно на войну
Уехал отец на стонавшей телеге.
Загадкой прощальный был разговор.
Он маме сказал:
«Держи всё построже…
Ведь с грязной душой схож запущенный двор,
Пройдя, норовит плюнуть каждый прохожий…»
В сердцах на глаза он надвинул картуз,
Чтоб скрыть от людей всё, что душу тревожит, -
Что сам не увидит, как дети растут,
Что сам о хозяйстве подумать не сможет.
И наш недостроенный дом на поля,
На эту дорогу в тумане далёком,
Как череп былинного богатыря,
Глядел неживыми глазницами окон.
Отец не велел мастеров нанимать, -
Вернусь, мол, дострою с любовью и толком.
И карточку скомкал, чтоб напоминать
Она не могла об отсутствии долгом.
А небо горело пожаром войны.
И вот мы письмо получили вскоре…
Края извещения были черны…
И мама губу закусила от горя.
Но сжалось в кулак сердце моё!
«Не верь, он вернётся…» -
Мне мама сказала.
Дохнуло на нас, как могила, жильё,
И молния на небе петли свивала…
Надежда похожа на столб верстовой,
Что рухнул…
А путь впереди без предела…
Но вдруг ты обрадован - все за спиной!
Свободно вздохнули:
Война отгремела!..
Война отгремела…
Но облик отца
Припомнить сегодня уже нелегко мне.
И вместо его дорогого лица
Лишь чёрный картуз над глазами я помню.
Но твёрдо глядел он из-под картуза,
Как долг, принимая солдатскую участь.
Пусть - в горле – комок…
Пусть закроешь глаза -
Прожжёт твои веки слезою горючей…
Трусит лошадёнка.
Нет думе конца.
И, школу увидев, я еду потише.
Как славно, что школа стареет с крыльца -
Знать, много протопало здесь ребятишек.
Пусть доля сиротская их обойдёт,
Пусть дней не узнают холодных, голодных.
Мы славим того, кто погиб за народ,
Но жить для него - достославнее подвиг.
Валентин Колумб. Девушка в синем
Маленькой, как мотылёк, латышке
крылья счастья обожгло войной
и забросило под наши крыши
лихолетья грозовой волной.
Чтоб забыться,
жёсткий лён чесала,
жала рожь,
косила на лугу
и до боли головной плясала
пляски незнакомые в кругу.
Но в кругу,
в работе хлопотливой
понимали мы её сполна:
чтобы не казаться несчастливой,
веселилась истово она.
А потом к ручью,
скрывая слёзы, убегала,
крохотна, резка.
Понимали, знать, марийские берёзы
грусть-тоску чужого языка.
Так же зорь красивы переливы,
пахла, как в Прибалтике, роса,
и на синем платье так пугливы
белые горошинки – глаза.
Статной, ладной стала недотрога,
Только платье то всё берегла,
Чтоб войны треклятою дорогой
возвращаться той, какой была.
Штопала его, перешивала –
Не было любимее обнов.
О, как девушка переживала,
Что опять ложится шов на шов.
Стала вдруг сторожкой,
очень тихой,
шла едва касаяся травы.
Знала, понимала то портниха:
Ненароком могут лопнуть швы…
Словно нить,
Тонка была надежда,
Но отполыхал последний бой.
В синем платье – девичьей одежде
навсегда уехала домой.
Что-то вслед берёзы ей шептали,
трогательно ластилась лоза.
А на платье радостно сияли
белые горошинки – глаза.
Валентин Колумб. Матерям
В бой мужчины уходят
так часто…
За деревней простясь,
как всегда,
плачет женщина,
и в одиночестве
спину стройную сгорбит беда.
В поле белый платок её рвётся,
словно птица,
в бездонную высь.
Сколько в мире
птиц белых найдётся –
верно, всё от него родились.
Сосны хмурые шапкой лохматой
машут вслед так печально ему,
и берёзка вдруг сникла горбато:
ей теперь красота ни к чему.
В доме тихо.
Печаль в нём и горе.
Счастье видят,
заснув на часок.
Даже дети не плачут,
И в горле
застревает хлеба кусок.
Ночь застанет хозяйку в работе…
Сил нет вымолвить «Бог судья»,
коль звездою горящей в полёте
оборвётся вдруг чья-то судьба.
Запоёт тонко-тонко,
Польётся
древней песни серебряной нить,
не ржавеет
она и не рвётся,
боль души невозможно таить.
Если женщиной с голос
заплачет природа,
значит, мало в деревне
осталось мужчин.
Вот за люльку –
не будет и года, -
весь в отца,
цепко держится сын.
Хоть бы горе навек улетело!
Хоть бы сгинуло зло вдалеке!
Я хочу, чтобы женщина пела
(не на чёрном,
не на жёлтом,
не на белом)
на счастливом одном языке.
Вы дорогу войне преградите,
не жалейте для этого сил,
чтобы грозного танка водитель
с сыном спящим
коляску водил.
Чтобы радовались матери,
если
светят детские звёздочки глаз,
чтоб в ушах колыбельные песни
пуще маршей звучали для нас.
Чтобы звёздочки глаз открывались
не от воя сирен и свинца,
от сердец матерей зажигались,
видя свет дорогого лица.
Перевод с марийского Владимира Кострова
Валентин Колумб. Почтальон
Лёгкий стук в калитку.
У плетня
Пёс залаял вдруг нетерпеливый –
Это телеграмму от меня
Почтальон принёс неторопливый.
Мать заторопилась…
И сейчас
Ни за что ты не узнаешь маму:
Радостные лучики у глаз
Маминых –
Читает телеграмму.
- Говорила, чуяла – домой
Скоро сын приедет со снохою.
Сумку скинь, заботы все – долой,
С радости закатим пир горою!
Видит он тот чёрный год опять,
Как принёс к нам горе на подворье.
Мать одно сумела лишь сказать:
- Что ты сеешь добрым людям горе?
Шла война.
На лицах матерей
Ни кровинки больше, ни улыбки:
Ждали все безрадостных вестей –
Только появлялся он в калитке.
Письма раздавал он,
пряча взгляд,
И стоял, понурившись в сторонке,
Будто сам был
в чём-то виноват,
Будто сам писал он похоронки.
И, не забывая о вчера,
И мечтая каждый день о чуде,
Жду его, как вестника добра,
- Почтальон идёт! – ликуют люди.
- Почтальон идёт! – ликуют люди.
Перевод на русский язык Владимира Цыбина
Валентин Колумб. Ефимыч
Его, как всех, и в армию не взяли,
и смерть в бою
нельзя принять ему.
Хромой солдат,
задумчив и печален,
себя стыдясь,
сидел в пустом дому.
Но на деревне всполошились бабы,
известен их язвительный язык:
«Пускай ты покалеченный
и слабый,
есть голова –
ведь всё-таки мужик!»
Мастеровой,
он тёс рубанком гладил,
стекло вставлял.
И сколько раз в году
По праздникам над сельсоветом ладил
стеклянную пятиконечную звезду.
И пусть сейчас он
скручен ревматизмом,
и хворь свою
не может одолеть,
но сердцу приказал:
«Назло фашизму
Звезде рубином
над селом гореть!»
Сто раз
больные руки ошибались,
и плакал он,
стекло топтал, ярясь:
лучи пятиконечные ломались
в его руках неточных каждый раз.
Разбитый,
но упрямый непоседа,
в лес уходил.
И позднею порой,
домой вернувшись, угощал соседок
грибами и малиною лесной.
Какой-то вражина
в ту пору стриг колосья
и сеял подозрение средь нас.
Ефимыча вдруг
кто-то из молокососов
поймал.
- А ну, что в кузовке припас?!
Сжимал он пальцы
от стыда и боли…
Когда ж был опрокинут кузовок,
Пунцовая,
как свежие мозоли,
посыпалась калина на песок.
И помню я,
в минуты злые эти
на инвалиде не было лица,
и лютый стыд
ожёг сердца соседей,
поверивших навету подлеца…
Пропал Ефимыч.
Вновь в избе закрылся.
Работал яро,
Злясь от неудач.
По вечерам из дома доносился
То звон стекла,
то исступлённый плач.
И тихо, как и жил,
Осенней ночью серой
Ушёл от нас Ефимыч навсегда…
Но над деревней
Вспыхнула, как сердце,
Его пятиконечная звезда!
Перевод с марийского Владимира Кострова
Валентин Колумб. Счастья полное ведро
В дни войны в деревне нашей,
Раздобыв немного дров,
Брал я, в ржавчине и саже,
Неказистое ведро.
Огоньком сосед приветит,
Я бегу, а под золой
Уголёк, мерцая, светит,
Будто слиток золотой.
У соседа печь погаснет,
За огнём он к нам идёт.
Знать, обычай не напрасно
Чтил и сохранял народ.
Миром всем брались за дело,
За спасение огня.
Искру, что едва лишь тлела,
Согревал дыханьем я.
Угли – целое богатство! -
Вечером несу домой.
И спешу - боюсь, погаснут,
Ветер гонится за мной.
Ветер над огнём хлопочет.
Разгорается огонь,
Словно тьму копытом топчет
Подо мною красный конь.
Обступает тьма и злится,
Не пускает на порог.
Но в руке моей искрится,
Светит аленький цветок.
Мы, мальчишки, твёрдо знали
Адреса всех тех домов,
Где охотно нас встречали
Добротой огня и слов.
Помогая продержаться
В дни лихие,
Всякий раз
Наше огненное братство
Обучало счастью нас.
Перевод с марийского Александра Лайко
Константин Симонов Дом в Вязьме
Я помню в Вязьме старый дом.
Одну лишь ночь мы жили в нём.
Мы ели то, что бог послал,
И пили, что шофёр достал.
Мы уезжали в бой чуть свет.
Кто был в ту ночь, иных уж нет.
Но знаю я, что в смертный час
За тем столом он вспомнил нас.
В ту ночь, готовясь умирать,
Навек забыли мы, как лгать,
Как изменять, как быть скупым,
Как над добром дрожать своим.
Хлеб пополам, кров пополам -
Так жизнь в ту ночь открылась нам.
Я помню в Вязьме старый дом.
В день мира прах его с трудом
Найдём средь выжженных печей
И обгорелых кирпичей,
Но мы складчину соберём
И вновь построим этот дом,
С такой же печкой и столом
И накрест клеенным стеклом.
Чтоб было в доме всё точь-в-точь,
Как в ту нам памятную ночь.
И если кто-нибудь из нас
Рубашку другу не отдаст,
Хлеб не поделит пополам,
Солжёт, или изменит нам,
Иль, находясь в чинах больших,
Друзей забудет фронтовых, -
Мы суд солдатский соберём
И в этот дом его сошлём.
Пусть посидит один в дому,
Как будто утром в бой ему,
Как будто, если лжёт сейчас,
Он, может, лжёт в последний раз,
Как будто хлеба не даёт
Тому, кто к вечеру умрёт,
И палец подаёт тому,
Кто завтра жизнь спасёт ему.
Пусть вместо нас лишь горький стыд
Ночь за столом с ним просидит.
Мы, встретясь, по его глазам
Прочтём: он был иль не был там.
Коль не был, - значит, неспроста,
Коль не был - совесть нечиста.
Но если был, мы ничего
Не спросим больше у него.
Он вновь по гроб нам будет мил,
Пусть честно скажет: - Я там был.
Алексей Сурков. Скворцы прилетели
Чужих указателей белые стрелы
С высоких столбов срывают бойцы.
Над пеплом сырым, по ветвям обгорелым
Тревожно снуют погорельцы-скворцы.
К знакомым местам из-за тёплого моря
Они прилетели сегодня чуть свет.
А здесь - пепелища в крови и разоре,
Ни хат, ни ребят, ни скворечников нет.
Ну как это птичье бездомное горе
Отзывчивой русской душе не постичь?
Сощурясь от солнца, на вешнем просторе
Волнуется плотник - сапёр-костромич.
- И людям мученье, и птицам не сладко
На этих пропащих дорогах войны.
Я так полагаю, что новую хатку
Сапёры срубить погорельцам должны…
Звенят топоры. Зашуршали рубанки
Над прелью пропитанной кровью земли.
Горелые доски, и старые планки,
И ржавые гвозди в работу пошли.
Червонного золота жёлтые пятна
Весна разбросала по плоским штыкам.
Сегодня мы плотники. Любо, приятно
Стругать эти доски рабочим рукам.
И кровля и стенки отструганы гладко.
Солёные капли набухли на лбу.
Над пеплом пожарища новая хатка
Уютно белеет на чёрном дубу.
Мы снова появимся в местности здешней
И дружно под тёплым весенним дождем
Посадим дубы и под новый скворечник
Венцы человечьей судьбы подведём.
Сергей Орлов. После марша
Броня от солнца горяча,
И пыль похода на одежде.
Стянуть комбинезон с плеча -
И в тень, в траву, но только прежде
Проверь мотор и люк открой:
Пускай машина остывает.
Мы всё перенесём с тобой -
Мы люди, а она стальная...
Сергей Орлов. У сгоревшего танка
Бронебойным снарядом
Разбитый в упор лобовик,
Длинноствольная пушка
Глядит немигающим взглядом
В синеву беспредельного неба…
Почувствуй на миг,
Как огонь полыхал,
Как патроны рвались и снаряды,
Как руками без кожи
Защелку искал командир,
Как механик упал, рычаги обнимая
И радист из «ДТ»
По угрюмому лесу пунктир
Прочертил,
Даже мертвый
Крючок пулемета сжимая.
На кострах умирали когда-то
Ян Гус и Джордано Бруно,
Богохульную истину
Смертью своей утверждали…
Люк открой и взгляни в эту башню
Где пусто, черно…
Здесь погодки мои
За великую правду
В огне умирали!
Сергей Орлов. Уходит в небо с песней полк
Уходит в небо с песней полк
От повара до командира.
Уходит полк, наряжен в шёлк,
Покинув зимние квартиры.
Как гром, ночной аэродром.
Повзводно, ротно, батальонно
Построен в небе голубом
Десантный полк краснознамённый.
Там в небе самолётов след,
Как резкий свет кинжальных лезвий,
Дымок дешёвых сигарет
И запах ваксы меж созвездий.
Пехота по небу идёт,
Пехота в облаках как дома.
О, знобкий холодок высот,
Щемящий,
Издавна знакомый!
По тем болотам подо Мгой,
Где мы по грудь в грязи тонули
И поднимались над кугой
На уровне летящей пули.
Смотрю, как мёрзлую лозу
Пригнул к земле железный ветер,
Стою и слушаю грозу,
Как будто первый раз заметил,
Что подвиг, как бы он высок,
Как ни был бы красив, - работа.
И пахнет кирзою сапог,
И звёздами, и солью пота.
Сергей Орлов. В кино
В колхозе, в кино, на экране
Кварталы Берлина горят,
Смертельною пулею ранен,
Споткнулся на крыше солдат.
Мальчишки скорбят и тоскуют
У самой стены на полу,
И им бы вот так же, рискуя,
Бросаться в огонь и во мглу;
Взбираться на купол покатый
(Полотнище флага в огне)
И мстить за таджика-солдата,
Как будто за старшего брата,
Который погиб на войне.
Механики и полеводы
В шинелях сидят без погон,
Они вспоминают походы,
А зал в полутьму погружен.
И, как на сошедших с экрана
Лихих легендарных солдат,
Украдкою на ветеранов
Притихшие жены глядят.
Стучит, как кузнечик железный,
Поет в тишине аппарат.
И вот над дымящейся бездной
Встает на рейхстаге солдат.
Взметнулось полотнище флага,—
И, словно его водрузил,
Встает инвалид, что рейхстага
Не брал, но медаль «За отвагу»
Еще в сорок первом носил.
Огни зажигаются в школе,
В раскрытые окна плывет
Прохлада широкого поля…
На шумный большак из ворот
Полуторка медленно едет,
Мальчишки за нею бегут.
Кинопередвижку в «Победе»
Давно с нетерпением ждут.
Заката багровые флаги,
И дымный туман над рекой…
Герой Берлина и Праги
С экрана уходят домой.
Сергей Орлов. Старый снимок нашел я случайно
Старый снимок
Нашел я случайно в столе
Среди справок
В бумажной трухе, в барахле.
Старый снимок далеких,
Но памятных лет.
Ах, каким я красивым
Был тогда на земле!
Шлем ребристый кирзовый
Да чуб в три кольца,
Зубы белой подковой,
Веснушки, что солнца пыльца.
Не целован еще
И ни разу не брит,
Крепко через плечо
Портупеей обвит.
Вдаль гляжу я веселый,
Прислонившись к броне,
Среди сосен и елок,
На великой войне.
Светит солнце на траках,
Дымится броня.
Можно просто заплакать,
Как мне жалко меня.
Время крепости рушит,
А годы летят…
Ах, как жаль мне веснушек
Ржаной звездопад!
Сергей Орлов. На привале
Как из камня высечены сталью,
От сапог до самых плеч в пыли,
Разметавшись молча на привале,
Спят солдаты посреди земли.
А от них налево и направо
Зарева полощутся во мгле,
Догорает грозная держава
В свежей ржави, в пепле и золе.
Батареи издали рокочут,
Утопают города в дыму,
Падают разорванные в клочья
Небеса нерусские во тьму.
Но спокойно за пять лет впервые
Спят солдаты посреди огней,
Потому что далеко Россия —
Даже дым не долетает к ней!
Сергей Орлов. Его зарыли в шар земной
Его зарыли в шар земной,
А был он лишь солдат,
Всего, друзья, солдат простой,
Без званий и наград.
Ему как мавзолей земля -
На миллион веков,
И Млечные Пути пылят
Вокруг него с боков.
На рыжих скатах тучи спят,
Метелицы метут,
Грома тяжелые гремят,
Ветра разбег берут.
Давным-давно окончен бой…
Руками всех друзей
Положен парень в шар земной,
Как будто в мавзолей…
Сергей Орлов. Гвардейское знамя
Мы становились на колени
Пред ним под Мгой в рассветный час
И видели — товарищ Ленин
Глядел со знамени на нас.
На лес поломанный, как в бурю,
На деревеньки вдалеке
Глядел, чуть-чуть глаза прищуря,
Без кепки, в черном пиджаке.
Гвардейской клятвы нет вернее,
Взревели танки за бугром.
Наш полк от Мги пронес до Шпрее
Тяжелый гусеничный гром.
Он знамя нес среди сражений
Там, где коробилась броня,
И я горжусь навек, что Ленин
В атаки лично вел меня.
Сергей Орлов. Когда это будет, не знаю
Когда это будет, не знаю:
В краю белоногих берез
Победу девятого мая
Отпразднуют люди без слез.
Поднимут старинные марши
Армейские трубы страны,
И выедет к армии маршал,
Не видевший этой войны.
И мне не додуматься даже,
Какой там ударит салют,
Какие там сказки расскажут
И песни какие споют.
Но мы-то доподлинно знаем,
Нам знать довелось на роду,-
Что было девятого мая
Весной в сорок пятом году.
Лев Ошанин. Волжская баллада
Третий год у Натальи тяжелые сны,
Третий год ей земля горяча -
С той поры как солдатской дорогой войны
Муж ушел, сапогами стуча.
На четвертом году прибывает пакет.
Почерк в нем незнаком и суров:
«Он отправлен в саратовский лазарет,
Ваш супруг, Алексей Ковалев».
Председатель дает подорожную ей.
То надеждой, то горем полна,
На другую солдатку оставив детей,
Едет в город Саратов она.
А Саратов велик. От дверей до дверей
Как найти в нем родные следы?
Много раненых братьев, отцов и мужей
На покое у волжской воды.
Наконец ее доктор ведет в тишине
По тропинкам больничных ковров.
И, притихшая, слышит она, как во сне:
- Здесь лежит Алексей Ковалев. -
Нерастраченной нежности женской полна,
И калеку Наталья ждала,
Но того, что увидела, даже она
Ни понять, ни узнать не могла.
Он хозяином был ее дум и тревог,
Запевалой, лихим кузнецом.
Он ли - этот бедняга без рук и без ног,
С перекошенным, серым лицом?
И, не в силах сдержаться, от горя пьяна,
Повалившись в кровать головой,
В голос вдруг закричала, завыла она:
- Где ты, Леша, соколик ты мой?! -
Лишь в глазах у него два горячих луча.
Что он скажет - безрукий, немой!
И сурово Наталья глядит на врача:
- Собирайте, он едет домой.
Не узнать тебе друга былого, жена, -
Пусть как память живет он в дому.
- Вот спаситель ваш, - детям сказала она, -
Все втроем поклонитесь ему!
Причитали соседки над женской судьбой,
Горевал ее горем колхоз.
Но, как прежде, вставала Наталья с зарей,
И никто не видал ее слез…
Чисто в горнице. Дышат в печи пироги.
Только вдруг, словно годы назад,
Под окном раздаются мужские шаги,
Сапоги по ступенькам стучат.
И Наталья глядит со скамейки без слов,
Как, склонившись в дверях головой,
Входит в горницу муж - Алексей Ковалев -
С перевязанной правой рукой.
- Не ждала? - говорит, улыбаясь, жене.
И, взглянув по-хозяйски кругом,
Замечает чужие глаза в тишине
И другого на месте своем.
А жена перед ним ни мертва ни жива…
Но, как был он, в дорожной пыли,
Все поняв и не в силах придумать слова,
Поклонился жене до земли.
За великую душу подруге не мстят
И не мучают верной жены.
А с войны воротился не просто солдат,
Не с простой воротился войны.
Если будешь на Волге - припомни рассказ,
Невзначай загляни в этот дом,
Где напротив хозяйки в обеденный час
Два солдата сидят за столом.
Юнна Мориц. После войны
В развалинах мерцает огонек,
Там кто-то жив, зажав огонь зубами,
И нет войны, и мы идем из бани,
И мир пригож, и путь мой так далек!..
И пахнет от меня за три версты
Живым куском хозяйственного мыла,
И чистая над нами реет сила -
Фланель чиста и волосы чисты!
И я одета в чистый балахон,
И рядом с чистой матерью ступаю,
И на ходу почти что засыпаю,
И звон трамвая серебрит мой сон.
И серебрится банный узелок
С тряпьем. И серебрится мирозданье,
И нет войны, и мы идем из бани,
Мне восемь лет, и путь мой так далек!..
И мы в трамвай не сядем ни за что -
Ведь после бани мы опять не вшивы!
И мир пригож, и все на свете живы,
И проживут теперь уж лет по сто!
И мир пригож, и путь мой так далек,
И бедным быть - для жизни не опасно,
И, Господи, как страшно и прекрасно
В развалинах мерцает огонек.
Лев Ошанин. Последний салют
Салют нарастал, разгорался. И люди
Шумели, смеялись и, как в забытьи,
К букетам ракет и к зарницам орудий
По-детски ладони тянули свои.
Все то, чем мы жили до этой минуты,
Рванулось из сердца, запело, взвилось,
В последнем победном сверканье салюта
С лучами и флагами переплелось.
И лица другие, и небо иное -
Не пушки ты слышишь, а сердце свое.
А женщина плакала рядом со мною,
И тяжкие слезы душили ее.
Я знал наизусть ее горе. И мне бы,
И той, и другому, и многим кругом
Могло показаться сверкавшее небо
Ушедшего счастья далеким лучом.
Прости нас и плачь, если можешь…
А люди
Шумели, смеялись и, как в забытьи,
К букетам ракет и к зарницам орудий
По-детски ладони тянули свои.
Мы знаем, умудренные войною:
Жестоки раны — скоро не пройдут.
Не все сады распустятся весною,
Не все людские души оживут...
Так выше, друг, торжественную чашу
За этот день, за будущее наше,
За кровное народное родство,
За тех, кто не забудет ничего...
Ольга Федоровна Берггольц
Андрей Дементьев
Весть о Победе разнеслась мгновенно…
Среди улыбок, радости и слёз
Оркестр Академии военной
Её по шумным улицам пронёс.
И мы, мальчишки, ринулись за ним –
Босое войско в одежонке драной.
Плыла труба на солнце, словно нимб,
Над головой седого оркестранта.
Гремел по переулкам марш победный,
И город от волненья обмирал.
И даже Колька, озорник отпетый,
В то утро никого не задирал.
СЫН
Сын играет в войну, расставляет солдат
И командует ими с утра до обеда.
А когда над Москвою салюты гремят,
Просыпаясь, кричит он мне: «Папа, победа!»
Он забыл о бомбежках.
На пятом году
Все прекрасно и просто, как мамины руки,
Как зайчата на празднике в детском саду.
За окошком вечерние мирные звуки.
Он не знает о смерти в зеленом дыму,
О гноящихся ранах, о грязи по локоть.
И победа
однажды с рассветом к нему
Лучезарной и чистой пришла издалека.
Лев Ошанин
Анна Ахматова. ПОБЕДА
1.
Славно начато славное дело
В грозном грохоте, в снежной пыли,
Где томится пречистое тело
Осквернённой врагами земли.
К нам оттуда родные берёзы
Тянут ветки и ждут и зовут,
И могучие деды-морозы
С нами сомкнутым строем идут.
2.
Вспыхнул над молом первый маяк,
Других маяков предтеча, —
Заплакал и шапку снял моряк,
Что плавал в набитых смертью морях
Вдоль смерти и смерти навстречу.
3.
Победа у наших стоит дверей…
Как гостью желанную встретим?
Пусть женщины выше поднимут детей,
Спасённых от тысячи тысяч смертей, —
Так мы долгожданной ответим.
Юлия Друнина
Кто-то плачет, кто-то злобно стонет,
Кто-то очень-очень мало жил...
На мои замерзшие ладони голову товарищ положил.
Так спокойны пыльные ресницы,
А вокруг нерусские поля...
Спи, земляк, и пусть тебе приснится
Город наш и девушка твоя.
Может быть в землянке после боя
На колени теплые ее
Прилегло кудрявой головою
Счастье беспокойное мое.
Вадим Сикорский
Как я люблю людей родной России!
Они тверды. Их вспять не повернёшь!
Они своею кровью оросили
те нивы, где сегодня всходит рожь.
Их не согнули никакие беды.
И славить вечно вся земля должна
простых людей, которым за победы
я б звёзды перелил на ордена.
Алексей Решетов
Когда стою у Вечного огня,
Когда читаю имена и даты,
Мне кажется – погибшие солдаты
Чего-то ожидают от меня.
Что я скажу им - слабый человек -
Жизнь за меня отдавшим добровольно?
Что я в долгу у них на весь свой век?
Что мне пред ними совестно и больно?
Как надо стойко, мужественно жить,
Не поддаваясь злу ни на мгновенье,
Чтоб высшую награду заслужить -
Убитых молчаливое прощенье…
Дмитрий Кедрин. СЛЕДЫ ВОЙНЫ
Следы войны неизгладимы!..
Пускай окончится она,
Нам не пройти спокойно мимо
Незатемнённого окна!
Юнцы, видавшие не много,
Начнут подтрунивать слегка,
Когда нам вспомнится тревога
При звуке мирного гудка.
Счастливцы! Кто из них поверит,
Что рёв сирен кидает в дрожь,
Что стук захлопнувшейся двери
На выстрел пушечный похож?
Вдолби-ка им — как трудно спичка
Порой давалась москвичам
И отчего у нас привычка
Не раздеваться по ночам?
Они, минувшего не поняв,
Запишут в скряги старика,
Что со стола ребром ладони
Сметает крошки табака.
Борис Слуцкий
Которые историю творят,
они потом об этом не читают
и подвигом особым не считают,
а просто иногда поговорят.
Которые историю творят,
лишь изредка заглядывают в книги
про времена, про тернии, про сдвиги,
а просто иногда поговорят.
История, как речка через сеть,
прошла сквозь них. А что застряло?
Шрамы.
Свинца немногочисленные граммы.
Рубцов, инфарктов и морщинок сечь.
История калится, словно в тигле,
и важно слушает пивной притихший зал:
«Я был. Я видел. (Редко: «Я сказал».)
Мы это совершили. Мы достигли».
Борис Слуцкий. «ЕСТЬ!»
Я не раз, и не два, и не двадцать
слышал, как посылают на смерть,
слышал, как на приказ собираться
отвечают коротеньким «Есть!».
«Есть!», – в ушах односложно звучало,
долгим эхом звучало в ушах,
подводило черту и кончало:
человек делал шаг.
Но ни разу про Долг и про Веру,
про Отечество, Совесть и Честь
ни солдаты и ни офицеры
не добавили к этому «Есть!»
С неболтливым сознанием долга,
молча помня Отчизну свою,
жили славно, счастливо и долго
или вмиг погибали в бою.
БОРИС СЛУЦКИЙ
Ночной вагон задымленный,
Где спать не удавалось,
И год,
войною вздыбленный,
И голос: «Эй, товарищ!
Хотите покурить?
Давайте говорить!»
(С большими орденами,
С гвардейскими усами.)
— Я сам отсюда родом,
А вы откуда сами?
Я третий год женатый.
А дети у вас есть?-
И капитан усатый
Желает рядом сесть.
— Усы-то у вас длинные,
А лет, наверно, мало.-
И вот пошли былинные
Рассказы и обманы.
Мы не корысти ради
При случае приврем.
Мы просто очень рады
Поговорить про фронт.
— А что нам врать, товарищ,
Зачем нам прибавлять?
Что мы на фронте не были,
Что раны не болят?
Болят они и ноют,
Мешают спать и жить.
И нынче беспокоят.
Давайте говорить.-
Вагон совсем холодный
И век совсем железный,
Табачный воздух плотный,
А говорят — полезный.
Мы едем и беседуем —
Спать не даем соседям.
Товарищ мой негордый,
Обычный, рядовой.
Зато четыре года
Служил на передовой.
Ни разу он, бедняга,
В Москве не побывал,
Зато четыре года
На фронте воевал.
Вот так мы говорили
До самого утра,
Пока не объявили,
Что выходить пора.
В час, когда багровые закаты
Освещают неба синеву,
В битвах побывавшие солдаты
Любят по-особому Москву.
Подметает дворник тротуары.
На бульварах шумно и пестро.
Улыбаются, встречаясь, пары
Под часами или у метро.
И в улыбке этих губ счастливых
В полыханье этих юных глаз
Всюду наше русское:
– Спасибо
Вам, солдатам, защитившим нас!
Юлия Друнина
Константин Ваншенкин Земли потрескавшейся корка.
Война. Далекие года…
Мой друг мне крикнул: – Есть махорка?.. –
А я ему: – Иди сюда!..
И мы стояли у кювета,
Благословляя свой привал,
И он уже достал газету,
А я махорку доставал.
Слепил цигарку я прилежно
И чиркнул спичкой раз и два.
А он сказал мне безмятежно:
– Ты сам прикуривай сперва…
От ветра заслонясь умело,
Я отступил на шаг всего,
Но пуля, что в меня летела,
Попала в друга моего.
И он качнулся как-то зыбко,
Упал, просыпав весь табак,
И виноватая улыбка
Застыла на его губах.
И я не мог улыбку эту
Забыть в походе и в бою
И как шагали вдоль кювета
Мы с ним у жизни на краю.
Жара плыла, метель свистела,
А я забыть не смог того,
Как пуля, что в меня летела,
Попала в друга моего…
Маргарита Агашина
АХ ВЫ, РЕБЯТА, РЕБЯТА...
Вспыхнула алая зорька.
Травы склонились у ног.
Ах, как тревожно и горько
пахнет степной полынок!
Тихое время заката
в Волгу спустило крыло...
Ах вы, ребята, ребята!
Сколько вас здесь полегло!
Как вы все молоды были,
как вам пришлось воевать...
Вот, мы о вас не забыли –
как нам о вас забывать!
Вот мы берём, как когда-то,
горсть сталинградской земли.
Мы победили, ребята!
Мы до Берлина дошли!
… Снова вечерняя зорька
красит огнём тополя.
Снова тревожно и горько
пахнет родная земля.
Снова сурово и свято
Юные бьются сердца...
Ах вы, ребята, ребята!
Нету у жизни конца.
Роберт Рождественский
На Земле, безжалостно маленькой…
На Земле
безжалостно маленькой
жил да был человек маленький.
У него была служба маленькая.
И маленький очень портфель.
Получал он зарплату маленькую…
И однажды —
прекрасным утром —
постучалась к нему в окошко
небольшая,
казалось,
война…
Автомат ему выдали маленький.
Сапоги ему выдали маленькие.
Каску выдали маленькую
и маленькую —
по размерам —
шинель.
…А когда он упал —
некрасиво, неправильно,
в атакующем крике вывернув рот,
то на всей земле
не хватило мрамора,
чтобы вырубить парня
в полный рост!
Куда мне от памяти деться?
Она мне заснуть не дает.
И в памяти взрослое детство
Военной дорогой идет.
Качается низкое небо.
Дымится холодный рассвет.
И падает, вскрикнув, нелепо
Мальчишка семнадцати лет.
Пилотка сползает, и зыбко
Белесый колышется чуб.
Навек каменеет улыбка
Его нецелованных губ.
Мы будем солдатскою флягой,
Живые, его поминать.
Над горькой штабною бумагой
Заплачется бедная мать.
Ни камня, ни бронзы, ни меди.
Годам потеряется счет.
Но писарь на службу Победе
Навечно его занесет.
О память! Как ты молчалива,
Строга и исполнена сил.
Печально склоняется ива
У братских солдатских могил.
Бушует беспечно и люто
Черемухи белой сугроб.
И звездная прорва салюта
Мне душу ввергает в озноб.
Как будто на дымном рассвете,
Где наш перепутался след,
Я вместе остался в кювете
С мальчишкой семнадцати лет.
И прошлое в памяти живо.
И ходит вино за столом,
И песня моя, словно ива,
Растет над могильным холмом.
И мы, повидавшие виды,
Прошедшие порох и дым,
Всей силой любви и обиды
В обиду его не дадим.
Мне верится. Хочется верить
Вот в этот спокойный рассвет.
Живое и сущее мерить
Мальчишкой, которого нет.
Над жизнью, суровой и грубой,
Во имя победного дня
Улыбкой его белозубой,
Навек озарившей меня.
Михаил Дудин
БЕССМЕРТЬЕ
Писал он в письмах фронтовых,
Веселых и приветных:
– Вернусь домой живей живых:
Я родом из бессмертных,
Не надо, мать, меня искать
Средь без вести пропавших…
…Но умерла седая мать,
Листая списки павших.
А сын – живой!
Шагает он
К нам по дороге Млечной.
В честь подвига его зажжен
Бессмертья факел вечный…
Людмила Татьяничева
НОЧНАЯ ТРЕВОГА
Знакомый, ненавистный визг…
Как он в ночи тягуч и режущ!
И, значит, снова надо вниз,
В неведенье бомбоубежищ.
И снова поиски ключа,
И дверь с задвижкою тугою,
И снова тельце у плеча,
Обмякшее и дорогое.
Как назло: лестница крута, –
Скользят по сбитым плитам ноги;
И вот навстречу, на пороге –
Бормочущая темнота.
Здесь времени потерян счет,
Пространство здесь неощутимо,
Как будто жизнь, не глядя, мимо
Своей дорогою течет.
Горячий мрак, и бормотанье
Вполголоса. И только раз
До корня вздрагивает зданье,
И кто-то шепотом: «Не в нас».
И вдруг неясно-голубой
Квадрат в углу, на месте двери:
«Тревога кончилась. Отбой!» –
Мы голосу не сразу верим.
Но лестница выводит в сад,
А сад омыт зеленым светом,
И пахнет резедой и летом,
Как до войны, как год назад.
Идут на дно аэростаты,
Покачиваясь в синеве.
И шумно ссорятся ребята,
Ища осколки на примятой
Белесой утренней траве.
Вероника Тушнова
Говорят погибшие. Без точек.
И без запятых. Почти без слов.
Из концлагерей. Из одиночек.
Из горящих на ветру домов.
Говорят погибшие. Тетради.
Письма. Завещанья. Дневники.
На кирпичной на шершавой глади
Росчерк торопящейся руки.
На промозглых нарах железякой.
На стене осколками стекла.
Струйкой крови на полу барака
Расписалась жизнь – пока была.
Говорят погибшие. Дыханье
В грудах пепла раздувает жар.
Маутхаузен. Орадур. Дахау.
Бухенвальд. Освенцим. Бабий Яр.
У меня мечта есть у живого:
В эти мне отпущенные дни
Вымолвить хоть слово, хоть полслова,
Но из тех, что унесли они.
Лев Озеров
Мне хочется назвать тебя женой
За то, что так другие не назвали,
Что в старый дом мой, сломанный войной,
Ты снова гостьей явишься едва ли.
За то, что я желал тебе и зла,
За то, что редко ты меня жалела,
За то, что, просьб не ждя моих, пришла
Ко мне в ту ночь, когда сама хотела.
Мне хочется назвать тебя женой
Не для того, чтоб всем сказать об этом,
Не потому, что ты давно со мной,
По всем досужим сплетням и приметам.
Твоей я не тщеславлюсь красотой,
Ни громким именем, что ты носила,
С меня довольно нежной, тайной, той,
Что в дом ко мне неслышно приходила.
Сравнятся в славе смертью имена,
И красота, как станция, минует,
И, постарев, владелица одна
Себя к своим портретам приревнует.
Мне хочется назвать тебя женой
За то, что бесконечны дни разлуки,
Что слишком многим, кто сейчас со мной,
Должны глаза закрыть чужие руки.
За то, что ты правдивою была,
Любить мне не давала обещанья
И в первый раз, что любишь,— солгала
В последний час солдатского прощанья.
Кем стала ты? Моей или чужой?
Отсюда сердцем мне не дотянуться...
Прости, что я зову тебя женой
По праву тех, кто может не вернуться
Константин Симонов
Александр Твардовский
Я иду и радуюсь. Легко мне.
Дождь прошел. Блестит зеленый луг.
Я тебя не знаю и не помню,
Мой товарищ, мой безвестный друг.
Где ты пал, в каком бою — не знаю,
Но погиб за славные дела,
Чтоб страна, земля твоя родная,
Краше и счастливее была.
Над полями дым стоит весенний,
Я иду, живущий, полный сил,
Веточку двурогую сирени
Подержал и где-то обронил…
Друг мой и товарищ, ты не сетуй,
Что лежишь, а мог бы жить и петь,
Разве я, наследник жизни этой,
Захочу иначе умереть!..
В ЧАС МИРА
Все в мире сущие народы,
Благословите светлый час!
Отгрохотали эти годы,
Что на земле застигли нас.
Еще теплы стволы орудий
И кровь не всю впитал песок,
Но мир настал. Вздохните, люди,
Переступив войны порог…
Александр Трифонович Твардовский
Георгий Рублев
Это было в мае, на рассвете.
Нарастал у стен рейхстага бой.
Девочку немецкую заметил
Наш солдат на пыльной мостовой.
У столба, дрожа, она стояла,
В голубых глазах застыл испуг.
И куски свистящего металла
Смерть и муки сеяли вокруг.
Тут он вспомнил, как прощаясь летом
Он свою дочурку целовал.
Может быть, отец девчонки этой
Дочь его родную расстрелял.
Но тогда, в Берлине, под обстрелом
Полз боец, и телом заслоня,
Девочку в коротком платье белом
Осторожно вынес из огня.
И, погладив ласковой ладонью,
Он её на землю опустил.
Говорят, что утром маршал Конев
Сталину об этом доложил.
Скольким детям возвратили детство,
Подарили радость и весну
Рядовые Армии Советской,
Люди, победившие войну!
И в Берлине, в праздничную дату,
Был воздвигнут, чтоб стоять века,
Памятник Советскому солдату
С девочкой спасенной на руках.
Он стоит, как символ нашей славы,
Как маяк, светящийся во мгле.
Это он, солдат моей державы,
Охраняет мир на всей земле.
Алексей Сурков. УТРО ПОБЕДЫ
Где трава от росы и от крови сырая,
Где зрачки пулеметов свирепо глядят,
В полный рост, над окопом переднего края,
Поднялся победитель-солдат.
Сердце билось о ребра прерывисто, часто.
Тишина… Тишина… Не во сне — наяву.
И сказал пехотинец: — Отмаялись! Баста!-
И приметил подснежник во рву.
И в душе, тосковавшей по свету и ласке,
Ожил радости прежней певучий поток.
И нагнулся солдат и к простреленной каске
Осторожно приладил цветок.
Снова ожили в памяти были живые —
Подмосковье в снегах и в огне Сталинград.
За четыре немыслимых года впервые,
Как ребёнок, заплакал солдат.
Так стоял пехотинец, смеясь и рыдая,
Сапогом попирая колючий плетень.
За плечами пылала заря молодая,
Предвещая солнечный день.
Ольга Берггольц. Накануне
Запомни эти дни.
Прислушайся немного,
и ты — душой — услышишь в тот же час:
она пришла и встала у порога,
она готова в двери постучать.
Она стоит на лестничной площадке,
на темной,
на знакомой до конца,
в солдатской, рваной, дымной плащ-палатке,
кровавый пот не вытерла с лица.
Она к тебе спешила из похода
столь тяжкого,
что слов не обрести,
Она ведь знала: все четыре года
ты ждал ее,
ты знал ее пути.
Ты отдал все, что мог, ее дерзанью:
всю жизнь свою,
всю душу,
радость,
плач.
Ты в ней не усомнился в дни страданья,
не возгордился праздно в дни удач.
Ты с этой самой лестничной площадки
подряд четыре года провожал
тех — самых лучших,
тех, кто без оглядки
ушел к ее бессмертным рубежам.
И вот — она у твоего порога.
Дыханье переводит и молчит.
Ну — день, ну — два, еще совсем немного,
ну — через час — возьмет и постучит.
И в тот же миг серебряным звучаньем
столицы позывные запоют.
Знакомый голос вымолвит:
«Вниманье…»,
а после трубы грянут и салют,
и хлынет свет,
зальет твою квартиру,
подобный свету радуг и зари, —
и всею правдой,
всей отрадой мира
твое существованье озарит.
Запомни ж все.
Пускай навеки память
до мелочи, до капли сохранит
все, чем ты жил,
что говорил с друзьями,
все, что видал,
что думал в эти дни.
Запомни даже небо и погоду,
все впитывай в себя,
всему внемли:
ты ведь живешь весной такого года,
который назовут — Весной Земли.
Запомни ж все! И в будничных тревогах
на всем чистейший отблеск отмечай.
Стоит Победа на твоем пороге.
Сейчас она войдет к тебе.
Встречай!
1945
Полезное для учителя