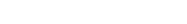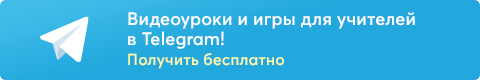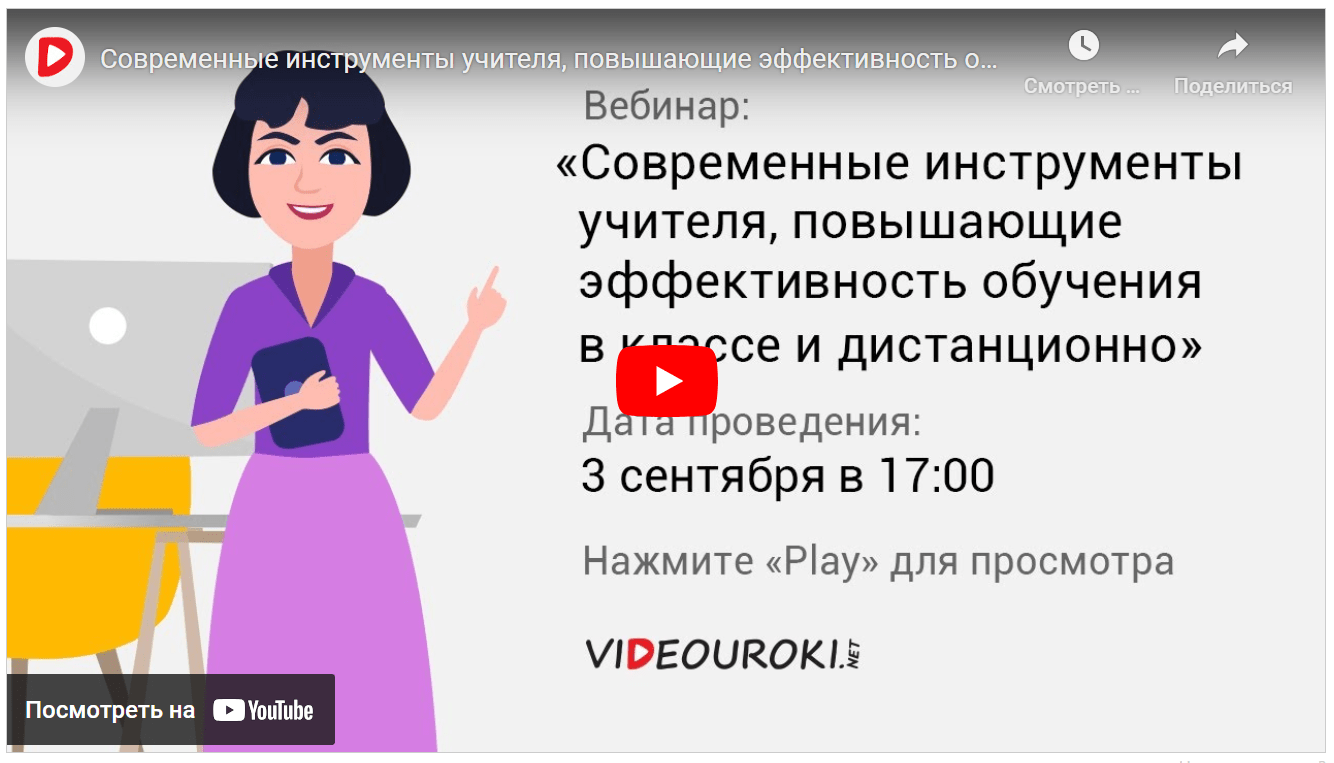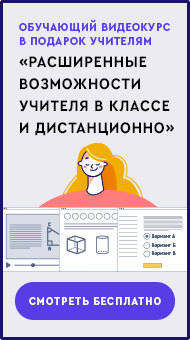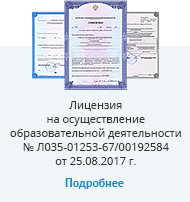СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ
Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно
Скидки до 50 % на комплекты
только до
Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой
Организационный момент
Проверка знаний
Объяснение материала
Закрепление изученного
Итоги урока

«Как слово наше отзовётся…»: И. С. Тургенев и Ф. И. Тютчев (2)
Один из характерных тургеневских образов, передающих трагизм человеческой жизни, – раненая птица («Без гнезда», «Куропатки»). В лирической миниатюре «Что я буду думать?» автор распознал, как в глубине потускневших глаз умирающего «билось и трепетало что-то, как перешибленное крыло насмерть раненной птицы» (13, 192). Та же метафора развёрнута в стихотворении Тютчева «О, этот Юг! О, эта Ницца!.»:
Жизнь, как подстреленная птица,
Подняться хочет, – и не может…
Нет ни полёта, ни размаху –
Висят поломанные крылья,
И вся она, прижавшись к праху,
Дрожит от боли и бессилья… (256)
Оба художника изображают «вечернюю зарю» человеческой жизни на закате дней. Её скоротечность символизируют «Песочные часы» Тургенева: «День за днём уходит без следа, однообразно и быстро. Страшно скоро промчалась жизнь, скоро и без шума» (13, 210). Обострённый слух лирического героя в гробовой тишине бессонной ночи способен различить еле уловимый шорох песочных часов: «мне постоянно чудится этот слабый и непрерывный шелест утекающей жизни» (13, 210). Тот же элегический мотивно-образный комплекс обнаруживается в тютчевском стихотворении «Бессонница»:
Часов однообразный бой,
Томительная ночи повесть!
Язык для всех равно чужой
И внятный каждому, как совесть!
Кто без тоски внимал из нас,
Среди всемирного молчанья,
Глухие времени стенанья,
Пророчески-прощальный глас? (50)
Однако сквозь тоску ночного пейзажа души лирического героя Тургенева и Тютчева, среди «тёмных тяжёлых дней», когда «под гору пошла дорога» (13, 176), ещё возможны минуты ярких озарений, сияние душевного света. В старости, предаваясь счастливым воспоминаниям, человек по-прежнему способен испытывать прилив жизненных сил, горение сердечного огня, постигать гармонию бытия. «О поэзия! Молодость! Женская девственная красота! Вы только на миг можете блеснуть передо мною – ранним утром ранней весны!» (13, 171), – восклицает Тургенев в миниатюре «Посещение».
«Камень на морском прибрежье в час прилива» – этот образ переходит в развёрнутую метафору человеческого сердца: «Так и на моё старое сердце недавно со всех сторон нахлынули молодые женские души – и под их ласкающим прикосновением зарделось оно уже давно поблекшими красками, следами бывалого огня!. Волны отхлынули, но краски ещё не потускнели» («Камень» – 13, 186).
Эти настроения особенно ощутимы у Тютчева в его шедеврах: «Я помню время золотое…», «Я встретил Вас – и всё былое…», «Последняя любовь», «Как над горячею золой…»:
Так грустно тлится жизнь моя
И с каждым днём уходит дымом;
Так постепенно гасну я
В однообразье нестерпимом!.
О небо, если бы хоть раз
Сей пламень развился по воле.
И, не томясь, не мучась доле,
Я просиял бы – и погас! (97)
Лирическая медитация в тургеневской новелле «Старик» также обращена к свету, но источник его – в отличие от поздней лирики Тютчева – только в прошедшем: «Сожмись и ты, уйди в себя, в свои воспоминанья, – и там, глубоко-глубоко, на самом дне сосредоточенной души, твоя прежняя, тебе одному доступная жизнь блеснет пред тобою своей пахучей, всё ещё свежей зеленью и лаской и силой весны! Но будь осторожен… Не гляди вперёд, бедный старик!» (13, 176)
Миниатюра «Завтра! Завтра!» сопоставима с тютчевским стихотворением «Не рассуждай, не хлопочи…». Тургенев любил эти стихи, цитировал их в качестве собственного совета в письме к Фету от 16 июля 1860 года: «„Не хлопочи” – сказал мудрец Тютчев. – „безумство ищет”…» (4, 109).
Писатель, выражая всечеловеческое содержание, отмечает, что каждому свойственны неоправданные ожидания благ от будущего, «безумные» надежды на завтрашний день. К человеку, который почему-то «воображает, что другие, грядущие дни не будут похожи на этот только что прожитой день? Да он этого и не воображает. Он вообще не любит размышлять – и хорошо делает» (13, 188), Тургенев мог бы адресоваться тютчевскими стихами:
Не рассуждай, не хлопочи!.
Безумство ищет, глупость судит;
Дневные раны сном лечи,
А завтра быть чему, то будет.
Живя, умей всё пережить:
Печаль, и радость, и тревогу.
Чего желать? О чём тужить?
День пережит – и слава Богу! (180).
«Эх! Лучше не думать!» (13, 208), – восклицает тургеневский герой, сокрушаясь об утраченной молодости в мыслях, которые грызут его «постоянно, глухою грызью» («О моя молодость! О моя свежесть!»).
При схожести нравственно-психологических состояний лирических героев двух авторов у каждого из них намечены своеобразные способы выхода из трагической ситуации. Преодоление метафизического одиночества требует от тургеневского героя большего мужества и особых усилий. И всё же «пейзаж души» остаётся по преимуществу «ночным». В миниатюре «Я встал ночью…» герой смиренно склоняет голову перед неизбежным: «Ах! Это всё моё прошедшее, всё моё счастье, всё, всё, что я лелеял и любил, навсегда и безвозвратно прощалось со мною! Я поклонился моей улетевшей жизни – и лёг в постель, как в могилу» (13, 211). Эмоционально-психологическая тональность созвучна элегическим стихам в романе «Дворянское гнездо»:
И я сжёг всё, чему поклонялся,
Поклонился всему, что сжигал (7, 213).
В истории духовно-душевных проявлений лирического героя Тютчева больше «светлости», кротости. Строки стихотворения «Осенний вечер»: «Есть в светлости осенних вечеров // Умильная таинственная прелесть» (91) – Тургенев цитировал в письме к Фету, советуя ему таким же образом «настроить струны» поэтической лиры ( 4, 140–141). В отличие от Тургенева, которому в старости была свойственна безысходная тоска по утраченной молодости («Посещение», «О моя молодость! О моя свежесть!», «Чья вина?»), тютчевскому герою присуща
Та кроткая улыбка увяданья,
Что в существе разумном мы зовём
Божественной стыдливостью страданья (91).
В поэтических воспоминаниях Тютчева об ушедшей молодости, о любви, счастье нет чувства старческой горечи, бесплодной обиды или разочарования («Я помню время золотое…»). Над лирическим героем и его возлюбленной «тень быстротечной жизни» пролетает «сладко»:
И ты с весёлостью беспечной
Счастливый провожала день;
И сладко жизни быстротечной
Над нами пролетала тень (112).
В поздней поэзии Тютчева сильнее ощутимо жизнелюбие («Тут не одно воспоминанье, Тут жизнь заговорила вновь…» – 304), надежда на полноцветное сияние «прощального света» человеческой жизни:
Сияй, сияй, прощальный свет
Любви последней, зари вечерней! (213)
Поэт оптимистически утверждает:
Не всё душе болезненное снится:
Пришла весна – и небо прояснится (254).
Неслучайно Тургенев называл Тютчева поэтом со «светлым и чутким умом» (5, 650). Философско-поэтическая символика света и тьмы, дня и ночи, представленная Тютчевым («О чём ты воешь, ветр ночной?.», «День и ночь» и др.), давала основания видеть в поэте творца «ночной поэзии». Однако для Тургенева доминантой личности и лирики Тютчева явилось именно светлое, «дневное» начало. Узнав о смерти поэта, Тургенев писал Фету из Буживаля 21 августа 1873 года: «Милый, умный, как день умный, Фёдор Иванович, прости – прощай!» (10, 143).
И сам Тургенев постепенно обретает выход к свету из беспросветных трагических размышлений о мимолётности земной жизни. Излюбленный цвето-световой образ тютчевской лирики – «лазурь» («чистая и тёплая лазурь» – 231, «туманная и тихая лазурь» – 91, «лазурный сумрак» – 93, «лазурью неба огневой», «лазурь небесная смеётся» – 71 и т.д.) – нашёл отражение в стихотворно-прозаическом шедевре Тургенева «Лазурное царство». «Царство лазури, света, молодости и счастья» эстетически утверждается как «неувядаемый рай» (13, 175–176), к которому и в глубокой старости стремится человеческая душа, наделённая способностью предчувствовать вселенскую гармонию. Однако ощущение гармонии как непреложного закона жизни приходит лирическому герою только во сне: «О лазурное царство! Я видел тебя… во сне» (13, 176). Схожий комплекс идей, настроений и образов представлен в стихотворении Тютчева «Арфа скальда»:
Лазурный свет блеснул в твоём углу,
Вдруг чудный звон затрепетал в струне,
Как бред души, встревоженной во сне (108).
Оба автора предчувствуют непостижимость, таинственность жизни, поэтому зачастую изображают её на грани яви и сна, здешнего и потустороннего. Так, например, в миниатюре Тургенева «Соперник» появление загробного гостя, призрака не испугало и даже не удивило героя. Некоторым своим стихотворениям в прозе («Конец света», «Встреча») Тургенев сообщает подзаголовок «сон». Действие многих новелл разворачивается как сон или видение: «То было видение…» («Два брата»), «Снилось мне…» («Насекомое»), «Мне снилось…» («Природа») и др.
Поэтика сновидений содержит намёк на иррациональность, запредельность бытия, смысл которого жаждет постичь человек, но в бессилии отступает перед загадкой мироздания. Это становится собственной поэтической темой многих философских стихотворений Тютчева:
О, как тогда с земного круга
Душой к бессмертию летим!
Минувшее, как призрак друга,
Прижать к груди своей хотим.
<…>
И отягчённою главою,
Одним лучом ослеплены,
Вновь упадаем не к покою,
Но в утомительные сны («Проблеск», 29).
Общий пафос позднего тургеневского цикла стихотворений в прозе, его мотивный и образный комплекс предузнаются в лирико-философской образности тютчевской поэзии:
Волна шумит, морская птица стонет!
Минувшее повеяло мне в душу –
Былые сны, потухшие виденья,
Мучительно-отрадные встают! («Кораблекрушение», 37)
«Мучительной отрадой» в изображении двух художников становится любовь. Своеобразие Тютчева в изображении любви было отмечено Тургеневым ещё в его статье, дополненной по сравнению с некрасовской работой о тютчевской поэзии принципиально новой темой, очевидно, подсказанной циклом стихотворений, посвящённых Елене Денисьевой, – «Денисьевским циклом»: «Язык страсти, язык женского сердца ему <Тютчеву. – А.Н.-С.> знаком и даётся ему» (5, 427). Писатель точно сумел определить новаторство тютчевской любовной лирики, которую отличает полифоничность, драматизм. Здесь действуют два героя: мужчина и женщина. Пожалуй, впервые в русской литературе поэзия так глубоко проникла в духовный мир героини, помогла выразиться любящей и страдающей женской душе.
Новаторство любовной лирики Тютчева также и в том, что лирический герой сумел обвинить себя самого от имени возлюбленной за те душевные муки, которые он ей причинил. От лица женщины, которая не в силах сдержать своей боли и отчаяния, написано стихотворение «Не говори: меня он, как и прежде любит…». Здесь возлюбленный сравнивается с невольным убийцей:
Он жизнь мою бесчеловечно губит,
Хоть, вижу, нож в руке его дрожит (203).
«Денисьевский цикл» отличается диалогичностью, дуэтным построением. Так, своеобразным ответом героя на упрёки становятся стихотворения «О, не тревожь меня укорой справедливой…», «Ты, волна моя морская…» и др.
Губительные переживания героини не только терзают её, но и раскрывают силу женской натуры, её самопожертвования. Всё это вызывает в герое ощущение непоправимой вины, самоосуждения за неспособность на столь же самозабвенное ответное чувство. Он готов только преклониться перед высотой самоотверженной любви («Не раз ты слышала признанье…»):
Перед любовию твоею
Мне больно вспомнить о себе –
Стою, молчу, благоговею
И поклоняюся тебе… (188).
Безоглядная страсть ставит под удар любящее сердце, делает его ранимым и беззащитным. Тютчев сознавал самоубийственную природу такой любви:
И кто в избытке ощущений,
Когда кипит и стынет кровь,
Не ведал ваших искушений –
Самоубийство и Любовь! («Близнецы», 207).
Новаторский мотив «любовь – поединок» проходит через весь поэтический цикл. Стихотворение «Предопределение», нарушая традиции любовной лирики, раскрывает драматизм любовного чувства «в борьбе неравной двух сердец»:
Любовь, любовь – гласит преданье –
Союз души с душой родной –
Их съединенье, сочетанье,
И роковое их слиянье,
И… поединок роковой… (202).
Любовь светлая и благодатная при её зарождении оборачивается мучением, «судьбы ужасным приговором», ложится на жизнь женщины «незаслуженным позором» (197) – такова биографическая основа «Денисьевского цикла» – этого «романа в стихах».
24-хлетняя Елена Александровна Денисьева – преподавательница Смольного института благородных девиц, в котором обучались дочери Тютчева («моя коллекция барышень», как он называл их), самозабвенно полюбила поэта – человека почти вдвое старше себя. Девушка безоглядно отбросила светские условности, дотла сожгла все мосты, возложила свою жизнь на жертвенный алтарь. Её проклял отец, она была уволена из Смольного института, дети от союза без церковного благословения считались незаконнорождёнными. Об этой трагической судьбе говорят строки поэтической исповеди:
Чему молилась ты с любовью,
Что как святыню берегла,
Судьба людскому суесловью
На поруганье предала.
Толпа вошла, толпа вломилась
В святилище души твоей,
И ты невольно постыдилась
И тайн, и жертв, доступных ей (205).
В поэтическом воплощении образа женщины появляются страдальческий надрыв и даже истовость. Она воспринимает свою любовь то как преступное падение, то как жертвенное вознесение:
Ах, если бы живые крылья
Души, парящей над толпой,
Её спасали от насилья
Бессмертной пошлости людской! (205).
Для женщины жизнь обретает смысл в одной лишь любви. Любовь, даже незаконная, для неё «святыня». Героиня прошла свой крестный путь и искупила свою страдальческую жизнь. Её смерть похожа на Успенье («Весь день она лежала в забытьи…»).
Поэт поражён зрелищем разрушительных проявлений любви, глубиной и силой страдания:
Любила ты, и так, как ты, любить –
Нет, никому ещё не удавалось!
О Господи!. и это пережить…
И сердце на клочки не разорвалось… (257).
Лирический герой постоянно терзается, сознавая свою вину перед Богом и людьми, перед любимой женщиной. Он одержим жалостью, жгучим раскаянием за ложное и фальшивое положение, в которое поставил своё «случайное семейство» («О, как убийственно мы любим…»):
О, как убийственно мы любим,
Как в буйной слепоте страстей
Мы то всего вернее губим,
Что сердцу нашему милей! (197).
Одухотворённые строки выстраданных поэтических признаний «Денисьевского цикла» – ярчайшая страница русской любовной лирики.
Трагический колорит лежит также на миниатюре Тургенева «Роза», которая отличается особой тонкостью психологического рисунка. Излюбленный писателем приём «тайной психологии» указывает на зарождение и развитие чувства героини, решившейся принести себя в жертву беззаветной любви. О самом предмете не сказано ни слова, но жесты, взгляды, мимика и движения женщины позволяют автору читать всё сокровенное в её сердце: «Я знал, что совершалось тогда в её душе; я знал, что после недолгой, хоть и мучительной борьбы, она в этот самый миг отдавалась чувству, с которым уже не могла сладить» (13, 166).
Такой психологический контекст сообщает пейзажным зарисовкам этой миниатюры функцию предварения: «Сад перед домом горел и дымился, весь залитый пожаром зари и потопом дождя». Здесь стихии природы: «внезапный порывистый ливень», «пожар зари», «потоп» – знаменуют губительную силу любовной страсти.
В судьбе отдавшейся этой страсти женщины предугадывается участь лирической героини «Денисьевского цикла». Иносказательный образ втоптанной в грязь розы с измятыми, испачканными лепестками соотносится с тютчевской метафорой: «Толпа, нахлынув, в грязь втоптала То, что в душе её цвело» («О, как убийственно мы любим…» – 197). В том же стихотворении, отмечая разрушительное действие страдания, Тютчев пишет:
Куда ланит девались розы,
Улыбка уст и блеск очей?
Всё опалили, выжгли слёзы
Горючей влагою своей (197).
Эти мотивы концентрируются в эмоционально-психологическом комплексе тургеневского стихотворения в прозе: «слёзы жгут, – отвечала она и, обернувшись к камину, бросила цветок в умиравшее пламя. – Огонь сожжёт ещё лучше слёз <…> Я понял, что и она была сожжена» (13, 166–167).