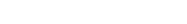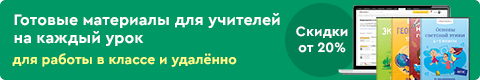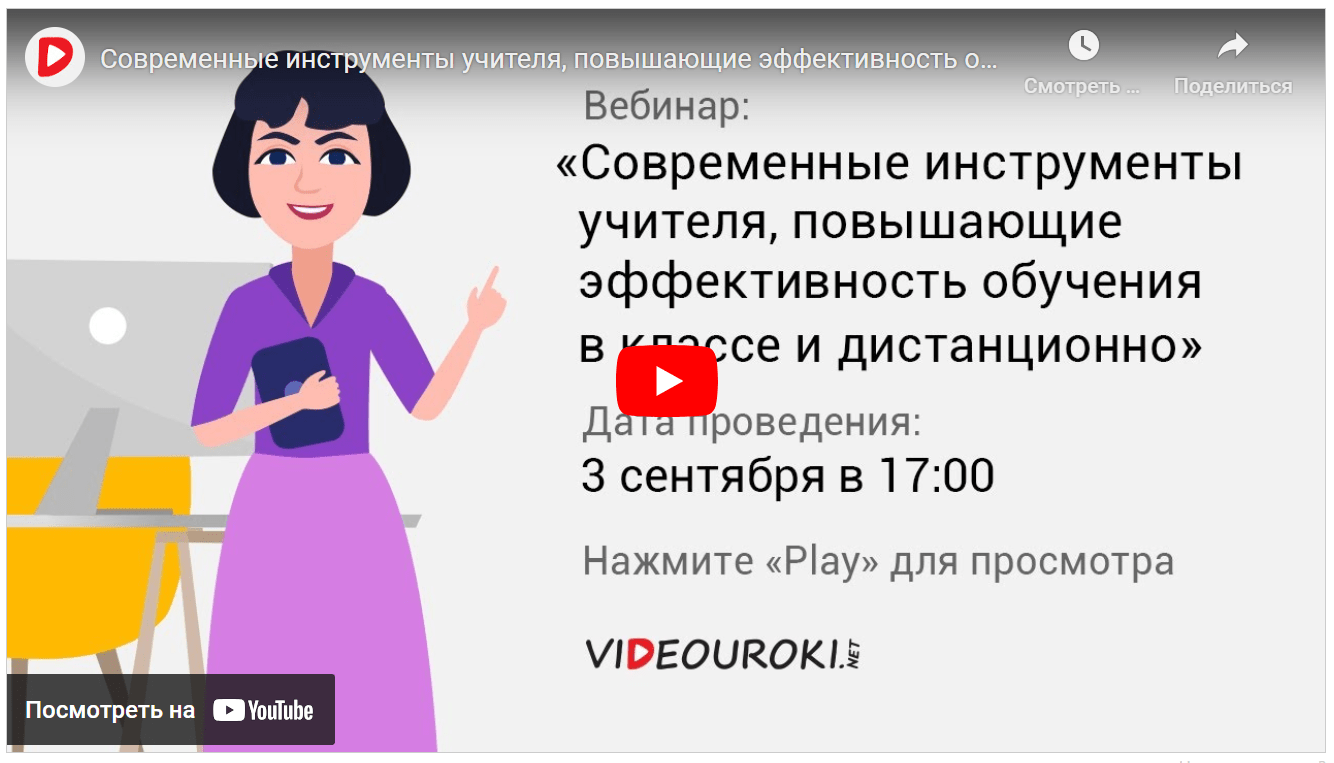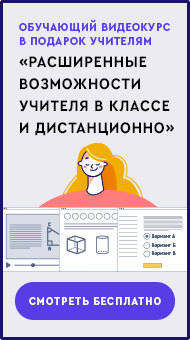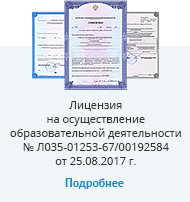27
Введение
В историю отечественной и мировой литературы Иван Александрович Гончаров (1812-1891) вошел как один из выдающихся мастеров реалистического романа.
В 1859 году вышел в свет роман Ивана Александровича Гончарова «Обломов», в центре которого – образ Ильи Ильича Обломова, барина, воспитанного в патриархальной среде родового имения и живущего в Санкт-Петербурге. Образ героя глубок и многогранен.
Писатель рисует быт Обломовки как живой среды, сформировавшей характер героя, как целостного и законченного уклада русской жизни. Гончаров видел в формировании буржуазного уклада не только исторический прогресс, но и угрозу для многих духовных ценностей, выработанных русским патриархальным укладом. Многое в старых традициях вызывало отрицательное отношение Гончарова (косность, тунеядство, боязнь перемен и т.д.), но многое и привлекало его – например, теплота человеческих взаимоотношений, уважение к старине, связь с природой. Гончарова тревожило: как бы в погоне за прогрессом не разрушить то ценное, что было в старом, как найти их гармоническое сочетание.
В романе И. Гончарова «Обломов», как в зеркале, ярко отразились ведущие черты реализма: объективность и достоверность изображения действительности, создание типичных конкретно-исторических характеров, воплощающих черты определенной социальной среды. Характер Обломова определил патриархально-поместный уклад. Его беспомощность, тщетные попытки к возрождению под влиянием Ольги и Штольца, женитьба на Пшеницыной и сама смерть определены в романе как «обломовщина», но подлинный характер Обломова крупнее и масштабнее. Гончаров раздвигает рамки социально-бытового романа, обнаруживая черты Обломова не только в эпохе, среде, но и в недрах русского национального характера. Главным достоинством писателя можно считать раскрытие личности на фоне исторического развития нации. Показывая пустоту и инертность уже изжившей себя патриархально-помещичьей среды, писатель вместе с тем противопоставляет нравственную цельность Обломова и «обломовцев» бездушию дворянско-чиновничьего общества в лице Алексеева, Тарантьева, Мухоярова, Затертого и прочих.
На протяжении многих десятилетий классический роман «Обломов» трактовался в школе как произведение о русском барстве и о крепостном праве. Лишь сравнительно недавно наметились сдвиги в сторону более адекватного восприятия гончаровского текста, в который художник заложил целые напластования смыслов. Но до самой сердцевины романа, кажется, мы не добрались и по сей день. По одной простой причине. Мы не учитываем степень ориентированности писателя 19 века на духовную, а не просто нравственно-гуманистическую проблематику.
Для понимания этого нам требуется обратится к пространству и времени в романе. Ведь любое литературное произведение, по мнению литературоведов В. Е. Хализева, А.Б. Есина, Л.В. Чернеца, так или иначе воспроизводит реальный мир – как материальный, так и идеальный: природу, вещи, события, людей в их внешнем и внутреннем бытии и т.п. Естественными формами существования этого мира являются время и пространство. Однако художественный мир, или мир произведения, всегда в той степени условен: он есть образ действительности. Понятия времени и пространства имели место быть в литературе всегда, а следовательно, составляли существенный момент художественной образности.
Актуальность исследования. Сегодня в связи с «повторным» открытием творчества Ивана Гончарова выявляются новые грани его творчества. Самое непостижимое в творчестве писателя было и остается изображение духовной жизни главного героя, Обломова. Этот образ, как никакой другой, поможет современной личности понять роль духовности в нашем обществе.
Объектом исследования является непосредственно роман И. Гончарова «Обломов».
Предмет – пространство и время как социально-психологический и философский аспекты в романе.
Цель работы – доказать, что пространство и время является важным и неотъемлемым способом изображения героя в романе, социально-психологической и философской концепции бытия.
1. Сон как пространство и философия бытия в романе «Обломов»
Илья Ильич Обломов. Имя, ставшее нарицательным. В каждом из нас есть частичка Обломова. Наверное, именно поэтому роман И. А. Гончарова так запоминается, оставляя глубокий след в душе читателя. Хотя в романе повествование немного растянуто, он привлекает читателя, прежде всего, яркими образами, комическими и трагическими ситуациями, заставляет задуматься о смысле жизни. Говоря о романе, нельзя не сказать и о его художественных особенностях. Ведь именно мастерство писателя, реализм повествования заставляет нас принимать близко к сердцу судьбу главного героя.
Утверждая за Гончаровым эпитет «чистый», Дружинин тем самым подчеркивает объективную манеру повествования писателя, рожденную глубоким чувством реализма. Но реализм этот, по замечанию Дружинина, лишен «сухой натуральности», «постоянно согрет глубокой поэзиею» [Дружинин 1983: 290]. Именно эта поэтичность прозы Гончарова и рождает новые реальности, пространства романа, которые взаимодействуют с истинно русскими пространствами языческой и христианской верой.
Христианство присутствует в романах Гончарова «стилистически» сдержанно, неакцентированно. Однако за этим спокойствием, как всегда у автора «Обломова», а позже – А. П. Чехова, – скрывается глубинный трагизм земного бытия человека, проблема духовной жизни и смерти. В этом смысле роман «Обломов» есть православный роман о духовном сне человека, о попытке «воскресения» и, наконец, об окончательном погружении в «сон смертный» [Мельник 1982: 23].
Более ста лет назад Д. С. Мережковский попытался определить своеобразие религиозности Гончарова-писателя: «...Религия, как она представляется Гончарову, – религия, которая не мучит человека неутолимой жаждой Бога, а ласкает и согревает сердце, как тихое воспоминание детства» [Мережковский 1991: 129].
Между тем, личность и творчество Гончарова совершенно невозможно понять вне религиозного контекста. Достаточно напомнить, что настольной книгой писателя было Евангелие, которое он постоянно цитировал. Романист родился в весьма религиозной, как считают некоторые исследователи, старообрядческой семье. О том, что значила религия в его личной жизни, дают наиболее ясное представление несколько строк воспоминаний его друга, известного юриста А. Ф. Кони: «Глубокая вера в иную жизнь сопровождала его до конца. Я посетил его за два дня до смерти, и при выражении мною надежды, что он еще поправится, он посмотрел на меня уцелевшим глазом, в котором еще мерцала и вспыхивала жизнь, и сказал твердым голосом: «Нет! Я умру! Сегодня ночью я видел Христа, и он меня простил»...» [Цит. по: Лихачев 1979: 70]. В этих словах – своего рода духовный итог Гончарова как личности и как художника.
Следованием традиционным православным догматам не исчерпывается религиозная позиция Гончарова. Оставаясь, причем твердо и принципиально, «младенцем» в вопросах веры, романист в то же время не отрицал таких понятий, как «цивилизация», «наука», «культура», «прогресс», «общественное устройство», «комфорт» (т.е. весь либерально-западнический набор ценностей). Путь к Христу не исключал для него понятия «истории», «прогресса», «цивилизации», а, напротив, включал их в себя. В этом смысле «герои-цивилизаторы» в гончаровских романах и во «Фрегате «Паллада» (например, Петр Адуев, Штольц, Тушин) воплощают для автора одну из важных сторон христианской этики. В этом плане Гончаров был типичным представителем либерально-западнического круга русской интеллигенции, хотя со временем его позиция менялась.
Интереснейшая ситуация в ракурсе рассматриваемой проблематики сложилась в романе «Обломов». В образе Ильи Обломова тонко и сложно синтетизированы черты античной этики (философ-созерцатель, эпикуреец) и черты православной аскезы. Если первое слишком очевидно и почти не требует доказательств, то второе может показаться парадоксом. На самом деле в романе есть едва ли не единственная ассоциация, связывающая образ Обломова с православием. В IX главе 4-й части «Обломова» автор как бы подводит итог духовному состоянию героя: «С летами волнения и раскаяние являлись реже, и он тихо и постепенно укладывался в простой и широкий гроб остального своего существования, сделанный собственными руками, как старцы пустынные, которые отворотясь от жизни, копают себе могилу» [Гончаров 1986: 481). Нужно сказать, что этот образ уже прорывался ранее на страницах «Обломова». Во второй главе заключительной части романа Штольц обращается к Илье с напоминанием об Ольге и ее воле: «Она хочет – слышишь? – чтоб ты не умирал совсем, не погребался заживо, и я обещал откапывать тебя из могилы...» [Гончаров 1986: 395].
Мотив захоронения заживо, добровольного самозаточения, упоминание пустынных старцев – всё это пространство символизирует аскетическую сторону православия. Античная созерцательность и эпикурейство Обломова в православии оборачиваются «отворачиванием от жизни». Образ Обломова в романе постоянно сопровождается мотивом изолированного пространства, и это пространство тяготеет к упомянутым определениям, к образу «могилы». Так, в VIII главе 1-й части романа Илья Ильич говорит Захару: «Сижу взаперти». А автор корректирует и обобщает переживания героя и вводит в текст образ могилы: «В нем зарыто, как в могиле, какое-то хорошее, светлое начало». Он «закопал в собственной... душе принесенные ему в дар миром и жизнью сокровища» [Гончаров 1986: 96, 99]. Образ могилы в «Обломове» по своей смысловой заполненности близок пространству пустынножительской пещеры, – как она осмысливалась в аскетической ветви христианской традиции: это не только «место спасения», «инобытия», «иного мира», но и «место погребения», «гроб». Обломов изолируется от мира, чтобы «спастись», сохранить душу среди океана зла. Но в то же время его «старчество» ущербно, ибо он не возвращает Творцу «плод брошенного им зерна» [Гончаров 1986: 214], а хоронит эти сокровища в себе. В сущности, Гончаров в судьбе Ильи Обломова возвращает читателя к евангельской притче о человеке, закопавшем таланты в землю.
Путь к Богу в произведениях Гончарова лежит через мир, через преобразование мира, через историческое творчество. В числе добродетелей человека и христианина у Гончарова числятся не только «золотое сердце» и «младенческая вера», но и «ум и воля», неоднократно упоминаемые в «Обломове» и других романах, и даже «самолюбие» (но не гордость!). Вопрос о духовной жизни Гончарова принципиально ясен. Всю свою жизнь романист думал и писал о главном в человеческой жизни – в православном значении: о духовной смерти, очищении и воскресении человека, о приближении к идеалам Евангелия. С уверенностью можно сказать, что все остальные без исключения вопросы были (и не могли не быть) для Гончарова второстепенными.
Герои «Обломова», конечно, не живут столь же интенсивными религиозными переживаниями, как, например, герои Ф. М. Достоевского. Они не размышляют вслух о том, есть ли Бог; в своих духовных «падениях» и «обрывах» они не цитируют Евангелие, не спорят страстно о религиозных вопросах. Многие религиозные реминисценции и мотивы вообще кажутся в его романах обиходно случайными, слишком тесно связанными с бытом. Таков, например, диалог Агафьи Матвеевны Пшеницыной и ее жильца Ильи Ильича Обломова:
― Под праздник ко всенощной ходим.
― Это хорошо, — похвалил Обломов.
― В какую же церковь?
― К Рождеству: это наш приход... [Гончаров 1986: 287]
Однако постепенно выясняется, что герои живут наполненной религиозной жизнью, хотя и не выставляют ее на вид. Выясняется также, что вся нравственная проблематика романа – в узловых ее моментах – решается и разрешается автором в религиозном ключе, – с точки зрения Православия. Именно с этой позиции наиболее ясно и полно понимается, о каком «сне» Ильи Ильича Обломова идет речь в романе. Слово «сон» в «Обломове», несомненно, многозначно, оно несет в себе различные смыслы. Это и сон как таковой: лежание Ильи Обломова на диване стало символическим обозначением «русской лени» героя. Это и «сон-греза, сон-мечта, сон-утопия, в рамках которого развиваются в романе созерцательно-поэтические мотивы» [Архипов 1992: 33]. Это и некое пространство героя. И то, и другое важно для понимания образа. Однако и то, и другое является лишь телесно-душевной формой проявления «сна смертного», сна духовного, «сна-уныния» [Архипов 1992: 36]. Этот последний сон – сон-грех, сон-падение, отнимающий у человека надежду на спасение бессмертной души.
Противоположным «сну» понятием является «бодрость», «трезвенность». Описывая лежащего «в лености», «падшего» на диван и «обленившегося» Обломова, Гончаров, разумеется, имеет в виду не одну лишь примитивную бытовую лень, не только лень душевную, но и духовную.
Сон Обломова многое разъясняет. И здесь мнение критика расходится с традиционным представлением об Обломовке как царстве сна, застоя и рутины. Дружинин находит в «Сне» глубокий и чистый смысл, помогающий понять и полюбить душу героя: «Сон Обломова» не только осветил, уяснил и разумно опоэтизировал все лицо героя, но еще тысячью невидимых скреп связал его с сердцем русского читателя» [Дружинин 1986: 151].
Действительно, все то, что дано в главе «Сон Обломова», представляет вдумчивому, не лишенному связи с родной почвой, читателю поэзию деревенского бытия с ее размеренным, неторопливым, естественным (что очень важно под черкнуть) ходом жизни, в гармонии с окружающим миром, природой. Заботы, которыми живут обитатели Обломовки, их хлопоты понятны и объяснимы с точки зрения нормальных, не изломанных рациональными «премудростями» представлений о существе и, если угодно, «правилах» жизни. «Правильно и невозмутимо совершается там годовой круг», – читаем у Гончарова [Гончаров 1986: 25].
Картины безмятежного обломовского бытия противопоставлены в романе искусственно-ложным стимулам наступающего «прагматического» века, утратившего к тому же и связь с коренными, национальными основами жизни.
В этот момент рождается наше понимание внутренней драмы Обломова, сочувствие к нему, так как становится ясно, что он не приемлет наступления голого рационализма, пошлости, отсутствия любви и сострадания к человеку. «Его духовному взору открывается безрадостная картина петербургской жизни, где суета человеческих запросов. Не трудно догадаться, что это одна из причин, по которой Илья Ильич не хочет вставать с дивана» [Десницкий 1958: 41].
Вышедший из недр почти языческой Обломовки, усвоившей христианские истины едва ли не только с их обрядовой стороны, Обломов несет на себе ее родимые пятна. Обломовцы по-своему религиозны. Как когда-то Ларины из «Евгения Онегина», Обломовы живут обрядовой стороной православного календаря: они не упоминают месяцев, чисел, но говорят о святках, Ильине дне, крестинах, поминках и т. д. «Потом потянулась пестрая процессия веселых и печальных подразделений ее – крестин, именин, семейных праздников, заговенья, разговенья...» («Сон Обломова»). В обряд и только в обряд вкладываются душевные силы обломовцев: «Все отправлялось с такой точностью, так важно и торжественно».
Православие в Обломовке крайне обытовлено, затрагивая лишь плотски-душевную жизнь человека и не касаясь его духовной жизни. Отсюда столь большое место занимают в Обломовке суеверия. Здесь любят разгадывать сны: «Если сон был страшный – все задумывались, боялись не шутя; если пророческий – все непритворно радовались или печалились, смотря по тому, горестное или утешительное снилось во сне. Требовал ли сон соблюдения какой-нибудь приметы, тотчас для этого принимались деятельные меры», – поэтому сон как хронотоп имеет символический смысл и помогает понять психологию главного героя [Гончаров 1986: 43].
Суеверие – прямой грех с православной точки зрения. Но не только суеверием грешат обломовцы. В первой книге «Бытия» Адаму было заповедано: «...За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: «не ешь от него», проклята земля за тебя... В поте лица твоего будешь есть хлеб...» [Гл. 3, ст. 17—19]. Обломовцы же «сносили труд как наказание, наложенное еще на праотцев наших, но любить не могли, и где был случай, всегда от него избавлялись, находя это возможным и должным» [Гончаров 1986: 49]. В Обломовке нет христианской любви к другому человеку. Это хорошо видно из эпизода, повествующего о мужике, каким-то случаем оказавшемся «за околицей». Изнемогшего от болезни человека обломовцы потрогали издалека вилами и ушли, бросив его на произвол судьбы. Ни разу не упомянул писатель о духовных устремлениях обитателей «благословенного края». На первый план в их жизни выходит сугубо плотское начало: «Забота о пище была первая и главная жизненная задача в Обломовке». Автор не без иронии подчеркивает неожиданную активность своих героев: «Всякий предлагал свое блюдо... всякий совет принимался в соображение обсуживался обстоятельно и потом принимался или отвергался...» [Гончаров 1986: 49].Не обходит Обломовку стороной и грех праздности и осуждения: «...Играют в дураки, в свои козыри, а по праздникам с гостями в бостон... переберут весь город, кто как живет, что делают; они проникнут не только в семейный быт, в закулисную жизнь, но в сокровенные помыслы и намерения каждого, влезут в душу, побранят, обсудят недостойных...» [Гончаров 1986: 53].
Лишь один-два эпизода во всем «Сне Обломова» вообще свидетельствуют о том, что религиозная жизнь не чужда обломовцам. Детство автобиографического героя Гончарова вырастает из материнской молитвы. Мать Ильи Ильича, «став на колени и обняв его одной рукой, подсказывала... ему слова молитвы. Мальчик рассеянно повторял их, глядя в окно но мать влагала в них всю свою душу» [Гончаров 1986: 42]. Однако речь не идет о том, что мать Ильи Ильича является каким-то исключением в Обломовке. Ее религиозность и ее молитва за Илюшу носит совершенно определенный, тоже «обломовский», характер. О чем просит Бога она, – ясно из ее отношения к воспитанию сына. В этом воспитании она выделяет прежде всего плотски-бытовую сторону: «Мать возьмет голову Илюши, положит к себе на колени и медленно расчесывает ему волосы, любуясь мягкостью их и заставляя любоваться и Настасью Ивановну, и Степаниду Тихоновну, и разговаривает с ними о будущности Илюши, ставит его героем какой-нибудь созданной ею блистательной эпопеи. Те сулят ему золотые горы» [Гончаров 1986: 42].
Если пользоваться терминологией прот. Г. Флоровского, то в Обломовке несомненно господствует «ночная» культура, еще тесно связанная с язычеством [Флоровский 1991: 3]. Г. Флоровский пишет словно бы об Обломовке и ее специфическом христианстве: «Изъян и слабость древнерусского духовного развития состоит в недостаточности аскетического закала (и совсем уже не в чрезмерности аскетизма), в недостаточной «одухотворенности» души, в чрезмерной «душевности», или «поэтичности», в духовной неоформленности душевной стихии... Крещение было пробуждением русского духа, – призыв от «поэтической» мечтательности к духовной трезвости и раздумью» [Флоровский 1991: 3].
Илья Обломов — выходец из полуязыческой-полухристианской Обломовки, а потому он несет на себе и ее грехи. В статье В. Н. Криволапова «Еще раз об «обломовщине» сказано, что душа Обломова не подвержена ни одной из известных в христианстве с IV в. страстей (чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие, гордыня) [Криволапова 1994: 36]. Тезис о безгрешности Обломова весьма сомнителен. Ведь роман Гончарова как раз о том и написан, как человек в минуту трезвости душевной пытается восстать на свой грех, побороть его. Название этому греху – уныние, духовный сон.
Следовательно, сон становится и для Обломова, и для Гончарова, и для читателя тем пространством, в котором отчетливо видна вся духовная сущность человека 19 века (точнее 1859 года): в пространстве сна мы встречаем и христианство, и язычество, и концепцию личности Гончарова в образе Обломова.
2. Симметрия и асимметрия пространства и времени в романе «Обломов» как социально-психологический аспект бытия
Можно осторожно предположить, – пишет Д. П. Бак в журнале «Новое литературное обозрение», — что в ближайшие годы главное внимание будет уделено реконструкции «гончаровского контекста» в литературе прошлого столетия, а, следовательно, в фокусе внимания окажется задача научной биографии писателя. Парадоксально, но факт: Гончаров по сей день остается одним из самых неразгаданных русских классиков. Доброжелательный мудрец, раздраженный мизантроп, вдохновенный художник или чиновник, горячий сторонник... перемен или консерватор, погруженный в созерцание отошедших в прошлое устоев и традиций?» [Бак 1996: 368].
Со своей стороны мы дополнили бы этот вдумчивый прогноз на ближайшее будущее острой необходимостью вникания в поэтику гончаровской прозы, нахождения возможностей для ее переакцентуации, подбора новых ключей и кодов к тому, что, казалось бы, давно уже изучено.
Так и в «Обломове», мы находим неоднократные рассуждения о роли симметрии или, напротив, асимметрии в человеческой жизни, что имеет непосредственное отношение к вопросу о пространстве. Например, рассуждения Ильи Ильича о «света и общества»: «Вот они не лежат, а снуют каждый день, как мухи, взад и вперед, а что толку? Войдешь в залу и не налюбуешься, как симметрически рассажены гости... Разве это не мертвецы?..” Брови Ольги “редко лежали симметрично: одна на линию была выше другой, от этого над бровью лежала маленькая складка, в которой как будто что-то говорило, будто там покоилась мысль» [Гончаров 1986: 118].
В «Обломове» отчетливо звучит мысль о зависимости человека, его судьбы от ритма, по-другому от времени как от объективной данности, как от фундаментального явления природы, учитывается значение и биологических ритмов. Например, Обломов «доискивался нормы жизни, такого существования, которое было бы и исполнено содержания, и текло бы тихо, день за днем, капля по капле, в немом созерцании природы...» [Гончаров 1986: 51].
Качанье маятника, по мнению Дорофеевой, исключительно важная подробность в романе. В «Сне Обломова» она символизирует раз и навсегда заданную размеренность жизни обитателей «избранного уголка», где даже старое крыльцо ветхого дома Обломовых качается ритмически, «как колыбель». А о Пшеницыной говорится, что она «была живым маятником в доме» на Выборгской стороне [Гончаров 1986: 295]. Маятник содержит как и пространство-колыбель, так и четко идущее время.
В поэтике Гончарова хронотоп служит не только для изображения главного героя. Ольга в тщетном ожидании Обломова как бы переживает биоритмы расцветающего и увядающего растения: «Три, четыре часа — все нет! В половине пятого красота ее, расцветание начали пропадать: она стала заметно увядать... Потом вдруг как будто весь организм ее наполнился огнем, потом льдом» [Гончаров 1986: 176].
Подобных примеров в романе можно найти немало, да и сам он, если вдуматься, имеет «музыкальное содержание», пронизан красивым женским голосом, озвучен мелодией, за которой идет Обломов, и самое волнующее в нем – «поэзия утренних и вечерних зорь... обаятельное пение», как замечает Илья Ильич [Дорофеева 1982: 32].
Симметрия присутствует и в архитектонике романа. Недаром Гончаров испытывал почтение к счёту, к числу, к точным измерительным инструментам. Одиннадцати главам первой части романа соответствуют одиннадцать же глав четвёртой, заключительной его части. Они, как левое крыло и правое крыло постройки, выступают основными составляющими фундамента произведения, являются, так сказать, его несущими конструкциями. Действительно, первая и последняя части романа содержат в себе всю информационную и смысловую плоть романа, в них сосредоточена вся его житейская предметность, «земная» жизнь, быт и правила отражаемой романом эпохи, её тяжеловесная вещная приземлённость.
Вторая и третья части книги имеют по двенадцать глав каждая, «они как бы образуют над серединой условного Дома романа, своего рода надстройку, полуэтаж, мезонин и, создавая впечатление лёгкости, воздушности, павильонности, стремятся преодолеть, хотя и тщетно, силу земного притяжения, бремя которого постоянно ощущает суровая проза фундамента» [Дорофеева 1982: 39].
В этих двух смежных центральных частях как раз и исполняется, словно музыкальная пьеса, «летняя поэма изящной любви», начиная с её праздничного «сиреневого» мотива и «кончая горячкой бедного Ильи Ильича» [Жирмунский 1975: 571].
Итак, «сорок шесть главок, как сорок шесть лет их автора, когда он поставил итоговую точку в рукописи романа «Обломов», подготовив её к печати» [Алексеев 1968: 59].
Первая часть романа внутренне связана с четвертой частью, то есть сопоставленными оказываются Обломовка и Выборгская сторона. Четыре части романа соответствуют четырем временам года. Роман начинается весной, 1 мая.
История любви – лето, переходящее в осень и зиму. Композиция вписана в годовой круг, ежегодный круговорот природы, цикличное время. Гончаров замыкает композицию романа в кольцо, заканчивая «Обломова» словами: «он рассказал ему, что здесь написано» [Гончаров 1986: 369].Гончаров слегка иронизирует над героем, но вместе с тем ясно сообщает, что няня «влагала в детскую душу память и воображение Илиаду русской жизни» [Гончаров 1986: 37], иными словами, у нас есть основание для параллели: Илья Муромец – Илья Обломов. Илья – имя, достаточно редкое для литературного героя. И Обломов, и Муромец сидят сиднем до тридцати трех лет, когда с ними начинают происходить некие события. К Илье Муромцу являются калики «перехожие-переброжие», исцеляют его, наделяя силой, и он, явившись ко двору великого князя Владимира, затем отправляется странствовать, совершая подвиги [МС 1988: 306]. К Илье Обломову, уже обалдевшему от своего лежания на постели (будто на печи), является старый друг Андрей Штольц, тоже путешествующий по всему миру, ставит Илью на ноги, везет ко двору (не великого князя, разумеется) Ольги Ильинской, где, наподобие тут уж скорее не богатыря, а рыцаря, Илья Ильич совершает «подвиги» в честь дамы: не лежит после обеда, ездит с Ольгой в театр, читает книги и пересказывает их ей. Время Илиады – это время древнее античное, и время Муромца – древнее былинное. Следовательно, образ Обломова встречается на протяжении всего существования человечества, можно сказать, что этот образ архетипичен.
Обломов действительно рассуждает, как «древний». И рассказчик, описывая своего героя, постоянно намекает на источник романа, называя себя «другим Гомером». Архаичная идиллия, приметы доисторического Золотого века, которые особенно заметны в описании Обломовки, переносят героя в другое время – в эпическое. Обломов постепенно погружается в вечность, где «настоящее и прошлое слилось и перемешалось», а будущего не существует вовсе. Подлинный смысл его жизни – не гнаться за Штольцем в тщетной попытке быть современным, а, наоборот, в том, чтобы избежать движения времени. Обломов живет в своем, автономном времени, поэтому и скончался он, «как будто остановились часы, которые забыли завести». Он растворился в своей мечте – удержать, остановить время, застыть в абсолютном бытии вожделенной Обломовки. Время, которым можно характеризовать Обломова, напоминает некую мелодию, медленную, древнею, но со своим ритмом.
Художественную ткань прозы, которую Гончаров называл «литературной музыкой», невозможно и представить без ритма (вспомним образ маятника). Тема ритма разрабатывается у Гончарова как одна из ведущих. Ритм – это прежде всего симметрия, а симметрия может нам напомнить о жизни, которая построена по определенным законам (рождение, юность, возмужалость, смерть) В романе отчётливо звучит мысль о зависимости человека, его судьбы от космоса, от его ритма как от объективной данности. Например, в жизни обломовцев, известной заданной размеренностью, всё ритмически повторяемо, а потому предсказуемо. Они и живут в унисон Солнцу, ритм их бытия неотделим от космических пульсаций (вспомним, что ни один писатель в русской литературе не сравнивал крыльцо с детской колыбелью!).
Также стройность ритмической композиции передают отдельные образы, например, символ ветки сирени, используемый Гончаровым для построения приёма зеркальной симметрии. Посмотрим зачин диалога между героями:
— Что это у вас? — спросила она.
— Ветка.
— Какая ветка?
— Вы видите: сиреневая.
Вообще проблеме симметрии в построении художественного произведения Гончаров придавал огромное значение. Так в письме к поэту А. Майкову он объясняет, почему в России так мало говорят о майковском переводе поэмы Данте «Божественная комедия»: «Причина этому, конечно, Вам понятна: поэма не вся напечатана, из неё вырезано сердце, разрушена её симметричность...» [Цит. по: Добролюбов 1989: 79].
В предпоследней главе Гончаров изображает время – где-то с полчетвёртого до полпятого вечера, – и то стараниями Захара, чтобы вывести читателя из полутёмного, герметически закупоренного пространства обломовского кабинета на свежий воздух, на свет, «к воротам». Однако читателю не придётся зажмуриться от потока предзакатного света, поёжиться от свежего ветерка, заметить какую-нибудь зелёную травинку, увидеть на небе хоть облачко. Ничего этого нет: ни одного штриха, ни одной подробности, ни одной какой-либо приметы весеннего знаменательного дня, о котором столько говорили посетители Ильи Ильича, зазывая его прокатиться на гулянье в Екатерингоф. Ни земли, ни неба.
День оказался, как определил цвет лица своего героя писатель, «безразличным». Он выступает здесь больше как дата, как временной отрезок, выполняющий роль скобок, которые заключают в себе одну страничку ограниченной стенами жизни Обломова, всё происходящее с ним в рамках этого коротенького срока.
«Зги Божией не видно», – лучше, чем Алексеев, о дефиците света в комнате Обломова, пожалуй, не скажешь, а в три другие комнаты, которые наглухо зашторены, Гончаров нас даже не допускает, словно там скрывается какая-то тайна, которую никому не следует знать [Гончаров 1986: 16]. Здесь мы явно наблюдаем асимметрию пространства и времени.
Слово за слово, фраза за фразой, Гончаров ткёт ритм световой приглушённости, цветовой однообразности, монотонности, осуществляя его регулярными повторами строго подбираемых им определений, глаголов, предметных существительных. От серого сюртука Захара уже некуда деться, в некоторых абзацах текста он многократно тиражируется; а рядом «серая бумага письма», само письмо – «грязное такое», просто серая бумага, бледные буквы, бледно-чернильное пятно, «паутина, напитанная пылью», сама пыль, продолжительные толки о ней, сор, кучи сора, «куча старого изношенного платья», «пожелтевшие страницы» какой-то книги, замасленные тетради, какая-то грязноватая бумажка из кармана Тарантьева и колеблющийся дым от его сигары, тёмный камень перстня на пальце доктора, – всех микродеталей этой ритмической пряжи не перечислить. Таким образом, в текстовом пространстве первой части романа оказывается равномерно рассеянным всё, что, так сказать, «запылилось и полиняло» [Гончаров 1986: 38].
В разных ипостасях выступает Обломов, принимающий своих утренних визитёров: как единственный зритель перед театральной сценой; как экзаменатор, оппонент и спорщик одновременно; как лицо, то искушаемое житейскими соблазнами, то просящее сочувствия и помощи. И с каждым гостем поворачиваются к нам новой неожиданной гранью натура, характер, мировоззрение Ильи Ильича.
И как бы ни разнились между собой по внешности и возрасту, по темпераменту и социальной градации те шестеро, кто собрался в то утро навестить Обломова, каждому из них и постояльцу дома по Гороховой надлежит соблюсти единый церемониал, не нарушая определённой автором последовательности. Это создает свое пространство вокруг Обломова, это пространство можно сравнить с театральной сценой. Причём здесь мы видим типичный прием асимметричного пространства: зритель один, а актеров много.
Пространство в романе связано и с животрепещущей проблемой, решаемой через судьбу его главного героя, с проблемой своего дома, своего пристанища, своего угла, собственного гнезда. Точка зрения Штольца позволяет найти, казалось бы, единственное решение этой проблемы. Но только вот точка зрения самого Ильи Ильича находится в противоречии и со штольцевской и, как ни странно, с авторской. «Грезится ему, что он достиг той обетованной земли, где текут реки мёду и молока, где едят незаработанный хлеб, ходят в золоте и серебре...» [Гончаров 1986: 27]. Мечта Обломова идёт наперекор однонаправленности времени: оно должно не только остановиться (это страстное желание старого, отошедшего поколения обломовцев), оно должно ради Ильи Ильича повернуть вспять, чтобы потом уж вечно топтаться на солнечном пятачке Илюшиного детства. Реально же существующая, нынешняя Обломовка с её разрушениями и хаосом, которая, точно в искривлённом, и всё-таки объективном зеркале, предстала перед её владельцем в письме от старосты, мало интересует Обломова, хотя его план и содержит ряд «разных перемен и улучшений», «разные новые экономические, полицейские и другие меры» [Елизаветина 1987: 13].
Воображение Гончарова, не знающего, в каком углу придётся ему доживать на старости лет, нарисовало человека, имеющего наследственное гнездо, путь в которое ему почему-то заказан. Обломовка породила, выпустила в жизнь своего питомца, который, оперившись, ежечасно тоскует и мечтает о ней, но не знает туда обратной дороги. Как ни парадоксально, образ неподвижного, никуда не едущего, но живущего то на одной, то на другой квартире бесприютного Обломова начинает приближаться к образу «вечного путешественника», намеченному Гончаровым во «Фрегате «Паллада» [Ляпушкина 1992: 61].
В прозе Гончарова, вероятно, действует закон обратной перспективы, оригинально переложенный на литературную почву, что позволяет малозаметным эпизодам и явлениям приобретать вес и значительность. Чем дальше от основной сюжетной линии, чем мельче событие, тем оно ярче и сочнее обрисовывается автором. Нельзя, например, забыть Штольца, заночевавшего как-то в детстве прямо на рыбацком неводе, в сетях, или Захара, не представляющего жизнь на Выборгской стороне без «веника, досок, двух кирпичей, днища бочки и двух полен», без которых почему-то нельзя было обойтись ему в хозяйстве. Да и окна, куда так самозабвенно смотрит Обломов, что он там видит? Крышу четырёхэтажного дома, скрывающую каждый раз ближе к вечеру дневное светило, стриженую голову старухи в противоположной форточке, не препятствующие свету пшеницынские огороды. Обломов, окно и солнце выступают в виде неразрывной овальной триады, где окну отведена роль грани, границы между источником жизни и самой жизнью.
«Литература девятнадцатого века, если вдуматься, вся отражена в окнах, рассредоточена по уютным мезонинам и продолговатым терраскам, заключена в непроницаемые и в то же время сквозные стены комнат. Тут можно встретить утяжелённые акантом подоконники, простецкие рамы, многоцветные витражи, здесь обретают позолоту вечерние облака, увиденные с веранды» [Архипов 1992: 33].
Для выявления ритмической архитектоники романа особенно важно, что каждый герой имеет собственную сферу и собственную частоту вращения, своё пространство в романе, обращаясь вокруг всегда не подвижного Обломова. Например, Захар, по выражению Гончарова, «обращающийся всю жизнь около своего барина», оттеняет своей суетой редкую частоту вращения вокруг Ильи Ильича Штольца, «которого почти никогда не было в Петербурге» [Гончаров 1986: 14, 17]. Можно предположить, что именно элемент ожидания, присущий даже самым абстрактным уровням ритма, как раз и фокусирует читательское внимание на теме абсолютного движения и относительной неподвижности, мнимой инерции и скрытой энергии, непостоянной периферии и вечного центра. Следовательно, образ Обломова можно считать неким центром, а остальных героев симметрично «крутящихся вокруг», а значит, перед нами модель Вселенной, которая с одной стороны имеет свою упорядоченность (симметрию), а с другой – хаотичность (асимметрию).
Заключение
«Обломов» – из тех русских романов, к которым постоянно обращается мысль: не только для литературоведческих исследований, но прежде всего для того, чтобы понять принципы и особенности развития отечественной культуры. Роман Гончарова каждый раз трактовался по-новому, причем менялась не характеристика образа, – все сходилось, что в Обломове изображен сонный ленивец, – менялась оценка, менялось отношение к герою. Герой романа Илья Обломов далеко не одномерен: он представляется трагическим героем, изображенным иронически, хотя с горькой иронией, возможно, даже с любовью.
«Сонное царство» Обломовки графически можно изобразить в виде замкнутого круга. Кстати, круг имеет прямое отношение к фамилии Ильи Ильича и, следовательно, к названию деревни, где прошло его детство. Как известно, одно из архаических значений слова «обло» – круг, окружность. Он оставляет читателя наедине с нулем – символом круглого, цельного мира Обломова. Комната Ильи Ильича также напоминает замкнутое пространство. Диван может ассоциироваться с колыбелью, а колыбель сравнивается автором с крыльцом дома. Образы дивана и колыбели тоже можно считать закрытыми пространствами, так как Обломов остался жить мыслями и душой в Обломовке, в своей колыбели, а диван и становится его колыбелью из детства, ведь только в пространстве диван он может мечтать и мечтать об Обломовке. Автор изображает главным образом детство героя, то есть некое состояние ноля (еще не личность), к тому же роман заканчивается смертью героя (опять ноль).
Этот ноль, находя себе соответствие в композиции книги, напоминает и об идеальном пространстве и времени, то есть о совершенстве годового круга, и о букве «О», с которой начинаются названия всех романов Гончарова и фамилия главного героя. Для русского человека привычно пространство-горизонталь: поля, степи. А замкнутый круг ассоциативно связан с восприятием русского человека времени как земледельческого года.
Время в романе циклично, как и циклична история человечества: упоминание Илиады, Ильи Муромца. Движение и ритм прозы Гончарова имеет чёткую частоту и амплитуду, это доказывает и образ маятника, и архитектоника романа.
Итак, хронотоп произведения «Обломов» архетипичен – круг во все эпохи человечества имел символическое значение.
Помимо этого пространство романа включает и еще один текст – текст Библии. «Сон Обломова» – явное подтверждение особенностей русского христианства – связь с языческой верой.
«Проблема Обломова» остросовременна. Неполнота и несовершенство человека в этой проблеме обескураживающе наглядны» [Мережковский 1991: 129]. Гончаров показывает в своем герое не только «уныние» – самый тяжкий грех в христианстве (проблема уныния и сейчас волнует человечество), автор с большой симпатией относится к своему герою как представителю русского менталитета вообще. Он оставляет для Ильи Ильича надежду на спасение души. Писатель указывает на то единственное, что может оправдать Обломова. При внимательном чтении романа обнаруживается, что Гончаров, несомненно, намекал на заповеди блаженства, когда упоминал в романе устами других героев «чистое сердце» Ильи Ильича. Может быть, стоит обратить внимание на то, что Обломов не только чист сердцем, но и кроток (Ольга в прощальном разговоре говорит: «Ты кроток... Илья»). Для исследователей духовности в романе (таких, как Мельник В.И.) остается еще много неоткрытого в творчестве И. А. Гончарова. Обломов умирает, но «проблема Обломова» удивительно актуальна на сегодняшний момент. Обломовская мечта о «полном», «целом» человеке ранит, тревожит, требует ответа…
Литература
Алексеев, А. Д. Библиография И. А. Гончарова. Гончаров в печати. Печать о Гончарове (1832—1964). – М.: Изд-во Высшая школа, 1968. – С. 59-65.
Архипов, А. В., Федорова, А. В. Юбилейная научная конференция, посвященная Достоевскому и Гончарову // Русская литература. – 1992. – №2. – С. 33-36.
Бак, Д. П. Иван Гончаров в современных исследованиях // Новое литературное обозрение. – 1996. – № 17. – С. 368-371.
Балакина, И. Ф. Религиозно-экзистенциалистские искания в России начала 20 в. // Современный экзистенциализм. – М.: Изд-во Высшая школа 1966. – С. 35-41.
Белинский, В.Г. Взгляд на русскую литературу 1847 года // Гончаров И.А. Необыкновенная история: Повесть. Обыкновенная история: Роман. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс,1999. – С.485 - 506.
Введение в литературоведение. Литературное произведение: Основные понятия и термины: Учеб. пособие / Л.В. Чернец, В.Е. Хализев и др. / Под ред. Л.В. Чернец. – М.: Высш. шк.; Издательский центр «Академия», 1999. – 556 с.
Гейро, Л. С. О проблемах научного издания Гончарова // Русская литература. – 1982. – №3. – С. 11-14.
Гончаров, И. А. Обломов. – М.: Изд-во Олимп, 1986. – 371 с.
Гончаров И.А. в русской критике. – М.: Изд-во Художественная литература, 1958. – С.53-94.
Десницкий, В. А. Трилогия Гончарова / В. А. Десницкий // Избранные статьи по русской литературе XVIII—XIX вв. – М.-Л.: Изд-во Высшая школа 1958. – 262 с.
Добролюбов, Н.А. Что такое обломовщина? // Лучше поздно, чем никогда. – М.: Изд-во Художественная литература, 1990. – С. 56-61.
Добролюбов, Н.А. Собрание сочинений: В 2 тт. Т.1. – М.: Изд-Во Художественная литература, 1989. – С. 79-80.
Дорофеева, Т.С. Особый слог И.А. Гончарова // Русская речь. – 1982. – №3. – С.32-39.
Дружинин, А. В. «Обломов». Роман И. А. Гончарова // Литературная критика. — М.: Изд-во Художественная литература, 1983. – С. 296-299.
Дружинин, А.В. И.А. Гончаров. Очерки. Литературная критика. Письма. Воспоминания современников. – М.: Изд-во Правда, 1986. – 592с.
Елизаветина, Г. Великий мастер слова: К 175-летию со дня рождения И. А. Гончарова // Молодая гвардия. – 1987. – №6. – С. 13-15.
Жирмунский, В. М. Теория стиха. О ритмической прозе. — Л., 1975. – С. 571.
Краснощекова, Е. А. Критическое наследие Гончарова // Гончаров — критик. – М.: Изд-во Правда, 1981. – С. 11-23.
Криволапова, В. Н. Еще раз об «обломовщине» // Русская литература. – 1994. – № 2. – С. 36-39.
Лихачев, Д. С. Нравоописательное время у Гончарова / Д. С. Лихачев // Поэтика древнерусской литературы. – М.: Изд-во Высшая школа, 1979. – С.70-112.
Лотман, Л. М. И. А. Гончаров // История русской литературы. Т. 3. Л., 1982. – С.46
Ляпушкина, Е. И. Идиллические мотивы в русской лирике начала XIX века и роман И. А. Гончарова «Обломов» // От Пушкина до Белого: проблемы поэтики русского реализма XIX — начала XX вв. – СПб.: Изд-во Авалонъ, 1992. – С. 61-65.
Мережковский, Дмитрий. Акрополь: Избранные литературно-критические статьи. — М.: Изд-во Наука, 1991. – С. 129.
Мельник, В. И. Философские мотивы в романе И. А. Гончарова «Обломов»: К вопросу о соотношении «социального» и «нравственного» в романе // Русская литература. – 1982. – №3. – С. 23-27.
Мифологический словарь (МС). Т. 2. — М.: Изд-во Наука, 1988. – С.306
«Народный театр». Библиотека русского фольклора. — М.: Изд-во Наука, 1991. – С. 329-338.
Недзведский, В.А. Гончаров. // История всемирной литературы. – Т. 7. – М.: Изд-во Наука, 1991. – С. 50-56.
Философский энциклопедический словарь (ФЭС). – М.: Изд-во ИНФА-М, 1998. – 576 с.
Флоровский, Георгий. Пути русского богословия. — СПб.: Изд-во Авалонъ, 1991. – С. 3-5.
Шейнина, Е.Я. Энциклопедия символов / Е.Я. Шейнина. – М.: Изд-во Торфинг, 2003. – 536 с.