

СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ
Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно
Скидки до 50 % на комплекты
только до
Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой
Организационный момент
Проверка знаний
Объяснение материала
Закрепление изученного
Итоги урока

Малов В. “Легенды ведут к открытиям”
Он плотнее закутался в плащ.
Шлюп «Мирный», идущий поблизости тем же курсом, что и «Восток», можно было различить, даже когда солнце вновь исчезало. Но как надо, чтобы оно задержалось на небе хоть чуть дольше! Досадно: здесь, за Южным полярным кругом, стоит сейчас длинный полярный день, солнце не уходит с небосклона, а тучи, метель как будто сговорились скрыть от его лучей, а значит, и от глаз участников экспедиции какую-то важную тайну. В том, что тайна эта есть, теперь нельзя сомневаться. Птицы, появляющиеся над кораблями все в большем количестве, изменившийся цвет воды говорят о том, что разгадка уже где-то рядом.
Просмотр содержимого документа
«Малов В. “Легенды ведут к открытиям”»
Малов В. “Легенды ведут к открытиям”

...Невозможному поверив,
Невозможное свершишь.
(Генрих Гейне, «Бимини»)
Над палубой низко кружился снег. Намокшие паруса казались тяжелыми и бессильными. Было сумрачно, серо, холодно. Но в просветах между тучами иногда показывалось солнце, и лучи его то на минуту, то на две пронизывали холодную мглу.
В очередной раз поднося к глазам подзорную трубу, командир вдруг вспомнил шутку, которая часто повторялась в кают-компании: в северном полушарии сейчас, в январе, разгар зимы, а уж здесь-то, в южном, где все «вверх ногами», как раз наступила середина лета...
Он плотнее закутался в плащ.
Шлюп «Мирный», идущий поблизости тем же курсом, что и «Восток», можно было различить, даже когда солнце вновь исчезало. Но как надо, чтобы оно задержалось на небе хоть чуть дольше! Досадно: здесь, за Южным полярным кругом, стоит сейчас длинный полярный день, солнце не уходит с небосклона, а тучи, метель как будто сговорились скрыть от его лучей, а значит, и от глаз участников экспедиции какую-то важную тайну. В том, что тайна эта есть, теперь нельзя сомневаться. Птицы, появляющиеся над кораблями все в большем количестве, изменившийся цвет воды говорят о том, что разгадка уже где-то рядом.

Офицеры на мостике и матросы на вантах напряженно всматривались в горизонт. Командир, отставив на миг подзорную трубу, оглядел всех поглощенных одним занятием людей, и вдруг его остро пронзило предчувствие: сегодня, совсем уже скоро!..
Прошел час, другой, третий... И солнце пробилось наконец сквозь серую пелену, надолго осветив белые ледяные поля, в разводьях которых медленно лавировали два маленьких русских корабля. Вдали виднелась земля, покрытая снегами, сквозь которые, однако, проступали черные мысы и скалы, даже горы; одна из гор высоко взметнулась вверх. Землю увидели все почти одновременно. Это была большая земля, она тянулась далеко в обе стороны по горизонту. Земля, ради которой «Восток» и «Мирный» прошли такой громадный путь через весь свет.
Позже Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен, командир «Востока» и начальник экспедиции, наречет ее Землей Александра I. Настанет минута, когда команды выстроятся на палубах и матросы трижды крикнут в честь великого открытия «ура!». А в этот первый, самый счастливый миг все до одного участника русской антарктической экспедиции на шлюпах «Восток» и «Мирный» как завороженные смотрели на дальнюю полоску земли, и каждый, должно быть, испытывал прекрасное чувство первооткрывателя. Они еще сами боялись поверить в то, что именно им, а никому другому удалось наконец открыть ту самую Южную Неведомую Землю, которую искали до них на протяжении веков...
События, подобные этому, еще не раз встретятся на страницах книги, которую ты, читатель, сейчас взял в руки. Герои ее не раз будут совершать географические открытия и наносить на карту новые земли и новые берега. Вернемся мы — в свое время и более обстоятельно — и к открытию Антарктиды, совершенному экспедицией под командованием Фаддея Фаддеевича Беллинсгаузена и Михаила Петровича Лазарева. А пока вновь повторим эти слова: Южная Неведомая Земля... Не правда ли, звучат они так красиво, поэтично?..
И так призывно!!!
Ведь на поиски этой легендарной земли — громадного материка, будто бы существовавшего где-то в южном полушарии,— отправлялись в разное время десятки, даже сотни мореплавателей. В XVI веке его искали экспедиции испанца Альваро Менданьи де Нейры и португальца на испанской службе Педро Фернандеса де Кироса. Позже в южных морях плавали голландцы Биллем Янц, Абель Тасман, Якоб Роггевен, англичане Сэмюэль Уоллис, Филипп Картерет, французы Лозье Буве, Луи де Бугенвиль, Ив Жозеф де Кергелен... В ходе плавания с карты мира постепенно стиралось огромное белое пятно, занимавшее почти все южное полушарие, появлялись на ней новые острова, целые архипелаги. И все новые и новые экспедиции упрямо продолжали поиски: ведь громадный материк, в существование которого все непоколебимо верили, так и не был пока найден.
А почему, собственно, верили? Может быть, кто-то из мореплавателей когда-то прежде уже побывал на этой земле, а потом дорогу к ней забыли? Нет, оказывается! Вот ведь какой удивительный факт: географы предсказали существование южного материка теоретически, причем очень давно — за несколько веков до нашей эры. Как же это могло случиться?
Еще в античные времена появилось учение о шарообразности Земли. Авторами его были —' современные ученые спорят об этом до сих пор — либо Пифагор, либо Фалес, либо Парменид. Однако откуда взялось такое удивительное научное предвидение, ведь никому из древних не удалось совершить кругосветного путешествия, бесспорно доказавшего шарообразность Земли? Но причина проста. Шар, как считали античные ученые,— это самая идеальная фигура, а мир должен быть устроен гармонично, . идеально. Значит, самая подходящая форма для него — шар. И это же самое представление об идеальном привело и к гипотезе о существовании Южного материка. Греческим и римским ученым были известны три части света — Европа, Азия и Африка (конечно, трем этим материкам, омываемым океаном, придавались самые приблизительные, на уровне знаний того времени, порой просто фантастические очертания). Известные им земли античные географы помещали в северном полушарии. Значит, в южном должна была существовать «для равновесия» обширная суша — Южный материк.
Так и возникла эта удивительная гипотеза. Позже за гипотетическим материком утвердилось название Terra australis incognita — Южная Неведомая Земля, и непоколебимая вера в существование этой земли дожила до средних веков, маня мореплавателей в путь. Когда человек научился не бояться беспредельных морских просторов, когда корабли стали все смелее выходить в дальние плавания, начались долгие поиски Южной Неведомой Земли.
Географическое заблуждение, легенда... Однако к скольким подлинным географическим открытиям она привела! Новая Гвинея, Соломоновы острова, Новые Гебриды, Новая Голландия (которая в XIX веке стала называться Австралией), Новая Зеландия — вот только некоторые вехи в длинной истории поисков, завершившихся важнейшим событием — открытием Антарктиды. Как это не удивительно, но чисто теоретические предположения ученых древности в этом случае оправдались: Южный материк, пусть значительно меньших размеров, чем предсказанный, существовал на самом деле!
Это лишь одна из географических легенд, а их было достаточно в истории географии, порой самых фантастических, и чаще всего они так и оставались легендами, которые не подтверждались, да и не могли подтвердиться. А путешествий, совершенных вслед за этими легендами, было великое множество. Так искали золотую страну Эльдорадо, остров Вечной молодости, Землю Санникова... Так выходили на поиски страны семи городов и острова Бразил... Легенда всегда оказывалась наделенной удивительной притягательной силой (и, конечно, не только в истории географии). Человек всегда был готов отправиться за ней в путь, чего бы это ему ни стоило, — наверное, без этого он просто не был бы человеком! И пусть даже не подтверждалась та или иная манящая сказка, человек всегда открывал на пути что-то, чего он еще не знал, но что должен был обязательно узнать.
О путешествиях, совершенных вслед за географическими легендами, и пойдет речь в книге. Различным было происхождение этих легенд, самые разные люди и с разными целями — и за золотом, и за научной истиной — снаряжали свои экспедиции по их следу, уходили они в разные края, в разное время. Но каждая из этих экспедиций прибавляла человеку новые знания о Земле, еще дальше отодвигала границы известного мира и прокладывала путь для многих других людей. А все вместе они вписали в обширную хронику познания человеком своей планеты некоторые из самых интересных, самых поучительных и самых драматических страниц.
...Но если было столько путешествий, совершенных «по заблуждению», и столько вызванных заблуждениями замечательных открытий, то почему же, начиная рассказ о них, прежде всего мы вспомнили открытие Антарктиды?
Да потому, что русские моряки открыли неизвестную прежде часть света — шестой материк. Это было, бесспорно, самое важное из открытий, вызванных одним лишь предположением или вымыслом. Трудно сравнить с этим открытием какое-либо другое, каким бы значительным оно ни было. Это была самая большая из удач, о которых только может мечтать путешественник, хотя и другие из экспедиций за легендами принесли огромный и важный географический материал.
Но, впрочем, обо всем по порядку. Пора начинать наше собственное путешествие за легендой.
Глава первая. Источник юности 
Пергамент негромко шелестел в руках губернатора. Он держал его, отставив далеко от глаз, и медленно, чуть нараспев, читал вслух:
- «Если ты отплывешь от нашей земли в ту сторону, что лежит правее захода солнца, то остров появится перед тобой через девять дней и девять ночей, на десятое утро Первое, что ты увидишь с большой воды, это вершину горы. Берег же закрыт сплошной стеной зеленых деревьев, а поэтому кажется, что ступить на берег нельзя. Но если ты окажешься зорким, то найдешь несколько незаметных троп.
Ступи на остров в том или ином месте и иди к подножию горы, не забывая во время пути о том, что нельзя оборачиваться, иначе источник утратит для тебя свою чудесную силу. Настанет момент, и леса расступятся, и переД тобой откроется ровное место. Там и бьет этот источник, давший вечную молодость. Засохший цветок, смоченный его водой вновь расцветет и останется таким вечно. Мертвая ветка, опущенная в его струи, тут же зазеленеет и даст новые ростки. А ты человек, если не оглядывался, опустись на колени и сделай лишь несколько глотков. И возвращение молодости произойдёт так незаметно, что в предыдущие мгновения ты еще будешь старым и немощным, а в следующее мгновение станешь юным и полным сил...»
Отложив пергамент, губернатор выпрямился руки его слегка вздрагивали. Стоящий перед массивным вывезенным из Испании губернаторским столом человек почтительно проговорил:
— Я записал не все, дон Хуан, многие незначительные подробности опущены, но то, что необходимо, изложено. Это великое чудо!
— Это великое чудо! — взволнованно откликнулся губернатор. — И, значит, ты говорил с очень многими?
— С этим стариком, приведенным в ваш дом, я говорил не один день, дон Хуан, — ответил человек.— Бог дал ему разума настолько, что он уже понимает нашу речь и может отвечать. Потом я расспрашивал и других жителей этой земли. Все они говорят одно и то же, все указывали одно направление: от Пуэрто-Рико надо плыть на север. Все они повторяли одно название. Бимини — вот имя острова, где бьет источник.
- Бимини... Да, об этом часто говорит и Кача, — пробормотал губернатор. — Только прежде я был склонен считать это безумным бредом выжившей из ума старухи индианки, которой я из милости разрешил прислуживать себе. Но если столько людей едины в мысли, значит, все это правда?!..
По лицу губернатора вдруг быстро скользнула тень.
- А что же он сам все еще немощен и стар, если знает дорогу к чудесному источнику? Почему стара Кача? Почему здесь и другие старики? Ты спрашивал?!
- Я спрашивал! Ответ был один: индейцы чувствуют себя, в отличие от белых людей, всегда молодыми, даже если и стары с вида, и что они отправляются на Бимини только тогда, когда чувствуют в этом потребность, противиться которой уже нельзя. А те, кто побывал у источника и испил его воду, навсегда остаются в этой чудесной стране.
- Это великое чудо! — медленно проговорил губернатор. Это знамение, что я первый узнал о чудесном источнике!
Дон Хуан Понсе де Леон, губернатор острова Пуэрто-Рико, резко поднялся, отодвинув назад кресло. Он был сухощав и держался прямо, однако он старел и уже чувствовал это. Его верный слуга, сопровождавший господина во всех походах, состарился еще раньше.
- Ну, так мы найдем этот остров Бимини и источник вечной молодости на нем, — торжественно, словно давая клятву, произнес Понсе де Леон. — Мы, и никто другой, кроме нас! Мы найдем его, да поможет нам пресвятая дева!
И губернатор, как подобало доброму христианину, перекрестился. Старый слуга поспешил последовать его примеру.
Шел 1511 год.
Пройдет совсем немного времени, и начнется это удивительное путешествие на поиски Бимини, едва ли не самое удивительное из всех путешествий, какие когда-либо начинал человек. Впрочем, все казалось возможным в то время, все, даже самое невероятное, потому что само время было невероятным.
Пожалуй, лучше всего сравнить это с туманом, который вдруг начал рассеиваться, отступая все дальше к горизонту и открывая то, что было прежде невидимым Словно бы из гус того, непроницаемого тумана, который держался века, перед европейцами, пересекшими Атлантический океан, вдруг все больше и больше стала открываться неизведанная страна, огромный и удивительный новый мир.
Сначала, после первого плавания Христофора Колумба, искавшего «западный путь в Индию», этот мир был ограничен всего лишь Кубой, которую Колумб посчитал одним из полуостровов Азии, и островом, получившим название Эспаньола — Испанский остров (ныне Гаити), да еще несколькими небольшими островами. 4 января 1493 года Христофор Колумб, сделав все эти открытия и потеряв одну из трех своих каравелл — «Санта-Марию», — отправился в обратный путь, в Испанию, а на Эспаньоле остались тридцать девять человек, основавших первое в истории европейское поселение в Новом Свете.
Прошло совсем немного, и границы этого нового мира отступили еще дальше: Колумб, провозглашенный теперь испанскими владыками, королем Фердинандом и королевой Изабеллой, «адмиралом, вице-королем и правителем открытых островов и материка», совершил вторую экспедицию за океан. Теперь под его командой были уже не три каравеллы, а целая флотилия из семнадцати судов, в том числе и три крупных корабля; в путь вместе с адмиралом отправились около двух тысяч человек. В этот раз были открыты крупные острова Доминика и Гваделупа и множество мелких (на современных картах они входят в группу Малых Антильских островов); кроме того, экспедиция открыла Виргинские острова, крупный остров Борикен, позже переименованный в Пуэрто-Рико, и, наконец, остров Сант-Яго (ныне Ямайка).
С изумлением, восторгом, недоумением — кто как — в Испании рассматривали трофеи этих первых путешествий за океан. Среди них были странные, невиданные в Европе растения и плоды, перья неведомых птиц... И люди — непохожие на европейцев, люди с медно-красной кожей и гортанными голосами Впрочем, самым ценным трофеем, было, конечно, другое золото Правда, поначалу его было совсем немного, но это означало, что необходимы все новые и новые экспедиции в богатую «Азию», путь к которой и нашел Христофор Колумб, плывя через океан на запад. В Испании только что закончилась Реконкиста — освобождение страны из-под вековой власти арабов Множество мелких дворян, прежде занятых непрерывными войнами, остались не у дел, без средств к существованию. И экспедиции следуют одна за другой, теперь уже десятки, сотни испанских кораблей идут через океан, спеша опередить португальцев, которые открыли восточный путь в «подлинную полуденную Индию», следуя вокруг земного, шара в обратном направлении.
Третья экспедиция Колумба открывает остров Тринидад н северное побережье Южно-Американского материка. Тут же экспедиции Пинсона, Охеды, Лепе дают возможность представить, каких огромных размеров этот материк: корабли Лепе, например, прошли вдоль его восточного побережья сотни миль, опустившись до десятой параллели южного полушария... Четвертая и последняя экспедиция первопроходца, Христофора Колумба, открывает .в 1502—1504 годах восточные берега Центральной Америки —• Гондурас, Никарагуа, Коста-Рику, Панаму.... Экспедиции продолжают следовать одна за другой. Год 1505... 1508... 1511... Туман рассеивается, из него все яснее выступают контуры нового огромного мира.
И все большее число людей — наконец-то! сначала смутно, а потом все отчетливее начинают понимать, что этот новый мир на самом деле ничего общего не имеет с Азией, что Ко-.лумб, считавший его восточной Азией, так и умер — умер в бедности,— не узнав о своем великом заблуждении. Неудачник Колумб! Смерть избавила его еще от одного удара: ему не суждено было узнать и о том, что с его великим открытием будет потом связано имя совсем другого человека Америго Вес-пуччи Этот мореплаватель участвовал в нескольких экспедициях в Новый Свет и описал свои путешествия в письмах, которые были изданы во многих странах Европы, поэтому-то именно.ему, а не Колумбу один из картографов — М Вальдземюллер из Лотарингии приписал честь великого открытия и предложил назвать новый материк по его имени — Америкой Название это привилось навсегда.
Но, наверное, не стоит перечислять сведения, давно уже ставшие хрестоматийными. Давайте лучше попробуем представить, каким оно было, это время, отделенное от нашего уже почти пятью столетиями. Как, какими словами лучше охарактеризовать его, какое найти для него самое точное определение?
Должно быть, у каждой из наук есть свои звездные часы, когда она в короткое время стремительно поднимается до огромных высот, не только ломая прежние теории, но и внося в человеческу^о жизнь — не может быть иначе! — невиданные перемены. Разве не были для физики, например, такими звездными часами овладение тайнами электричества или ядерных реакций; для биологов — открытие дезоксирибонуклеиновой кислоты — вещества, передающего из поколения в поколение генетическую информацию об индивидуальных признаках любого живого организма; для химии — создание искусственных материалов?..
А конец XV — начало XVI века — это, бесспорно, звездные часы географии, когда вдруг выяснилось, что, помимо давным-давно уже известных земель, помимо Европы, Азии, Африки, существует и еще один громадный мир — Америка, что размеры планеты значительно больше, чем предполагалось прежде, и, значит, возможны и другие открытия.
И вот они, эти невиданные перемены, вызванные в жизни человечества стремительным географическим взлетом: раздвигаются не только границы известного мира,-— вместе с ними неимоверно раздвигаются границы самой человеческой мысли. Конечно, это не случайное совпадение, что именно в ту пору, когда человек начал одну за другой открывать новые земли за океаном, следует и ослепительный взлет литературы и искусства— европейское 'Возрождение. Громадный скачок географии словно вызывает на соревнование и другие науки. Появляются новые, совсем недавно невозможные еще предположения о том, как устроен мир, сведения о других небесных телах, о природных явлениях.
Развиваются ремесла, изделия человеческих рук становятся все совершеннее, и все чаще на помощь рукам приходят какие-то механические приспособления.
А самое главное — сам человек становится теперь совсем иным. Ум его, словно бы дремавший в пору средневековья, сразу стал пытливее, любознательнее, восприимчивее ко всему новому; правда, нередко эта восприимчивость ведет к наивной вере в самые фантастические идеи. Человек жадно впитывает знания и готов без устали учиться. Он становится теперь предприимчивее, смелее, хотя в основе предприимчивости -и смелости зачастую можно было увидеть не только жажду познания, но и корысть, алчность. Пожалуй, все люди той бурной эпохи, чьи имена дошли до нас, в той или иной степени соединили в себе все эти противоречивые черты.
Жажда познания, предприимчивость, алчность, наивная вера в невозможное... Вполне достаточно, чтобы увлечь человека в самое рискованное предприятие, если только оно сулит успех. И конечно, такие предприятия следовали в ту пору одно за другим. Эрнандо Кортес в 1519—1521 годах с крошечным отрядом солдат обманом и коварством покоряет громадную страну ацтеков Мексику и захватывает добычу, перед которой меркнут сокровища любого из европейских королей,— золото верховного вождя ацтеков Монтесумы. Не менее ослепительные сокровища становятся в 1533 году добычей Франсиско Писарро, покорившего — тоже с малочисленным отрядом и с не меньшим коварством и жестокостью — страну инков Перу...
А Понсе де Леон — первый из героев книги о путешествиях за вымыслом,— если б только его удивительная, невероятная экспедиция могла принести удачу, если б в действительности мог существовать источник юности,— открыл бы сокровище, с которым не сравнить даже все, вместе взятые, драгоценности мира. Увы!.. Как поколения алхимиков, искавших секрет «философского камня», способного превращать любой металл в золото (и, кстати, тоже дарить молодость), положили вместо этого начало практической химии, так и Понсе де Леоч открыл совсем не то, что искал. А источник вечной молодости? Что ж, сотни, может быть, тысячи лет спустя человечество откроет и его — найде способ сохранять, продлевать юность, научится бороться с старостью — не может быть иначе! А имя конкистадора, отправившегося в путь 3 марта 1513 года и назвавшего свою флаг майскую каравеллу «Операнда» — «Надежда», и тогда, через ве ка, можно будет найти в истории географии.
...Утро 3 марта было солнечным, радостным. Над гаваньи Сан-Херман, что на западном побережье острова Пуэрто-Рико Плыл перезвон корабельных колоколов. На трех нарядных кара веллах, чуть покачивающихся на теплой воде, матросы, выбиваясь из сил, выбирали якоря и ставили паруса, а с берега зг ними следили сотни людей, остающихся на острове и с нетерпением ждущих — нет, не того момента, когда корабли отправятся в путь, а счастливого мига возвращения, — когда Понсе де Леон вернется назад, совершив открытие, какого никогда еще не делал человек.
Теплый ветер, шелестевший листьями вечнозеленых деревьев, подступивших к самой кромке воды — люди под ними казались совсем крошечными, — развернул и натянул паруса. Каравеллы медленно двинулись к выходу из бухты, и толпа людей на берегу взорвалась приветственными криками.
Флагманская каравелла «Сперанца» шла первой. Она была нагружена пустыми бочками для воды из чудесного родника, а нос корабля украшала деревянная резная скульптура мадонны, выкрашенная в зеленый цвет надежды, и ее глаза, сделанные из осколков голубого стекла, пристально смотрели вперед, словно желали увидеть великое чудо первыми. Впрочем, как говорила индейская легенда, до острова Бимини было еще девять дней и девять ночей пути. Но и матросы, и офицеры, подобно деревянной мадонне на носу, тоже уже всматривались в горизонт, как будто боялись пропустить чудо.
Берег все больше отдалялся. Фигурки людей на нем исчезли, потом исчезли и деревья; остров Пуэрто-Рико, владение дона Хуана Понсе де Леона, скрылся за горизонтом. Теперь три корабля экспедиции были в открытом море. И, возможно, в эти первые часы плавания — так бывает с людьми, когда они начинают дело, которое считают самым важным в своей жизни, — дон Хуан Понсе де Леон вспоминал, что осталось за его плечами, и думал о том, каков он сам, достоин ли того, что задумал свершить...
Пройдет три с лишним века, и великий немецкий поэт Генрих Гейне напишет о Понсе де Леоне поэму (две строки из нее взяты эпиграфом к этой книге), где можно найти такие строфы:
...Все, чего так жаждут люди,
Я добыл рукою смелой:
Славу, сан, любовь монархов,
Честь и орден Калатравы..
..И на суше верен рыцарь
Всем привычкам морехода,
На земле, как в море синем,
Ночью спать он любит в койке...
Отважным, увлекающимся человеком, мечтателем, безраздельно поверившим легенде, — таким рисует его великий поэт. Но Гейне, следуя своему художественному замыслу — показать вечную мечту человечества о вечной молодости, — сознательно выделяет лишь некоторые из черт, присущих Хуану Понсе де Леону. да и само путешествие испанского конкистадора, опять-таки саедуя своему замыслу, он показывает, далеко отступая от исторической истины. А хроники, свидетельства современников заставляют прибавить к образу, созданному поэтом, и другие черты. Дон Хуан Понсе де Леон был истинным сыном своего времени.
Представитель одной из знатнейших, кастильских фамилий, он отличился в бесчисленных войнах испанцев с маврами. Потом, не задумываясь, он пересек океан вместе со второй экспедицией Колумба, надеясь, подобно тысячам других конкистадоров, на быстрое обогащение. Но если для большинства из них надежда так и оставалась надеждой — по крайней мере в первое время — дону Хуану повезло. В 1508 году во главе небольшого отряда солдат он завоевал остров, который туземцы называли Борикен. Напомним, что этот остров был открыт Колумбом во время его второго путешествия за океан, и, кто знает, может быть, именно тогда у дона Хуана Понсе де Леона, участника этого плавания, впервые мелькнула мысль о том, что хозяином Борикена, цветущего острова с благодатным климатом, должен стать именно он. И он стал им после нескольких лет жизни в Новом Свете. Обосновавшись на северо-восточном берегу Борикена, дон Хуан заложил в 1511 году город, который назвал в честь своего святого покровителя Иоанна Крестителя Сан-Хуан-Бау-тиста-де-Пуэрто-Рико. В дальнейшем, остров стал называться Пуэрто-Рико — Богатая Гавань.
Богатая? Такой она стала для дона Хуана. Нещадно грабя местных индейцев, он собрал в подвалах выстроенного для него дворца несметное количество золота. Его мало смущало то, что коренное население острова уменьшалось с катастрофической быстротой. По свидетельству старинных испанских хроник, Борикен был самым населенным из всех соседних островов. Индейцы занимались охотой, земледелием, рыболовством, умели ткать ткани и делать глиняную посуду. Один из историко-геогра-фов написал: «Пуэрто-Рико был сущим раем для индейцев, снимавших с его плодородных земель обильные урожаи; и, когда испанцы наткнулись на благоденствующее и счастливое индейское население, они решили, что они тоже нашли себе рай земной...» Что ж, для испанцев остров так и остался раем, а для индейцев превратился в кромешный ад.
Каждый из завоевателей, поделивших между собой Пуэрто-Рико, обзаводился сотнями краснокожих рабов, трудившихся на плантациях от зари до зари. Индейцы, изнемогая от непосильного труда, возводили стены домов для своих владельцев. За несколько лет губернаторства Понсе де Леона население острова сократилось втрое или вчетверо. В 1511 году на острове поднялось восстание — оно было подавлено с крайней жестокостью.
И в том же 1511 дон Хуан Поисе де Леон впервые услышал легенду об острове вечной молодости — Бимини.
Сначала ему рассказывала о нем старая индианка Кача, взятая в его дом прислугой. Но можно ли было поверить выжившей из ума старухе? Однако, как оказалось, и другие индейцы знали о том, что где-то к северу от Пуэрто-Рико лежит остров, на котором бьет источник, дарующий молодость. Их рассказы удивительно совпадали даже в мельчайших подробностях, все они называли одно и то же число дней и ночей, которые надо было провести в пути, чтобы достичь Бимини, они одинаково описывали вершину горы, которая венчала этот счастливый остров, и закрывающие его берега стены деревьев. И дон Хуан, которому было уже больше пятидесяти лет, поверил легенде.
Как возникла легенда на острове Борикен? Ведь чаще всего в основе любой легенды лежат какие-то реальные сведения, причудливо переплетающиеся на протяжении столетий с самым фантастическим домыслом. Возможно, она отразила память о каких-то реальных путешествиях коренных островитян на другие земли Карибского моря, еще более плодородные и цветущие, чем Пуэр-тО-Рико. Как бы то ни было, человек, завоевавший остров, твердо решил, что он будет первым из европейцев, открывшим, чудесный источник на острове Бимини, и стал готовиться в путь.
Впрочем, прежде ему пришлось столкнуться с некоторыми трудностями. Он не имел официальных прав на «плавания для открытий» — такие права давал только испанский король — и вдобавок был подотчетен в своих действиях губернатору более крупного острова — Эспаньолы — Диего Колену. Сначала дону Хуану Понсе де Леону пришлось вновь пересечь океан, чтобы просить о предоставлении ему прав на открытие — за свой личный счет — и на управление «островом вечной молодости».
И, видимо, действительно ничем нельзя было удивить человека в ту невероятную пору, если испанский король Фердинанд Арагонский, не выразив и тени изумления, предоставил Понсе де Леону все права и 23 февраля 1512 года подписал в Бургосе официальную грамоту. Скрепив этот фантастический договор своей подписью, король даже сказал при этом, намекая на ослепительные открытия Колумба: «Одно дело дать полномочия, когда еще не было предварительного примера, чтобы кто-нибудь занимал такой пост, но мы с тех пор научились кой-чему. Вы являетесь, когда начало уже сделано...»
Теперь можно было снаряжать экспедицию.
И сам состав этой необычной экспедиции был едва ли не самым удивительным во всей истории географических открытий. Как говорят, Понсе де Леон брал к себе в экипажи даже стариков, даже калек. Ведь уже через несколько дней пути им предстояло окунуться в чудесный источник и вернуть себе юность. Главным кормчим Понсе де Леон пригласил Антона Аламиноса, участвовавшего в четвертой экспедиции Колумба.
Понсе де Леон и Аламинос снаряжали корабли и нанимали экипажи в Санто-Доминго на Эспаньоле. Затем корабли пришли на Пуэрто-Рико, в гавань Сан-Херман. И 3 марта 1513 года чудесным, солнечным утром престарелые матросы, выбиваясь из сил, подняли якоря и развернули паруса.
Аламинос уверенно взял курс на северо-запад, в сторону Багамских островов. До 14 марта экспедиция побывала на уже известных испанцам островах Терке, Кайкос, Маягуана и некоторых других.
На острове Сан-Сальвадор — его открыла еще первая экспедиция Колумба — испанцы проконопатили один из кораблей, давший течь.
Затем экспедиция продолжила путь на северо-запад. Впереди лежали воды, в которых еще не был прежде ни один испанский корабль...
«Земля!»— вот ликующий возглас, издавна ставший символом географического открытия. Для экспедиции Понсе де Леона у открытия начались сразу же после того, как корабли отошли от острова Сан-Сальвадор. Едва ли не каждый день на кораблях звучал этот волнующий возглас — «Земля!». Матросы, офицеры экспедиции до боли в глазах вглядывались в горизонт. Бывало, слово «Земля!» выкрикивали несколько голосов сразу.
Но увы! Ежедневные открытия приносили пока лишь разочарования. Экспедиция один за другим открывала северные острова Багамской группы, и все они были невелики и пустынны, покрыты камнями и жалкой растительностью — ничего общего с тем островом Бимини, который искали. И все же Понсе де Леон останавливался на каждом из островов.
Гремя цепями, в воду быстро уходили якоря, потом за борт спускались шлюпки. Торопливо, стремясь опередить одна другую, они шли к берегу. Дон Хуан Понсе де Леон, как подобало главе предприятия, ступал на сушу первым. Звучали короткие слова молитвы — так было всегда, когда испанцы вступали во владение новой землей, — и участники экспедиции рассыпались по острову, ища чудесный источник. Каждый, конечно, хотел найти его первым.
Воду пробовали из всех родников, озер, даже дождевых луж. В ней купались, обливали себя с ног до головы. Вода была самой обыкновенной, и никто не становился моложе. Лица стариков по-прежнему оставались морщинистыми, а волосы седыми. И разочарованные путешественники возвращались на корабли, чтобы продолжить путь.
Цепочка голых пустынных островов кончилась, корабли вновь оказались в открытом море. Потянулись медленные, длинные дни томительного ожидания. Теперь уже четвертую неделю корабли Понсе де Леона были в пути. «Девять дней и девять ночей» давно прошли, но испанцы все еще не теряли надежду. Возможно, слишком много времени ушло на обследование этих бесплодных земель, а нужно было, не останавливаясь, проходить мимо. По вечерам, затворившись в своей каюте, дон Хуан Понсе де Леон горячо молился своим святым покровителям, чтобы они даровали ему успех. Приближался первый день христианской цветущей пасхи — по-испански Паскуа Флорида, — и губернатор Пуэрто-Рико верил в то, что в эти дни святые особенно чутки к просьбам о помощи.
26 марта, на двадцать третий день плавания, в небе над кораблями вдруг показалась какая-то птица. Она сделала широкий круг над мачтами и улетела на запад. Птицу увидели сразу очень многие, над кораблями взлетели радостные крики, ведь птица была явной предвестницей земли. Земля, очевидно, была где-то совсем рядом, поблизости, на расстоянии всего лишь нескольких часов плавания. .И когда, в который уже раз, три каравеллы оказались в густых южных сумерках, мало кто мог уснуть, с нетерпением ожидая утра.
Утром на горизонте появилась земля. Ее все ярче освещали лучи восходящего солнца, и все отчетливее можно было разглядеть, какая это была земля.
К самой воде подходила сплошная стена зеленых деревьев, перевитых лианами...
В воздухе стоял густой, пряный аромат чудесных цветов и звучал разноголосый, ласкающий слух музыкальный птичий хор...
На желтых прибрежных отмелях ласково плескалась теплая, пронизанная солнцем вода; чем выше поднималось солнце, тем больше вода искрилась и сверкала в его лучах, — в ней словно бы сами собой рождались все новые и новые драгоценные камни...
И чем ближе корабли Понсе де Леона подходили к берегу, тем прекраснее и манящее казалась эта новая, неизвестная никому прежде земля. Конечно, думали все, это и был остров Бимини, цель поисков, потому что только на такой земле и мог существовать чудесный источник, дарующий молодость всему живому. Она не могла быть другой, раз в недрах ее текла вода юности и счастья.
Так начался для этой экспедиции первый день пасхи 1513 года.
Наверное, в жизни дона Хуана Понсе де Леона это был самый счастливый день, — день, когда очарованный несбыточной мечтой человек свято верил в то, что он действительно достиг своей цели. И, наверное, тем горше, во сто крат сильнее, оказалось разочарование, которое было уже недалеко...
Каравеллы подошли ближе к берегу. За борт спустили шлюпки они быстро двинулись к счастливому острову Бимини. Впрочем теперь он назывался уже не Бимини. Понсе де Леон, увидев божие знамение в том, что эта земля была открыта в первый лень пасхи, тут же решил вместо языческого названия дать ей самое подходящее христианское имя — Флорида, цветущая.
На берегу срубили дерево и вытесали из него большой крест.
Зазвучали протяжные слова молитвы, на берегу поднялся крест в знак того, что у испанского короля появилось за океаном еще одно новое владение. И, скомкав последние слова молитвы, конкистадоры двинулись по какой-то едва приметной тропинке в глубь острова. Вскоре они действительно нашли чудесную поляну, где негромко журчал среди цветов родник с чистой, кристально прозрачной водой. Легенда была правдой, сбылось все! Дон Хуан первым жадно приник к источнику и, вглядываясь в свое отражение — стареющий человек с морщинистым лицом и поседевшей бородой, — начал жадно пить холодную воду .
Это тоже была самая обыкновенная вода.
Дальше для Понсе де Леона, для всех участников его экспедиции началась длинная цепочка разочарований, которые становились все тяжелее.
В течение двух недель кормчий Антон Аламинос вел маленькую эскадру вдоль восточного побережья прекрасной Флориды на север. Испанцы высаживались на берег вновь и вновь, продолжая пробовать воду из каждого источника, будь то ручей, родник или маленькое озеро. В нескольких индейских селениях произошли стычки с местными жителями, упрямо отказывающимися показать — они никогда и не слышали о нем,— где же все-таки бьет источник вечной молодости. Правда, добычей испанцев стали несколько золотых безделушек, но золото было малоценным, низкой пробы.
Наконец, у 30° северной широты дон Хуан Понсе де Леон высадился на берег в последний раз. Здесь испанцев встретили сильные индейские племена, люди, как писал один из испанских» хронистов того времени, «рослые, сильные, одетые в звериные шкуры, с громадными луками, острыми стрелами и копьями на манер мечей». Вступить с ними в сражение Понсе де Леон не решился — испанцы были истощены бесплодными поисками,— и приказал повернуть корабли в обратный путь. Может быть, чудесный источник бил где-то на другой оконечности острова, оказавшегося таким большим? Искатель молодости и не подозревал о том, что на самом деле открыл не остров, а часть Северо-Американского материка — полуостров Флориду.
Это было одним из самых замечательных открытий в истории изучения Нового Света.
Когда корабли повернули на юг, они почти сразу же попали во встречный поток мощного теплого морского течения; оно шло в океан между Флоридой и Багамскими островами. Словно бы громадная река темно-синего цвета, резко отличавшегося от зеленоватой воды океана, текла с запада, чтобы у юго-восточного края Флориды круто повернуть на север. Мощь этой «реки» была такой, что во время какой-то стоянки один из кораблей был сорван с якорей и унесен в открытый океан; лишь ценой огромных усилий экипажа ему удалось соединиться с двумя остальными каравеллами.
Что это было за течение? Кормчий экспедиции Антон Аламинос, насколько мог, изучил его направление и несколько лет спустя выдвинул верную идею: этим мощным течением можно пользоваться при возвращении из Нового Света в Испанию, оно, по всей вероятности, должно подходить и к берегам Западной Европы...
Так в 1513 году Понсе де Леон открыл Гольфстрим — великую «реку в океане», переносящую в десятки раз больше воды, чем все пресные реки материков.
Теперь экспедиция искателя вечной молодости поднималась на север, следуя вдоль западного побережья Флориды. Еще в нескольких местах испанцы высаживались на берег, но источника вечной молодости не было нигде. 4 июня 1513 года Понсе де Леон отдал приказ возвращаться на Пуэрто-Рико.
Но, по-видимому, и тогда он не потерял надежды, потому что еще несколько месяцев его корабли были в плавании, обследуя острова все того же Багамского архипелага. Так был открыт остров Большая Багама, причем, судя по корабельным журналам, участники экспедиции дали прекрасное описание мангровых зарослей этого острова — низких, густо переплетенных прибрежных лесов, заливаемых во время приливов водой, — и брежных отмелей, отметив, что их цвет резко отличается т густой синевы бездонных проливов между островами архипелага.
Были открыты еще несколько островов. Возле какого-то из них один из кораблей потерпел крушение, но команде удалось спастись. Однако ни сохранившиеся корабельные дневники, ни дошедшие до наших дней старинные испанские хроники не говорят о том, что было причиной крушения, как не говорят они о том, что было с экспедицией дальше. Известно лишь, что в середине октября 1513 года два уцелевших корабля Поксе де Леона подошли к Пуэрто-Рико. Возвращение экспедиции прошло совсем незаметно. Не только потому, что она оказалась неудачной и губернатору так и не удалось найти чудесный источник. Все говорили в это время совсем о другом, все были увлечены вестью о том, что другой отважный конкистадор — Васко Нуньес де Бальбоа, начав с небольшим отрядом путь из новой испанской колонии «Золотая Кастилия» (она была основана на Панамском перешейке), открыл великое неизвестное прежде Южное море.
Что ж, вот это действительно было великим открытием! Бальбоа стал первым из европейцев, увидевших Тихий океан. 29 сентября 1513 года он вышел к бухте, которую назвал Сан-Мигель. Когда начался прилив, Васко Нуньес де Бальбоа вошел в воду по пояс с развернутым кастильским знаменем и торжественно зачитал грамоту, составленную нотариусом: «Да здравствуют Фердинанд и Хуана, высокие и могучие владыки Кастилии, Леона и Арагона, именем коих я вступаю в подлинное, непосредственное и постоянное владение и присоединяю к короне кастильских королей все сии моря, и земли, и берега, и заливы, и острова...» По сути дела, именно это открытие и стало для самых проницательных людей решающим доказательством того, что Колумб открыл вовсе не Индию, что открыт Новый Свет.
Но сначала в колониях говорят совсем не об этом, а о том, что Бальбоа, добывший в своем путешествии немало золота и жемчуга, уже готовится к новому великому путешествию. Где-то на юг от «Золотой Кастилии» лежит, как рассказывают индейцы, страна, где едят и пьют на золоте,— сказочно богатая-Виру. Именно к этой экспедиции приковано было всеобщее внимание в ту пору, когда на Пуэрто-Рико вернулся дон Хуан Понсе де Леон.
И, понятно, никто уже не обратил внимания на еще одну опытку этого незадачливого конкистадора, совершенную в том же 1513 году.
Однако на этот раз сам Понсе де Леон не отправился в путь послал на поиски Бимини двух своих кормчих — Антона Ааминоса и Переса Ортувию. Спустя несколько месяцев они вернулись с вестью о том, что действительно нашли на севере остров, который местные жители называют Бимини Найден был Бимини! А источник вечной молодости? Нет, его вновь не оказалось на острове — он был пустынным и голым, но Понсе де Леону достаточно и этого. Если на самом деле есть остров Бимини, то где-то рядом с ним, может быть, на соседнем острове, должен быть и чудесный источник. Значит, надо было снаряжать корабли для третьего, решающего путешествия.
Но сначала он вновь пересек океан и побывал в Испании Теперь он получил уже не права для открытия, а права всесильного наместника в открытой им стране и на островах — стал «аделантадо Флориды и Бимини». И к третьему, решающему путешествию дон Хуан Понсе де Леон готовился с редкой тщательностью — целых семь лет.
Шел 1521 год. Понсе де Леон, губернатор острова Пуэрто-Рико, начал путешествие, которое принесло ему не молодость, а смерть.
Снаряжены были два корабля, отряд в двести солдат — на случай, если к чудесному источнику придется пробиваться силой,— был отлично подготовлен и вооружен. Матросы были не похожи на прежних — не старики и инвалиды, а крепкие ребята, умело обращающиеся со снастями и готовые к любому шторму.
И снова, как и в первый раз, необыкновенная экспедиция Понсе де Леона оказалась в центре внимания испанских поселенцев в Новом Свете, ведь Васко Нуньесу Бальбоа не удалось осуществить завоевание страны Виру. Он даже не смог отправиться туда: слишком много было завистников у этого удачливого конкистадора, и, обвиненный ими в государственной измене, в 1517 году он окончил свои дни на плахе.
Теперь путь к Бимини был знаком — сначала к Багамским островам, потом на запад, к Флориде. Остров с источником вечной молодости был где-то здесь, рядом, недаром ведь легенда хоть наполовину уже оправдалась остров Бимини суще ствовал на самом деле Возможно, источник находился все-таки на Флориде, как раз там, где в прошлый раз Понсе де Леон вынужден был повернуть назад, столкнувшись с сильными индейскими племенами. Теперь он мог не опасаться их Двести прекрасно вооруженных солдат были по тем временам очень крупными военными силами. Конкистадорам и с куда меньшими отрядами случалось завоевывать обширные области Нового Света, легко побеждая индейцев, пусть и превосходящих испанцев в сотни раз численностью, но панически боявшихся лошадей, огнестрельного оружия и свирепых собак, специально обученных охоте на человека Да, источник должен был находиться на Флориде, потому что на этой благословенной земле даже деревья не стареют, здесь все дышит молодостью, здоровьем, счастьем, а что же дает молодость и счастье, если не воды чудесного родника.
Лавируя среди Багамских островов — надо признать, что это, как и во время первой экспедиции, потребовало от моряков отменного искусства, потому что Багамы разбросаны по обширному мелководью с опасными мелями и подводными скалами, — два корабля Понсе де Леона вновь подошли, наконец, к Флориде, к тому месту, где когда-то искатель молодости повернул назад.
Прекрасная, цветущая, благословенная земля опять открылась глазам испанцев на рассвете, в первых лучах солнца. Как и восемь лет назад в воздухе стоял пряный аромат чудесных цветов, а веселый птичий гомон мог, казалось, наполнить миром и спокойствием любую, даже самую черствую, душу. И, как прежде, в сверкающей солнцем прибрежной воде словно бы сами собой рождались все новые и новые драгоценные камни...
На палубах прозвучали отрывистые слова команд. Матросы бросились спускать на воду шлюпки. Вооруженные до зубов солдаты торопливо занимали в них свои места. Сам дон Хуан Понсе де Леон взял шлем, поданный старым слугой, и поправил висящую на боку тяжелую испанскую шпагу.
...К этой экспедиции готовились долгих семь лет, а оказалась она катастрофически короткой. Источника молодости по-прежнему не было нигде, и дон Хуан, наткнувшись на маленькое индейское селение, велел пытать индейцев, чтобы добиться от них признания, где же все-таки бьет этот чудесный родник. Пленные корчились в муках на раскаленных над угольями решетках и умирали, но «тайны» никто не открыл. Дон Хуан приказал сжечь селение дотла и вместе с солдатами двинулся дальше, в глубь страны.
Потом испанцы сожгли еще несколько селений. Продолжались пытки и грабежи. Но уже приближалась расплата.

Весть о беспощадных белых пришельцах, не оставляющих на своем пути ничего живого, быстро разнеслась по всей цветущей и прекрасной стране, и у очередного селения испанцы попали в засаду. Сначала из кустов на них обрушился град стрел. Потом отряд атаковали краснокожие воины, вооруженные длинными копьями, наконечники которых были смазаны ядом.
На узкой площадке, покрытой зарослями кустарника, огнестрельное оружие мало могло помочь. Свирепые собаки пришельцев, обученные охоте на человека, падали под ударами отравленных копий. Ряды испанцев смешались, дрогнули. А число краснокожих воинов, казалось, не уменьшалось, а все росло.
Войско Понсе де Леона отступило в полном беспорядке. Затем отступление превратилось в бегство. Сам «наместник Флориды и Бимини» был во время отступления ранен отравленной стрелой. С большим трудом остаткам испанцев удалось добраться До того места, где они оставили корабли, и поспешно сняться с якорей. Вдобавок ко всем несчастьям, одно из судов тут же налетело на прибрежный риф и, получив пробоину, еле Держалось на плаву. А мощные воды голубой океанской реки — Гольфстрима, как и в первый раз, упрямо отбрасывали корабли назад, к берегу, где жили люди, умеющие преградить путь тем, кто пришел на их землю с недоброй целью.
Как рассказывают древние хроники, дон Хуан Понсе де Леон лежал на палубе своего корабля, часто просил пить, мучился от раны, чувствуя, как боль поднимается от ноги все выше — действовал яд,— и никто в эти часы не обращал на него внимания Матросы и уцелевшие солдаты думали только о том, как скорее уйти от Флориды, и с огромным трудом вели корабль в-водах? Гольфстрима. Все-таки им удалось благополучно дойти до Кубы. И здесь несколько дней спустя закончилась жизнь человека, так и не нашедшего родник, дарующий юность, здоровье и счастье.
Что еще можно добавить к рассказу о Понсе де Леоне? Он искал вечную молодость, — значит, жизнь, а сеял на своем пути смерть.
Он был вовсе не странным чудаком и мечтателем, очарованным прекрасной легендой, а истинным сыном своего жестокого времени, И, конечно, он справедливо заслужил выпавшую ему участь. Пожалуй, многие из испанских конкистадоров, живших в одно время с ним, были даже по-своему более привлекательны, благороднее, рыцарственнее, чем дон Хуан Понсе де Леон; с одним из них мы встретимся уже в следующей главе этой книги.
И все-таки можно сказать и о том, что его имя осталось в истории географии недаром. Он открыл Флориду, целый ряд Багамских островов, его имя сохранилось на карте, ведь и сегодня один из городов Пуэрто-Рико называется Понсе.
И еще. Понсе де Леон все же нашел источник вечной молодости, правда, совсем не тот, что искал. Не для человека, для целого континента. Потому что разве нельзя назвать источником молодости, жизни теплое течение, которое определяет климат Европы, согревает его,— Гольфстрим, открытый в 1513 году Понсе де Леоном, губернатором Пуэрто-Рико и «наместником Флориды и Бимини»?

Границы нового мира отодвигаются все дальше. Пусть Васко де Бальбоа не удается покорить «сказочно богатую страну Виру»: в 1533 году это делает один из его бывших сподвижников Франсиско Писарро, вышедший из города Панама с отрядом в сто восемьдесят человек. Так европейцам становится известно государство инков, и в Новом Свете появляется еще один основанный конкистадорами город — Город Королей, который позже получил название Лима (ныне — столица Перу).
А еще раньше, через несколько лет после открытия Флориды, Франсиско Эрнандо Кордова, собрав небольшой отряд из слонявшихся без дела на Кубе солдат, открывает полуостров Юкатан. В 1518 году Хуан Грихальва открывает Мексику. Правда, завоевывает эту страну уже не Грихальва, а Эрнандо Кортес. Его корабли к «золотой стране», лежащей севернее Юкатана, повел с Кубы уже известный нам кормчий Антон Аламинос. К 1521 году небольшой отряд испанцев полностью покорил страну ацтеков Мексику, и Кортес стал наместником Новой Испании — такое название получила эта завоеванная страна.
Позже Эрнандо Кортес организует или, лично участвует еще в целом ряде экспедиций; они открывают тихоокеанские берега Мексики, исследуют Гватемалу и Гондурас и, наконец, открывают Калифорнийский полуостров.
Открыты Галапагосские острова, лежащие в Южном море — Тихом океане — почти в тысяче километров от американского побережья. Открыта страна Чили. Открытия следуют одно за другим. Теперь уже совершенно ясно, какой огромный, почти беспредельный мир открывается перед пришельцами. Мир, мало похожий на страны, что были знакомы европейцам прежде, — со своей собственной, неповторимой природой, с растениями и животными, каких не было по другую сторону океана, с мощными великими реками, каких не найти» в Европе, с грандиозными, теряющимися в самых высоких облаках горным пиками.
И, самое главное, открывается мир, населенный самобытными, интересными народами, создателями неповторимых культур.
Если первые из встреченных испанцами племен — на островах Куба, Гаити, Пуэрто-Рико — могли показаться высокомерным завоевателям примитивными, не достойными даже малейшего внимания, пригодными лишь для того, чтобы трудиться на плантациях своих хозяев, то позже конкистадоры столкнулись с поистине великими народами, создавшими мощные государства с высокой культурой. Разве не могли поразить пришельцев величавые ступенчатые пирамиды, не уступающие знаменитым египетским пирамидам, возведенные ацтеками в Мексике? Или грандиозные города инков в Перу? Или храмы, с поразительным искусством и непонятно как сложенные из громадных, камней? Великие индейские народы создали свои письменности, проложили великолепные, и сегодня еще поражающие воображение каменные дороги, вели астрономические наблюдения. Они были умелыми земледельцами, искусными мастерами, из-под рук которых выходили тончайшие ткани, изумительной работы изделия из золота, керамика. Они были сведущи в математике и медицине...
Наверное, пришельцы-завоеватели и действительно были поражены. Но долго они не удивлялись: у них была определенная цель, и надо было спешить ее выполнить. Если что и заинтересовало их всерьез, так это ювелирное мастерство коренных жителей Америки, потому что материал, с которым работали индейские мастера,— золото — и был главной целью. И трудно даже представить, сколько изумительных золотых творений — статуэток, украшений, масок,— поражающих одновременно и тонкостью работы, и каким-то удивительным размахом, незнакомым европейским ювелирам, погибло в огне, переплавляясь в слитки, ибо главным была не работа, а вес золота.
Очарованные золотым призраком, испанцы открывали все новые и новые области неведомого мира. Они готовы были месяцами брести сквозь тропические леса, страдая от невыносимого зноя и мириадов насекомых, готовы были на утлых челнах переправляться через великие реки, на которых иной раз разыгрывались штормы, не уступающие морским, карабкаться по горным кручам, рискуя сорваться в бездонную пропасть, переносить и голод, и жажду, лишь бы в конце пути ждала их золотая награда; лишъ бы тяжкий путь не обманул ожиданий.
Знакомясь с историей изучения Нового Света, любопытно проследить, как выбирали конкистадоры маршруты для своих экспедиций. Оказывается, большей частью путеводной звездой были для них рассказы уже покоренных ими индейцев о других землях, «полных золота». И чем более манящими они были, с тем большим рвением конкистадоры готовились в путь. Иногда сведения эти оправдывались, иногда нет. Но ничто по своей притягательности не могло сравниться с рассказами аб Эльдорадо, которые конкистадоры слышали в самых разных местах.
Где-то в горах, в далекой стране, правит человек, который каждое утро «пудрит» все свое тело золотым песком, и каждый вечер смывает золото, купаясь в водах священного озера. Страна так богата, что подданные Эльдорадо (по-испански это дословно значит «позолоченный человек») бросают в воду озера во время этого необыкновенного купания множество драгоценных камней и золотых украшений. Когда озеро освещено лучами солнца, сама вода его кажется расплавленным золотом. Впрочем, озеро и действительно воистину золотое, столько уже скопилось на его дне драгоценностей...
Должно быть, это самая известная из всех географических легенд. И пусть даже далеко не все знают историю поисков Эльдорадо — само это слово, такое красивое на слух, известно наверняка каждому. Ведь и сегодня, давно уже став словом нарицательным, смысл которого всем ясен, оно нередко мелькает на страницах газет, журналов, книг. Край, сказочно богатый, например, лесом, могут назвать «лесным Эльдорадо», место, где открыты большие месторождения меди, «медным Эльдорадо». Именем Эльдорадо нарекают фешенебельные отели, рестораны, есть на карте мира и несколько городов, носящих это имя.
А в ту далекую пору четыре с половиной века назад манящее слово «Эльдорадо» обозначало только одно: желанную, баснословно богатую страну, самую богатую из всех, какие только могут быть в Новом Свете. Страну, путь к которой неизвестен, но которую надо найти во что бы то ни стало.
У истории поисков Эльдорадо много героев, потому что поиски протянулись на долгие десятилетия, даже века.
Новая ГранадаШесть каравелл все ближе подходили к берегу, и люди на палубах с волнением смотрели вперед. Каким окажется для них этот берег? Что их ждет на суше?
По первому впечатлению, берег был мрачным. Он круто поднимался вверх, и, казалось, пристать к нему негде. Даже цвет берега выглядел недобро - его обрывистый склон был тускло-красным, как старая повязка на ране.
Но вот берег понизился, открылось место.С-близ которого можно было бросить якорь. На каравеллах убирали паруса, берегу двинулись шлюпки. Вскоре люди, пересекшие Атлантический океан, впервые ступили на землю Нового Cвета. И перед ними оказались несколько жалких, обшарпанных домов и обветшавший собор. Улицы поросли высокой травой, по всему было видно, что ходили по ним не так уж часто было очень тихо, лишь негромко шелестели листья густого леса; наступающего на это заброшенное селение со всех сторон

Таким был в феврале 1536 года город-крепость Сайта-Марта на Карибском побережье Южной Америки, близ устья реки. И, конечно, люди, прибывшие сюда на шести каравеллах, ожидали увидеть его совсем другим. Своего разочарования они не скрывали. Разочарован был и Гонсало Хименес де десада, двадцатисемилетний юрист из Гранады, переправив-ся через Атлантику вместе со своими братьями Эрнандо и Франсиско. Быть может, в этот момент он даже пожалел о том, что оставил Испанию. Он еще не знал, он даже не мог догадываться, что должно было выпасть на его долю в Новом Свете.
Городу было уже одиннадцать лет. Родриго Де Бастидас заложил его в 1525 году. Но эта новая земля оказалась для испанцев совсем не счастливой. Они быстро разграбили все окрестные индейские поселения, и местность вокруг Санта-Марты опустела, коренные жители ушли в непроходимые леса ордым, благородным идальго не пристало самим гнуть спины, возделывая землю, и за одиннадцать лет близ города не выросло ни единого хлебного колоса. Население города — впрочем, можно ли было назвать его городом? — голодало, число жителей таяло. Многие разбежались, потеряв всякую надежду на счастливую жизнь, и в тот февральский день 1536 года лишь несколько десятков человек, одетых чуть ли не в лохмотья, вышли встречать новоприбывших. Во главе горожан был губернатор Санта-Марты Педро Фернандес де Луго.
Именно ему и принадлежала идея большой экспедиции, ради которой к унылому карибскому берегу подошли каравеллы, фантастический успех Писарро, завоевавшего страну инков, словно бы вызвал взрыв: аппетиты завоевателей, и без того неуемные, мгновенно возросли в десятки раз. В это время составляются проекты десятков самых разных экспедиций, и все они благосклонно принимаются за океаном; испанский король, которому отходила по закону «пятина» — пятая часть любой добычи, без устали подписывает указы, дарующие «права на открытие». Почему бы не снарядить большую экспедицию в глубь материка и Педро Фернандесу де Луго? Начавшись здесь, в Санта-Марте, она в случае успеха прославит этот захудалый город и, разумеется, принесет ему богатство, а значит, и новую жизнь. А цель поисков? Она ясна — страна, где правит человек, который каждое утро пудрит свое тело золотым песком и каждый вечер смывает его в водах священного озера. И если даже не Эльдорадо, к югу от Санта-Марты должна быть какая-то богатая страна, ведь там же, к югу, лежала и Перу.
Людей для экспедиции губернатор решил навербовать не в колониях, а в Испании — для этого он послал туда своего сына. И вот они прибыли в Санта-Марту и не могут скрыть своего разочарования, потому что каждый, конечно, представлял себе Новый Свет совсем по-другому. Здесь должна вовсю кипеть жизнь, здесь должны быть сказочные города, здесь все должно быть золотым. А вместо этого — несколько жалких лачуг и покосившийся, раньше времени состарившийся собор.
Участники будущей экспедиции — тысяча двести человек разбили близ Санта-Марты палатки. Состав этого громадного по тем временам войска был самым пестрым. Кто только не рвался в эти беспокойные годы за океан в поисках лучшей доли? И обедневшие «дворяне, и разорившиеся купцы, и горожане, и неудачливые ремесленники. Дело дошло даже до того, что король, боясь, что Испания полностью опустеет, вынужден был вводить многочисленные ограничения для тех, кто собирался попытать счастья в Новом Свете. Но любые преграды можно было обойти, если впереди, за океаном, мерцал призрачный золотой ореол. И, пережив первое разочарование от встречи с Новым Светом -оно длилось совсем недолго,— войско, прибывшее в Санта-Марту, стало деятельно готовиться в путь, на поиски страны Эльдорадо, лежащей, как все говорили, к югу от этого берега.
Солдаты — некоторые из них впервые держали в руках оружие — упражнялись в стрельбе и приемах рукопашного боя. Кавалеристы, на которых, конечно, возлагались особые надежды, устраивали состязания в скорости и ловкости. А старый губернатор Педро Фернандес де Луго часами совещался в своем «дворце», который на самом деле был обыкновенной глинобитной хижиной, со старшим судьей экспедиции Гонсало Хименесом де Кесадой.

Именно Кесаде губернатор решил доверить руководство экспедицией. По первоначальному плану ее должен был возглавить сын де Луго Алонсо, но как раз в этот момент, похитив кое-какие из собранных отцом драгоценностей, он бежал в Испанию, предпочтя спокойную и обеспеченную жизнь на родине тяготам и риску поисков Эльдорадо. Кесада же, как понял губернатор, был наделен почти всеми способностями, какие только требовались, — и умением увлечь за собой остальных даром слова, и дальновидностью. Пожалуй, единственное, чего ему не хватало, так того, что он не был профессионалом-военным, но ведь в экспедиции и так немало и солдат, и дворян-воинов.
Сначала надо было выбрать путь в глубь материка. Проще всего было бы подняться вверх по течению Магдалены, но губернатор располагал лишь несколькими небольшими судами. На них решено было отправить только часть отряда. Основным же силам предстоял пеший путь. Однако дельта Магдалены была болотистой и непроходимой. Значит, надо было обойти этот гиблый край стороной: сначала пройти вдоль морского побережья на восток и только потом, когда кончатся трясины и мелкие озера, повернуть на юг и выйти к среднему течению реки, к назначенному месту встречи с судами, чтобы дальше пойти в места еще совершенно не изученные.
И 5 апреля 1536 года жители Санта-Марты вышли провожать экспедицию Кесады в поход. Пешие отряды, вооруженные пиками и аркебузами, в боевом порядке выстроились на морском берегу. Весело гарцевали всадники — их было семь десятков. Под тяжестью тюков с провиантом и снаряжением сгибались пленные индейцы — именно им предстояло нести этот груз.
Священники — два из них, братья-доминиканцы Доминго де лас Касас и Антонио Дескано, отправлялись вместе с экспе-« дицией,— отслужили торжественную мессу. Старый губернатор произнес последние слова напутствия, пожелав всем богатой добычи. С одного из судов, покачивавшихся на воде Магдалены, донеслись выстрелы пушечного салюта. Гонсало Хименес де Кесада, вскочив в седло, приказал отправляться, и, развернув знамена, отряды искателей Эльдорадо выступили в поход.
Сначала, как и было намечено, маршрут лежал вдоль по- . бережья Карибского моря. Берег был каменистым, и путь оказался тяжел. Первые дни похода выдались очень жаркими, испанцы тотчас же начали страдать от жажды. К тому же почти сразу начались нападения индейцев: краснокожие воины появлялись внезапно, осыпая пришельцев градом стрел, и столь же внезапно исчезали. Белые люди, принесшие местным жителям столько зла, не могли рассчитывать здесь на гостеприимство. Но войско упрямо продвигалось вперед. Вскоре оно достигло селения Рамада, откуда ему предстояло повернуть на юг.
Где-то впереди, в глубине края, где не был еще никто из европейцев, лежала манящая страна Эльдорадо.
Еще немного, пусть путь и тяжел, и она будет найдена.
...Это может показаться удивительным, невероятным, но это действительно так: хотя поиски Эльдорадо велись целые десятилетия, даже века, на самом деле нашла его экспедиция • Кесады очень быстро, по сути дела, едва только конкистадоры прослышали о необыкновенном «позолоченном человеке» и о его фантастических привычках. Именно Гонсало Хименес де Кесада, выступив в 1536 году из Санта-Марты, открыл ту страну, о которой рассказывали белым пришельцам индейцы многих племен. Рассказы их оказались правдой, вернее, почти правдой. Однако, открыв подлинное Эльдорадо, испанцы так и не узнали, что цель достигнута, поиски продолжались. Парадокс? Таких парадоксов немало в истории географических открытий, вспомним хотя бы Колумба, до конца дней считавшего, что он открыл путь в Индию. На долю Кесады выпало нечто подобное. Даже став правителем открытой им страны, он не будет и подозревать о том, что правит Эльдорадо.
Впрочем, до этого в 1536 году было еще далеко. Пока что отряд испанцев медленно, с огромным трудом продвигался в глубь неизвестной страны. Разделяя вместе со всеми тяготы пути, Кесада, кто знает, не жалел ли снова и снова о том, что оставил родину? Однако дороги назад у него не было. Значит, надо было идти вперед, подбадривая уставших, показывая всем пример и не щадя себя самого. И солдаты следовали за ним, платя своему предводителю самой горячей привязанностью. Он действительно заслуживал ее. Он был мало похож на большинство из своих современников-конкистадоров. Да и конкистадором он стал, по сути дела, случайно. Казалось, что его ждал совсем другой путь...
Путь, который начинался в знаменитом Саламанкском университете — крупнейшем культурном центре того времени; Саламанке уступала в ту пору даже парижская Сорбонна.
О том, чтобы дать своему старшему сыну прекрасное образование, позаботился отец, преуспевающий торговец тканями. Гонсало Кесада провел в Саламанке десять лет. Сначала, пройдя пятилетний университетский курс, он стал бакалавром (младшая ученая степень), затем получил более высокую степень — лиценциата права. Степень открыла перед ним двери королевского суда в Гранаде, и молодой юрист быстро пошел в гору.
Первые же выигранные им процессы принесли ему известность и знатных клиентов. Впрочем, он обнаружил способности не только юридические — знакомство с древними языками и античными авторами вызвало у него желание попробовать и свое перо, и, как выяснилось, владел он им неллохо.
Блестящая дорога открывалась перед Гонсало Хименесем де Кесадой; он мог бы, наверное, достичь с течением времени самых высоких юридических постов, мог бы многократно приумножить и без того немалые отцовские капиталы. Но он потерял их. Более того, он совершенно разорил всех своих ближайших родственников, в том числе и отца, поставив их на порог нищеты. Он проиграл процесс, возбужденный против них городскими властями — в то время это было самым обыкновенным делом, обвиняющими родственников Кесады в том, что они использовали для тканей, которые продавали, недоброкачественные краски. И вот тогда, чтобы поправить семейные дела, Гонсало Кесада, лиценциат права, образованнейший человек, владеющий многими языками, вместе с двумя младшими братьями отправился за океан, став сначала старшим судьей экспедиции — эта должность была предложена ему еще в Испании, — а затем, волей судьбы, и ее главой, ведущим свое войско все дальше и дальше по неизвестному краю...
Только через четыре недели утомительного пути Кесада дал своим людям и себе самому небольшой отдых. Они остановились в одном из индейских селений; местные жители встретили их мирно. Здесь испанцы пополнили припасы и привели в порядок снаряжение. Затем отряд двинулся дальше.
Теперь продвигаться приходилось сквозь дремучие тропические леса, представляющие собой непроходимое переплетение стволов, веток и лиан. Лес был враждебен, он был полон диких и опасных зверей, кишел змеями, и зазевавшийся легко мог расстаться с жизнью.
Кесада, отобрав наиболее выносливых солдат, вооружил их тяжелыми ножами и топорами; они должны были прорубать дорогу в этой невероятной чаще. Бывало, глава экспедиции и сам часами орудовал топором. Тропический лес словно бы не хотел пропускать пришельцев к тем тайнам, которые «он скрывал, но они упрямо продвигались вперед.
В отряде появились больные — их била тропическая лихорадка. Припасы таяли. Страдающим от голода людям пришлось есть ящериц, змей, летучих мышей. Но 26 июля 1536 года они все-таки вышли на правый берег Магдалены, обогнув, как и было намечено, ее топкую дельту, и стали дожидаться судов, на которых поднималась вверх по течению другая часть отряда.
Здесь и подстерегал экспедицию Кесады первый из тяжелых ударов, перед которым отступили все тяготы только что проделанного пути. Кораблей в назначенном месте не было, а ведь на них была погружена основная часть снаряжения и оружия.
Разведчики, высланные вверх и вниз по течению, вернулись ни с чем — кораблей не оказалось нигде. И потянулись — другого выхода не было — долгие дни изнурительного ожидания.
Вскоре кончились последние остатки еды, в лагере, разбитом на берегу Магдалены, начался настоящий голод. Вдобавок ко всему наступил период тропических дождей. Ливни, низвергавшиеся с небес как настоящие водопады, налетали так же неожиданно, как те индейские воины, что нападали на испанцев, когда они шли вдоль Карибского побережья, и так же неожиданно прекращались. Глава экспедиции, все больше и больше ощущая свое тяжелое бремя, часами, днями бродил по берегу, до боли в глазах всматриваясь в ту сторону, откуда должны были показаться корабли, и не обращая внимания на ливни.
Два месяца спустя корабли действительно показались, но, увы, это были совеем не те корабли. Людей, прибывших на них, Кесада не знал. Но все-таки они были посланцами из Санта-Марты, они пришли на помощь. Как выяснилось, флотилия, которую ждали, была разметана штормом — шторм вдруг вскипел в устье Магдалены уже через несколько часов после начала плавания, и лишь немногим удалось спастись; тогда-то Педро де Луго и снарядил несколько новых судов, но на это потребовалось время...
Теперь — наконец-то — отряд Кесады двинулся вверх по Магдалене, вступив в совершенно неизвестные европейцам земли.
Судов было мало, на них погрузили лишь больных и истощенных людей. Основная часть отряда шла пешком по левому берегу, прорубая дорогу с помощью топоров и ножей. Трудностей было теперь даже больше, чем раньше, — почти не прекращались дожди, началась тропическая зима. В этой сырости невозможно было разжечь костер, чтобы согреться или высушить одежду. И все-таки теперь испанцы слегка приободрились: пусть медленно и трудно, но теперь они шли вперед, к той стране, . где, как твердо верил каждый, все было из золота.
Несколько дней спустя им повезло — с передней бригантины матрос заметил на берегу какое-то индейское селение. Когда испанцы вошли в него, хижины оказались пустыми — наверное, заметив корабли, все жители скрылись в лесу. Но на полях вокруг селения в изобилии рос маис, его спелые початки заполняли амбары домов.
Экспедиция провела здесь три зимних месяца. Первое время было счастливым: запасов маиса было довольно, и солдаты быстро «восстанавливали силы. Когда маис кончился, в отряде вновь начался голод.
Теперь последствия его были страшными: ежедневно умирали по нескольку человек, войско Кесады таяло буквально на глазах. Тела умерших сбрасывали в Магдалену, и течение уносило их вниз, в сторону Санта-Марты, откуда начался поход.
В те страшные дни, когда казалось, что все потеряно, от главы экспедиции потребовалось многое. Он должен был принять самое верное в таких условиях решение. Он должен был вселить в измученных, умирающих, уже ни во что не верящих людей уверенность. Он должен был, наконец, показать всем, и себе самому в том числе, что он достоин вести людей за собой и что он приведет их к цели.
Даже не дожидаясь окончания зимних дождей, Кесада послал одну из бригантин вверх по течению Магдалены на разведку.
Но три недели спустя судно возвратилось t малоутешительными вестями: впереди, по обеим сторонам реки, был все тот же непроходимый лес.
В этот момент Кесада решил резко изменить планы. Продолжение прежнего маршрута — вверх по реке — означало бы верную гибель всем, кто еще остался в живых. Между тем захваченные испанцами во время редких вылазок индейцы рассказывали о том, что не так уж далеко отсюда, в горах, живет племя, которое умеет добывать соль. Соль для индейских племен всегда была предметом роскоши, она стоила очень дорого. Племя, которое умеет добывать соль, должно быть очень богатым племенем...
Вероятно, именно так выстраивал цепочку своих рассуждений Гонсало Кесада, поглядывая на вершины горного массива, который поднимался на правом берегу Магдалены где-то далеко за этими непроходимыми лесами. И пускай его рассуждения и выводы могут показаться наивными, он принимал решение, когда каждая лишняя минута промедления могла оказаться роковой. Это решение было самым настоящим озарением, тем озарением, которое приходит человеку в самых крайних ситуациях, когда до предела обострены все его душевные силы.
В Магдалену, близ селения, где остановился отряд Кесады, впадала река, которую индейцы называли Опон. Воды ее были очень быстрыми, — это и навело Кесаду на мысль, что она спускается с гор. Сначала, однако, — здесь, несмотря на крайние условия, проявились осторожность и предусмотрительность Кесады, — надо было отправить вверх по реке разведку,
И в этот момент в его войске вспыхнул бунт, который давно назревал. Погибла уже большая часть отряда; оставшиеся в живых — едва стоящие от голода на ногах, одетые в лохмотья, дрожащие от лихорадки люди — потребовали немедленного возвращения в Санта-Марту. Он подавил бунт всего лишь несколькими спокойными словами — настолько, видимо, велики были его власть и авторитет. Он убедил своих людей в том, что путь вниз по реке теперь так же невозможен, как и вверх, — бригантины не смогли бы взять всех, а на возвращение сухопутным путем уже даже и у самых выносливых не хватит сил; Для спасения был только один путь — вперед. Но для того, чтобы идти вперед, надо было собрать все мужество и побороть, малодушие.
Вверх по течению Опона ушло несколько лодок с разведкой Оставшиеся в селении с нетерпением ожидали их возвращения от этой разведки зависело теперь все. Прошел день, второй, третий... Наконец, лодки вернулись, на этот раз с доброй вестью. Разведчики привезли несколько расписных индейских плащей, яркие индейские головные уборы и пленника. Как оказалось, уже на второй день пути они встретили лодку с -индейцами, которые при виде пришельцев бросили лодку и скрылись в лесной чаще; в лодке лежала груда пестрых плащей и несколько кусков белой соли. Когда испанцы пристали к берегу, они нашли два пустых дома. Но тут же они подверглись нападению — незваных гостей атаковал большой отряд воинов. Однако, когда в ход было пущено огнестрельное оружие, индейцам пришлось отступить, оставив победителям пленника. .
Кесада без промедления приказал выступить, в путь. Вереница изможденных людей вновь принялась прокладывать себе дорогу по лесному берегу; бригантины с больными пошли вверх по течению Опона на веслах.
Но река вскоре стала мелкой, корабли то и дело задевали днищами дно. Продолжать путь дальше мог только сухопутный отряд, бригантины вместе с их командами и больными пришлось оставить.
Теперь войско Кесады насчитывало менее двухсот человек, . располагавших шестьюдесятью лошадьми. И, дав своему отряду последний короткий отдых, конкистадор вновь устремился на штурм непроходимой чащи.
Наверное, если бы им не повезло, этим отчаянным броском в неизвестность и закончилась бы история экспедиции Кесады. Но судьба рассудила иначе. Пленный индеец, став проводником экспедиции, утверждал, что до земли великого и могучего народа, куда так стремятся испанцы, они дойдут всего за несколько дней пути. Он ошибался: полумертвые люди с огромным трудом делали каждый новый шаг и проходили за день куда меньшее расстояние, чем хотели бы, но желанная страна как будто становилась все ближе.
Теперь отряд шел уже не по непроходимым зарослям, а по каменистым предгорьям. Идти стало немного легче, но снова, в который уже раз, пришлось урезать дневную порцию маиса — на этот раз уже до сорока зерен. Испанцы ели все что могли: » седла, попоны лошадей, свои защитные куртки, подбитые ватой, служившие панцирями от индейских стрел. Однако под угрозой смерти Кесада запрещал убивать для еды лошадей.
И пришел наконец день, когда горстка измученных, едва живых людей, совершивших утомительный подъем по крутым горным кручам, остановилась на обширном плоскогорье. Люди, переводя дыхание, и, еще боясь поверить своим глазам, замирая, вглядывались в развернувшуюся перед ними картину. Один из участников похода Кесады, позже оставивший свои записки, говорит об этой так; «Сто шестьдесят шесть христиан, изнуренных, оборванных, подлинных скелетов, увидели перед собой просторные долины, многочисленные селения, легкие дымки очагов и ниточки дорог...»
Эльдорадо это или нет?
Но скорее всего никто из тех, кто еще смог подняться на это плато, не вспоминал в те мгновения слова «Эльдорадо», заочно ставшего и именем страны, и именем того, кто ею правит.
Бывают минуты, когда корка хлеба оказывается дороже всего золота мира.
То, что случилось дальше, едва ли не дословно повторяет историю завоевания любой из индейских земель. Все эти истории оказались на удивление схожи и отличаются одна от другой по сути дела лишь географией, названиями племен да именами героев-конкистадоров. Познакомившись с одной из них, легко представить, ка-к происходило завоевание американских земель в целом. Впрочем, слова, которые произнес Гонсало Хименес де Кесада перед тем, как его войско вступило в открытую страну, наверное, не так уж часто звучали на Американском континенте: «Мы пришли в благодатную, населенную страну. Пусть же никто из вас не совершит насилия над местными жителями... И помните, друзья, перед вами такие же люди, как и вы, только, может быть, не столь смышленые. Ведь каждый кочет, чтобы с ним обращались уважительно. Этого же желают и местные индейцы. Не будем же просить у них того, что им не захочется отдавать. В награду за это мы получим все, что пожелаем. Не забывайте, что земля, на которой мы стоим, принадлежит индейцам по естественному и божественному праву...
Должно быть, именно такими и были «теоретические» представления Кесады, воспитанного в Саламанке, где сам воздух . был пронизан гуманистическими идеями начинающегося Возрождения. Практика большинства конкистадоров была, как правило, совсем иной, да и Кесаде не всегда удавалось сдерживать свое войско.
Дав людям отдых, Кесада повел их вперед.
Это была поистине чудесная, благодатная долина. Дома индейцев были выстроены красиво и добротно, вокруг селений раскинулись возделанные поля, да и сами жители этой страны, которые называли себя муисками, были совсем не похожи на тех лесных индейцев, с которыми отряду Кесады приходилось сталкиваться до сих пор. Не только одеждой — теми самыми пестрыми плащами из тонкой ткани, что привезли разведчики, поднявшиеся вверх по Опону,— по всему чувствовалось, что этот народ создал куда более высокую культуру, что он мудр и хранит знания, собранные предками.
Первое же открытие, сделанное испанцами, оказалось весьма важным для них — индейцы смертельно боялись лошадей.
Едва увидев испанца верхом на коне, они в ужасе замирали, словно пораженные громом, закрывали руками лица и не в силах были двинуться с места. Но первые дни похода на юг были мирными, индейцы приветливо встречали пришельцев, хоть им и внушали ужас эти странные животные, несущие на себе людей.
В одном из селений произошел первый инцидент. Навстречу испанцам вышла процессия, которую, возглавлял какой-то важный индеец в белоснежном плаще; на груди его висела громадная золотая пластина в виде сердца. Судя по всему, обстановка была самой дружественной, испанцев приглашали быть гостями селения. Однако кто-то из солдат тут же решил пожи-виться — он силой снял с одного из индейцев великолепной работы плащ и надел его на себя. Вышедший из себя, Кесада велел тут же повесить виновного, и приговор был приведен в исполнение. Но этот случай словно бы стал предвестником того, что мирные дни уже подходят к концу.
Как рассказывали индейцы, всей страной, по которой шли испанцы, правил могущественный вождь Тискесуса. Едва узнав о появлении в его землях белых пришельцев, вождь сразу же и вполне справедливо увидел в них грозного врага, несущего его народу только бедствия. 28 марта 1537 года произошла первая битва — на испанцев напали около шестисот индейских воинов, вооруженных копьями, луками и боевыми дубинками. Но конница, которой располагал Кесада, легко обратила их в бегство.
Дальше стычки происходили одна за другой; последняя состоялась совсем рядом с главным городом владений Тискесусы — Мускетой. Впоследствии испанцы переиначили это название и город стал называться Богота.
Вероятно, мудрым и опытным воином был великий вождь, если сумел построить бой так, что едва не добился победы. В том месте, где он хотел навязать пришельцам сражение, индейцы выкопали несколько рядов длинных и глубоких канав. Испанской коннице пришлось остановиться, ряды ее смешались. Индейские воины осыпали испанцев стрелами, несколько солдат и лошадей оказались на дне одной из канав; и тогда, видя, как удачно начался бой, в сражение бросился сам Тискесуса.
Но Кесада освоил, за время своего трудного путешествия и все военные европейские премудрости — недаром он ведь был одним из способнейших студентов Саламанки. Сумев быстро перестроить ряды своего войска, он увел его на открытое место, Воодушевленные тем, что пришельцы отступают, индейские воины бросились вслед за ними, и здесь судьба боя быстро решилась.
Это было самое тяжелое из всех поражений, которые потерпел в войне с испанцами Тискесуса. К тому же, по мере про-жжения испанцев к его столице, в союз с испанцами вступали племена, которые он когда-то покорил, и только ждавшие случая, чтобы вернуть себе независимость. Тискесусе пришлось бежать в одну из горных крепостей, дорога на Боготу была свободна, и 21 апреля отряд Кесады вступил в столицу страны муисков.
И вновь история повторилась: в любой индейской стране, куда вступали пришельцы, племена оказывались разобщенными из-за старых распрей и не могли соединиться, чтобы стать в войне с испанцами единым целым.
Город лежал на дне плоской равнины, окаймленной горными цепями. На высоких, уходящих за облака вершинах лежали снега, а в долине, у подножия гор, все сверкало яркими красками цветения. Яркими красками блистал и сам главный город муисков: тысячи глиняных домов, которые увидели пораженные испанцы, были обшиты снаружи циновками из отбеленной и покрашенной в самые разные цвета осоки. Это было фантастическое, ни с чем не сравнимое зрелище.
Но город был совершенно пуст, жители его, сохранившие верность своему вождю, ушли в горы. Проведя в Боготе месяц, не найдя никаких сокровищ — Тискесуса успел их вывезти, Кесада решил отправиться в горы на поиски изумрудных копий, о которых ему рассказывали индейцы, вступившие с пришельцами в союз.
В селении, которое называлось Гуаска, испанцев ждала удивительная встреча, которая — вот уж воистину — золотыми буквами должна быть вписана в историю поисков Эльдорадо.
Сначала в лагере, разбитом Кесадой, появились два индейца, с ног до головы увешанных золотыми украшениями; каждый держал в руке по золотой короне изумительно тонкой работы. Бросившись перед Кесадой на землю, индейцы объявили, что испанцев хочет приветствовать их повелитель, великий вождь Гуатавита. Потом пораженные конкистадоры увидели пеструю, фантастическую процессию. Ее возглавляли четверо индейцев, трубивших в огромные морские раковины. Затем появились люди в набедренных повязках. Те, что шли впереди, очищали дорогу от камней, а другие забрасывали ее цветущими ветками. Наконец, окруженные огромной толпой индейцев, появились золотые носилки, в которых полулежал человек, глядящий на белых пришельцев с интересом и без тени страха.
Не без удивления Кесада выслушал речь великого Гуатави-ты. Он думал, что в стране муисков нет вождя могущественнее и богаче Тискесусы, и ошибся. Вождь Гуатавита был столь же богат и знатен и происходил из рода древних правителей страны муисков. Но дядя Тискесусы уничтожил весь его род и захватил власть; с тех пор у оставшегося в живых Гуатавиты не было большего врага, чем Тискесуса. Гуатавита пригласил Ке-саду и его войско в свои владения, которые находились в трех переходах от местечка Гуаска.
Кесада не замедлил принять приглашение. Он появился вместе со своим войском во владениях великого Гуатавиты в конце июня 1537 года. Испанцев ждала роскошная встреча, каждый из них получил в подарок великолепные, изящной работы золотые кубки и чаши, украшенные изумрудами,» и тонкие плащи. А после обильного угощения Гуатавита пригласил испанцев принять участие в празднике благодарения, который отмечал его народ.
Выложенная из смеси глины, соломы и камня до'рога — она была геометрически прямой — привела гостей и пышную свиту Гуатавиты на берег озера, лежащего на дне чудесной лесной долины. В лучах высоко поднявшегося солнца озерная вода сверкала золотыми искрами. Кесада спросил, как называется озеро, и услышал в ответ, что имя озера, так же, как и имя вождя, Гуатавита...
Кесада, его ближайшие офицеры, Гуатавита и его пышная • свита разместились на одном из холмов; для всех были поставлены легкие изящные сиденья из дерева, инкрустированного золотом. В честь праздника начались состязания по бегу: по знаку великого вождя,, несколько молодых девушек бросились бежать вокруг озера, подбадриваемые криками.
И сидя бок о бок с великим вождем Гуатавитой, увлеченный, как и все, состязаниями, Гонсало Хименес де Кесада не догадывался о том, что судьба действительно привела его наконец к священному озеру, где купается, напудрив тело золотым песком, человек, которому заочно дали имя Эльдорадо, владеющий «золотой страной», тоже прозванной Эльдорадо, и что на самом деле этого человека зовут Гуатавита.
Кесаде так и не суждено было об этом узнать.
О том, почему Гуатавита и был тем самым «позолоченным человеком», о котором ходили легенды, узнали только много позже, три с лишним века спустя.
Освоение страны муисков, открытой Кесадой, продолжалось, и на долю первооткрывателя выпало еще немало тревог и волнений. В одном из сражений с испанцами погиб великий вождь Тискесуса, и в стране, наконец, воцарился мир. Удалось Кесаде собрать и немалые сокровища. Но в 1539 году в Новой Гранаде появились еще два отряда конкистадоров,— один, под командой Себастьяна Белалькасара, ближайшего сподвижника Франсиско Писарро, пришел из Перу, а второй — из города Коро на Карибском побережье материка; это была экспедиция немецких наемников, отправленная в Новый Свет богатейшим банкирским домом Вельзеров, не желавших отставать от испанцев в освоении нового материка. И хотя Кесада уже провел торжественную церемонию ввода земель муисков во владения •испанского короля, отслужив молебен и назвав открытую им страну королевством Новая Гранада, бывшему юристу .потребовалось все его дипломатическое мастерство, вся его мудрость и осмотрительность, чтобы предотвратить неизбежное, казалось бы, столкновение трех отрядов за право владения Боготой и окрестными землями.
Ему удалось прийти к соглашению с предводителями отрядов; все вместе они отправились в Испанию, чтобы решить спор в высшей инстанции — Совете-Индии. И потянулись месяцы и годы бесконечного разбирательства.
У человека, открывшего Новую Гранаду, нашлось немало завистников. Прежде всего его обвинили в том, что он утаил часть сокровищ из той пятой части, что предназначалась королю. Свои права на Новую Гранаду потребовал и Алонсо де Луго, сын умершего уже губернатора Санта-Марты, тот самый, что был королевским указом назначен главой экспедиции, но бежал в Испанию, похитив часть отцовских сокровищ.
И лишь через долгих восемь лет, оправдавшись по всем пунктам обвинений, Гонсало Хименес де Кесада добился признания своих заслуг. Он получил право на собственный герб — это была высочайшая королевская милость. Он стал маршалом королевства Новая Гранада. Ему были выплачены значительные денежные суммы.
В 1550 году, после одиннадцатилетнего отсутствия, Кесада вернулся в страну, которую все это время не переставал считать своей родиной.
Увы, это было грустное возвращение: Новая Гранада изменилась за это время неузнаваемо.
Страну наводнила целая армия прибывших из-за океана королевских чиновников, судей, сборщиков податей, торговцев.. Они жестоко притесняли не только муисков, но и своих же соотечественников-испанцев, ветеранов похода Кесады. Новоприбывшие захватывали себе лучшие 'земли, строили великолепные дворцы, обзаводились сотнями рабов-муисков, заставляя их работать на себя от зари до зари.
Число муисков неизмеримо уменьшилось, они погибали от непосильного труда и болезней. Не было уже в живых великого, вождя Гуатавиты, который при_Кесаде принял крещение и был дружен с вождем белых пришельцев; Гуатавита был убит в 1540 году, почти сразу же после отъезда Кесады, -потому что испанцы, заподозрив, что против их власти готовится восстание, решили уничтожить всю индейскую знать. Конец Гуатавиты был страшен — его выволокли на городскую площадь и изрубили на куски. Тогда же погибли и многие другие вожди. Участие в охоте на вождей принимали и братья Кесады. Не вьшеся тиранства, муиски сотнями бросали селения и уходили в леса.
Такой застал свою страну Гонсало Хименес де Кесада и, не щадя' себя, принялся наводить в ней хотя бы подобие порядка. Он провел перепись индейского населения, упорядочил сборы податей, ограничил произвол королевских судей. А в 1568 году, быть может, отчаявшись, потеряв надежду сделать Новую Гранаду такой, какой он хотел бы- ее видеть, Кесада снарядил новую экспедицию на поиски Эльдорадо. Ему было уже около шестидесяти лет.
На этот раз Кесада решил искать золотую страну на востоке от Новой Гранады. Вместе с ним вышли в путь пятьсот испанцев, среди них были многие из его старых товарищей -участников первого похода и полторы тысячи муисков. Кесада вложил в экспедицию все свои средства и значительные суммы взял в долг. Но его с самого же начала преследовали неудачи.
Из-за того, что Кесада взял с собой огромный обоз, отряд двигался вперед очень медленно. Потом, когда кончилось плоскогорье, искатели золотой страны оказались в болотах бассейна реки Ориноко. Прибрежные леса были совершенно непроходимы, тучи насекомых превращали их в кромешный ад. Нестерпимая жара, вдруг сменяющаяся тропическими ливнями, могла, казалось, убить все живое. И она действительно убивала: вновь, как и тридцать два года назад, когда Кесада , искал дорогу в страну муисков, люди в его отряде умирали один за другим. Когда он дошел до того места, где в Ориноко впадает река Гуавьяре, в живых остались лишь несколько десятков человек, и Кесада был вынужден повернуть обратно.
Кесада так и не нашел Эльдорадо и совершенно разорился. Он вернулся в Боготу, не подозревая о том, что, не найдя легендарную страну, на самом деле возвращается в нее...
И здесь можно было бы закончить ту часть рассказа о «позолоченном человеке», что относится к Гонсало Хименесу де Кесаде, потому что больше он не предпринимал попыток найти Эльдорадо. Но, право же, этот человек, так не похожий на других конкистадоров, заслуживает того, чтобы сказать о нем еще несколько слов.
Он в самом деле был незаурядной, разносторонней личностью. Об этом свидетельствуют и написанные им книги. В трех объемистых томах Кесада подробно, живо и с большой теплотой описал жизнь племен муисков. А другая книга — «Анналы императора Карла V»— свидетельствует о том, что он был' также умным, проницательным историком. Красноречиво и название третьей: «Различия в военном искусстве Старого и Нового Света».
Он был человеком большой души — один из пунктов оставленного им завещания предписывал всегда держать в том доме, где он умрет, кувшин с холодной водой для любого усталого путника, который окажется возле дома.
Этот дом был бедным и жалким. Кесада скрывался в нем от многочисленных кредиторов, потому что и за десять лет — он умер в 1579 году — не смог вернуть долг, оставшийся после второй экспедиции поисков Эльдорадо; он умирал очень одиноким.
Но теперь прах его, положенный в бронзовый саркофаг, покоится в главной церкви Боготы — одного из красивейших городов «в Южной Америке, а имя его горожане чтут как имя основателя. Ведь это именно он заложил в 1539 году город Санта-Фе-де-Богота (Богота святой веры), после того как в огне пожара сгорела старая Богота муисков. Город, ставший столицей республики Колумбии, что раскинулась на тех землях, которые открыл Гонсало Хименес де Кесада.
Эльдорадо за пределами ЭльдорадоКесада умер, легенда о «позолоченном человеке» Эльдорадо и его стране Эльдорадо пережила его -на многие годы. И чем больше проходило времени, с того времени, как испанцы услышали о необыкновенном человеке впервые, тем причудливее становились передававшиеся из уст в уста рассказы о лежащей неизвестно где невообразимо богатой стране и о ее повелителе.
Вот, например, какую запись можно найти в книге испанского хрониста Гонсало Фернандеса де Овьедо-и-Вальдеса «Всеобщая и подлинная история Индий»: «Испанцы, кои жили в Кито и прибыли сюда в Санто-Доминго, ответствовали, что, насколько это можно уразуметь со слов индейцев тот великий сеньор или государь постоянно ходит покрытый слоем толченого золота, да такого мелкого, как толченая соль, ибо ему мнится что облачаться в какое-либо иное одеяние будет не столь красиво; что украшать себя золотым оружием либо золотыми вещами, кои выковываются при помощи молотка, либо чеканятся, либо изготовляются каким иным способом,— грубо и обыденно, ибо другие сеньоры и государи носят оные, когда им вздумается, но вот осыпаться золотом - дело редкое, необычное, новое и куда более дорогое, ибо все, что каждодневно поутру одевается, вечером скидывается и смывается, выбрасывается и смешивается с землей, и проделывается сие каждый божий день».

Но, как слышали другие, Эльдорадо — это человек с одним глазом и гигантского роста; он похож на циклопа из греческих мифов. А третьи утверждали, что золотой песок появляется на его теле сам собой; чтобы смыть его, он и купается в озере Дно же этого озера — в это твердо верили все — выложено ровными золотыми плитками, а на его берегах стоят дворцы, построенные из золотых брусков и крытые золотой черепицей.
Золото! Золото!! Золото!!!
Все больше приумножалось его количество в рассказах, и, конечно, нет ничего удивительного в том, что вслед за Кесадой были снаряжены десятки, сотни других экспедиций на поиски Эльдорадо. Маршруты их пролегли по самым разным краям, начинались они в разное время. Если нанести все эти маршруты на карту, они сложатся в причудливо переплетенную, запутанную сеть. А если б можно было — позволим себе такое фантас тическое допущение — каким-нибудь невероятным способом единым взглядом в какой-то миг охватить сразу весь Американский континент, увидев при этом все путешествия на поиски Эльдорадо, совершенные в самые разные годы, открывшаяся картина была бы похожа на удивительный калейдоскоп, на хаотичное броуновское движение — сотни, тысячи людей, воодушевленных единой целью, одновременно двигались бы в самых разных направлениях, то быстрее, то медленнее, то резко устремляясь вперед, то поворачивая обратно, преодолевая горные цепи, плывя по рекам, бредя по непроходимым лесам...
Давайте попробуем воссоздать хоть частицу этого пестрого калейдоскопа на книжных страницах.
...Гонсало Писарро, брат знаменитого Франсиско Писарро завоевателя страны инков Перу, с огромным трудом преодолев кручи Восточной Кордильеры, разбил лагерь на склонах вулкана Сумако, в маленьком индейском селении. Необходимо было восстановить силы и переждать сезон дождей, которые шли теперь, не переставая.
Экспедиция оказалась очень тяжелой. На пути конкистадоров лежали неприступные и нехоженые горы, бурные, все сметающие горные реки; на большой высоте, к тому же, было очень холодно, стужа .пронизывала насквозь, и от нее нельзя было спастись. Если к моменту выступления из Кито, древней столицы Перу, под командой Писарро было больше двухсот испанцев и чуть ли не четыре тысячи индейцев, исполнявших, как обычно, роль носильщиков, к месту, где был разбит лагерь, подошел уже значительно меньший отряд. Индейцы, обитатели тропиков, почти лишенные одежды, сотнями погибали от стужи. На горных тропах пришлось бросить на произвол судьбы огромные стада свиней, которых испанцы взяли с собой в качестве провианта. Один за другим погибали и сами испанцы, отряд голодал, солдаты бросали оружие, потому что не было сил нести его дальше. Наверное, в эти тяжелейшие дни Гонсало Писарро просто физически .чувствовал, как все больше отдаляется желанная цель — страна Эльдорадо, как надежно скрывает она себя от пришельцев, которые хотят нарушить ее покой.
Но он решил достичь ее во что бы то ни стало! Дождливые дни казались ему бесконечными; сгорая от нетерпения, конкистадор ждал того момента, когда снова можно будет выступить в путь. Его старший брат захватил в Перу добычу, перед кото- . рой померкли сокровища любого из монархов Европы; ему же достался лишь город Кито на севере огромной империи инков. Но на его долю — в это он твердо верил — еще должна' была выпасть удача, которая затмит все успехи Франсиско. К тому же, удача могла стать двойной, ведь в том направлении, куда он держал путь, лежала, судя по расска-зам индейцев, не только золотая страна, но еще и страна корицы. Огромные леса коричных деревьев, кора которых, как и все пряности, ценилась в ту пору едва ли не дороже золота.
Однако дожди все не прекращались. От сырости не было спасения, в ней гнила одежда и ржавело оружие. В отряде начинался ponoiv недовольные хотели повернуть назад, в Кито, где в завоеванном городе их ждала пусть не сказочно богатая, но все же вполне обеспеченная жизнь.
- В такой-то момент в лагере Гонсало Писарро . появился небольшой отряд во главе с Франсиско Орельяной, и авителем прибрежного города Сантьяго-де-Гуаякиль, решившим принять участие в столь славном предприятии, как поход на поиски Эльдорадо...
Это и был человек, которому предстояло совершить в этом походе одно из величайших географических открытий именно ему, а не Гонсало Писарро суждено было связать свое имя со свершением, какое до тех пор еще не выпадало никому.
Имя Орельяны осталось в истории, а что можно было бы сказать о нем самом?
Пожалуй, вот что, и это будет самым главным. Если Кеса-да — воспитанник Саламанки и один из образованнейших людей своего времени — был мало похож на большинство других конкистадоров, то Орельяна был типичным из них, таким же, как Кортес и братья Писарро. Узнав, каким был он, легко понять, что за люди были и все остальные. Биография Орельяны — это биография целого поколения обнищавших и алчных дворян-идальго, не всегда умеющих даже написать свое имя и ринувшихся за океан с единственной целью завоевать богатство.
Видно, совсем-никаких надежд на будущее не было у Франсиско Орельяны на его родине, если за океан он отправился, когда ему было всего лишь пятнадцать или шестнадцать лет. И он быстро прошел суровую школу завоевательных походов, сумев выделиться даже среди самых отчаянных сорвиголов, пришедших вместе с братьями Писарро в Перу. Он принимал участие во всех значительных походах и сражениях во время завоевания Перу.
В 1534 году он был в составе отряда, захватившего город инков Куско, год спустя участвовал в захвате Трухильо и Кито. В 1536 году, когда восставшие индейцы осадили Куско, охраняемый маленьким испанским гарнизоном, Орельяна, занимавший к этому времени важный пост в Пуэрто-Вьехо, поспешил осажденным на выручку во главе отряда в восемьдесят солдат, снаряженных им на собственный счет. В следующем году Франсиско Писарро отправил его усмирять возмутившихся индейцев в провинции Кулата. Жестоко подавив восстание, Орельяна заложил на берегу реки Гуаяс, неподалеку от места ее впадения в морской залив, город Сантьяго-де-Гуаякиль, нынешний Гуая-киль — один из крупнейших городов Эквадора. А в 1540, году, узнав, что правитель Кито Гонсало Писарро готовится выступить на поиски страны корицы и Эльдорадо, Орелья на решил присоединиться к нему. Ему было в ту пору около тридцати лет.
Во время перехода через горы его отряду пришлось еще тяжелее, чем людям Писсаро. У Орельяны было всего двадцать три человека, он шел по местам, совершенно разоренным- ^го предшественниками; нападения индейцев, мстящих белым людям, были непрерывными. Когда Орельяна добрался до лагеря Писарро,, из четырнадцати лошадей у него оставались -только две; снаряжение, провиант и большую часть оружия пришлось бросить. Но сезон дождей уже подходил к концу, приободрялись даже те, кто, казалось, совсем уже пали духом, и впереди все ярче и ярче снова начинало светить призрачное золотое сияние , самой богатой на свете страны.
Писарро и Орельяна, которого глава предприятия назначил своим заместителем, провели военный совет. Решено было, что прежде всего Писарро с небольшим отрядом выступит на поиски коричных деревьев, а Орельяна с главными силами присоединится к нему позже. Выйдя из лагеря, Писарро отправился на юго-восток — в ту сторону, где была, судя по рассказам индейцев страна корицы,— и после тяжелого перехода, продлившегося семьдесят Дней, оказался на берегу реки Кока, неподалеку от экватора.
Здесь он и в самом деле нашел коричные деревья, их было много. Но трудно описать разочарование испанцев, обнаруживших, что эти деревья совсем не похожи на знаменитые коричные деревья Цейлона: кора их не представляла никакой ценности, из нее нельзя было приготовить пряность, которая могла бы оказаться дороже золота.
Когда подошли основные силы во главе с Орельяной, предводители решили двинуться дальше наугад.
Сначала — вдоль речки Кока. Потом они вышли к бурной реке Напо. Здесь отряд задержался на некоторое время, чтобы построить судно,— этим руководил Орельяна. Конечно, на самом деле это была всего лишь грубо сколоченная большая лодка, но ее гордо наименовали бригантиной. Когда бригантина была спущена на воду, снова двинулись в путь.
На судне разместили снаряжение, а также больных и раненых; основные силы отряда шли по берегу, с огромным трудом преодолевая заросли трехметрового тростника и непролазные топи.
Люди, не выдерживая тягот пути, умирали один за другим. Писарро взял из Кито четыре тысячи индейцев, теперь их осталось меньше трех тысяч. Наконец, кто-fo из местных жителей рассказал Орельяне и Писарро, что ниже по течению, всего «в десяти солнцах», лежит земля, где много пищи и золота. (Заметим, что индейцы многих племен, видя столь неуемный интерес белых пришельцев к золоту, часто рассказывали им заведомые небылицы, чтоб только скорее избавиться от пришельцев.) Однако и такое расстояние — всего десять дней пути — уже было непреодолимым для отряда конкистадоров: оставшиеся в живых были смертельно истощены, подходили к концу последние остатки съестных припасов.
Тогда-то Франсиско Орельяна и предложил Писарро: он спустится вниз по реке на бригантине, разведает местность и раздобудет продовольствие. Писарро согласился, и 26 декабря 1541 года Орельяна вместе с пятьюдесятью шестью людьми отправился на разведку.
Так началось его великое путешествие.
Несколько долгих, мучительных дней Писарро дожидался возвращения бригантины. Затем, предположив, что с Орельяной что-то случилось, он двинулся на его поиски. Когда-всякая надежда на встречу исчезла — не было найдено никаких следов экипажа бригантины,— он повернул свой отряд назад.
Полгода спустя восемь десятков человек, падающих с ног от усталости, подошли к Кито. На обратном пути погибли все до одного индейца; испанцам же, подошедшим к Кито, пришлось дожидаться, когда из города им доставят одежду — они были настолько оборваны, что не решились появиться на городских улицах.
Экспедиция Гонсало Писарро окончилась неудачей. Золотую страну Эльдорадо он так и не нашел. Но, справедливости ради, надо сказать о том, что географические результаты его похода были немалыми. Впервые европейцы пересекли Кордильеры, проложив путь с Тихоокеанского побережья к верховьям Амазонки,— этим путем, кстати, пользуются и поныне. Впервые были разведаны ранее недоступные экваториальные Кордильеры. Впрочем, географические итоги, вероятно, послужили Гонсало Писарро малым утешением — он ждал совсем другого.
А Франсиско Орельяна, когда Писарро вернулся в Кито, уже плыл по реке, которая и стала его великим географическим открытием.
Историки спорят до сих пор: намеренно ли Орельяна покинул пеший отряд Писарро, или же это произошло помимо его воли. Его обвиняли впоследствии в том, что ценой предательства он хотел присвоить себе всю славу и выгоду великого открытия. Сам же Орельяна утверждал, что был вынужден подчиниться требованию всех своих спутников — они не хотели возвращаться вверх по реке, наперекор быстрому течению, а предлагали плыть дальше вниз, в поисках более счастливых земель, чем те, по каким проходил маршрут экспедиции прежде. Такое требование даже зафиксировано документально, историкам известен его текст, подписанный всеми участниками похода. Спутники Орельяны приняли такое решение, едва только удалось в какой-то из индейских деревушек раздобыть продовольствие. До этого на судне был такой голод, что приходилось есть кожу, ремни и подметки от башмаков, сваренные с какой-либо травой. Многие были столь слабы, что не могли держаться на ногах; некоторые, поев каких-то неведомых трав, походили на безумных. И, конечно, можно понять отчаявшихся людей, не желавших возвращаться в голодные, уже разоренные места.
Орельяна — давайте все-таки поверим'ему, а не тем, кто его обвинял, — был вынужден подчиниться. Правда, он поставил условие: в индейском селении, где удалось раздобыть продовольствие, они в течение некоторого времени будут ожидать Писарро. Это время по его предложению решили употребить на постройку другой бригантины, более надежной. Когда время прошло и бригантина была построена, а отряд Писарро так и не появился — в поисках Орельяны он так и не дошел до этого места, — тогда оставшиеся еще в живых люди Франсиско Орельяны поплыли дальше вниз по реке Напо.
12 февраля 1542 года бригантина Орельяны вошла в воды какой-то другой реки. Течения двух слившихся рек боролись одно с другим, отовсюду неслось множество вырванных с корнями деревьев, приходилось лавировать, чтобы избежать столкновения с ними. Бригантина спускалась все ниже по течению. Ни Орельяна, ни его люди еще не знали, о том, что волей судьбы они оказались на Амазонке — самой многоводной реке мира — и что им предстоит пересечь с запада на восток весь Южно-Американский материк и первым из европейцев воочию представить его необъятные размеры.
«Официальный» документ, относящийся к великому путешествию Орельяны, — это «Повествование о новооткрытии достославной реки Амазонок», написанное участником плавания монахом-доминиканцем Гаспаром Карвахалем, разделившим со своими спутниками все тягозы и бедствия пути; в одном из столкновений L индейцами летописец был даже тяжело ранен стрелой и потерял глаз. Этот великий, вошедший в историю географии момент — открытие Амазонки — он описывает так:
«Здесь мы оказались на краю гибели... Опасно было плыть по реке, так как в ней было много водоворотов, и нас швыряло из стороны в сторону. С превеликим трудом мы все-таки выбрались из этого злополучного места, но так и не смогли подойти к берегу... А затем потянулись необитаемые края, и, лишь пройдя двести лиг,( Лига — старинная мера длины, равная приблизительно 6 км) мы заметили наконец какое-то жилье...»
И еще очень многое суждено было испытать Франсиско Оре-льяне и его спутникам во время этого путешествия, какого не совершал до них еще ни один из европейцев.
В одном из селений — индейцы называли его Апарин — путешественники провели чуть ли не два месяца, сооружая еще одну, больших размеров, бригантину, которую назвали «Викторией». Конечно, у них не было ни подходящих материалов, ни нужных инструментов, однако люди трудились не жалея себя, понимая, что только с этим судном может быть связана их единственная надежда добраться до мест, уже заселенных европейцами. Верили ли они в эти дни в Эльдорадо? В рукописи Карвахаля, изобилующей точными, ярко выписанными подробностями, относящимися буквально ко всему, что происходило с экспедицией, об Эльдорадо не сказано ни слова. Наверное, надежды на открытие золотой страны растаяли. Но по Амазонке они плыли все дальше и дальше, теперь уже на двух судах.
Река была так широка, что путешественники не сомневались — где-то неподалеку Атлантический океан. На самом же деле впереди был многодневный, полный тягот и опасностей путь.
В мае в течение пяти дней испанцы непрерывно сражались с воинами одного из индейских племен. Сражение началось на воде: индейцы атаковали бригантины, приблизившись к ним на пирогах. Затем испанцы высадились на берег, и битва разгорелась на суше. Несколько конкистадоров были убиты, многие ранены. После этих майских дней испанцы решались высаживаться на берег в поисках провианта лишь возле небольших, одиноких селений. Почти везде происходили столкновения, и, вооруженные арбалетами и огнестрельным оружием, конкистадоры не всегда одерживали победы. Одно из селений, например, они назвали Вредным — здесь испанцы были обращены в позорное бегство.
Амазонка между тем, вбирая в себя все новые притоки, становилась все многоводнее и шире. Теперь нередко, плывя вдоль одного из берегов, путешественники не могли разглядеть противоположный. 3 мая 1542 года они открыли левый приток Амазонки, который назвали Риу-Негру — Черной рекой. Вода в ней была черной, словно чернила. «Она неслась с такой стремительностью и таким бешенством,— написал Гаспар Карвахаль,— что ее воды текли в водах другой реки струей длиною свыше двадцати лиг и ни та вода, ни другая не смешивались». Неделю спустя был открыт другой великий приток Амазонки — река Мадейра, по определению летописца,— «очень большая и мощная река».
Проходили дни, недели, месяцы. Казалось, что великой реке не будет конца. Иногда на ней разыгрывались штормы, ничуть пе уступающие морским бурям. Суда уже порядком обветшали и с трудом противостояли стихии. Однако испанцы теперь почти не отваживались приставать к берегу, боясь отравленных индейских стрел. Люди смертельно устали, Карвахаль написал об этих тяжких днях так:
«По правде говоря, среди нас были люди, столь уставшие от жизни да от бесконечного странствования, до такой крайности дошедшие, что, если б совесть им сие могла только позволить, они не остановились бы перед тем, чтобы остаться с индейцами, ибо по их безволию да малодушию можно было догадаться, что силы их уже на исходе. И дело дошло до того, что мы и впрямь боялись какой-нибудь низости от подобных людей, однако же были меж нами и другие — истые мужи, кои не позволяли оным впасть в сей грех, на веру да на силу коих слабые духом опирались и сносили более того, что смогли бы снести, не найдись среди нас люди, способные на многое».
Событие, которое дало реке, открытой Франсиско Орельяной, название, случилось в конце июня. «Битва, здесь происшедшая, — записал монах-летописец, — была не на жизнь, а на смерть, ибо индейцы перемешались с испанцами и оборонялись на диво мужественно, и сражались мы более часа, но индейцев не покидал боевой дух, скорее наоборот — казалось, что в бою их смелость удваивается... Я хочу, чтобы всем ведома была причина, по которой индейцы так защищались. Пусть все знают, что тамошние индейцы — подданные данники амазонок и что, узнав о нашем приближении, они отправились к ним за помощью, и десять или двенадцать из них явились к ним на подмогу... Мы увидели воочию, что в бою они сражаются впереди всех и являются для оных чем-то вроде предводителей... Сии жены весьма высокого роста и белокожи, волосы у них очень длинные, заплетенные и обернутые вокруг головы... В руках у них луки и стрелы, и в бою они не уступают доброму десятку индейцев, и многие из них — я видел это воочию — выпустили по одной из наших бригантин целую охапку стрел...»
Трудно даже представить, сколько ожесточенных споров вызвало это сообщение Карвахаля впоследствии. Существовали ли эти племена женщин-воинов, подчинивших себе окрестных индейцев, в действительности? Страну амазонок, открытую будто бы Орельяной, не нашла ни одна из более поздних экспедиций, и это дало основание причислить рассказ о ней к откровенным выдумкам. Может быть и в самом деле, следуя примеру многих и многих других путешественников, монах-доминиканец как только мог постарался приукрасить свое повествование пусть колоритными, но откровенно выдуманными подробностями?
Что ж, и такое не исключено. Однако вероятнее всего, что в этом рассказе причудливо смешались и правда — женщины-индеанки действительно иной раз принимали участие в сражениях с испанцами, — и отголоски тех легенд об амазонках, которых конкистадоры привезли с собой из Европы. Ведь еще со времен Древней Греции до средних веков дожили предания об отчаянно храбрых племенах, обитавших будто бы в Малой Азии и на побережье Азовского моря, в которых были только прекрасные женщины-воительницы, и ни одного мужчины. Согласно одному из мифов, на царице амазонок Антиопе был женат знаменитый эллинский герой Тесей, совершивший множество подвигов... И наконец, к этим легендам и крупицам добавились еще и по-своему истолкованные рассказы индейцев, в которых отражались реальные сведения, например о перуанском храме «Дев Солнца». Ведь Карвахаль описывает «полную золота» — какой рассказ мог обойтись без такой подробности! — страну амазонок не как увиденную своими глазами, а так, как рассказал о ней испанцам один из пленных индейцев. Своими же глазами Карвахаль видел лишь индеанок, сражающихся в бою рядом с мужчинами...
И пусть впоследствии ни одна из экспедиций не нашла и следов страны амазонок, «где они держат идолов из золота и серебра в виде женских фигур». Рассказ Карвахаля сам стал ещё одной из географических легенд, приведших к подлинным открытиям: в поисках страны амазонок более поздние экспедиции детально, обследовали берега самой большой в мире реки.
А путешественник, увлеченный другой легендой, легендой об Эльдорадо, Франсиско Орельяна, после сражения, где женщины-индеанки сражались рядом с мужчинами, продолжал свое плавание вниз по Амазонке.
Река становилась еще шире. Она разделилась .на множество потоков, иные из которых были столь широки, что скорее походили на морские проливы. Сходство с морем усилилось еще эольше, когда уровень воды в реке стал периодически повышаться и понижаться — причиной был океанский прилив. Приободрившиеся путешественники решили, что океан уже совсем рядом, однако это было не так — в Амазонке прилив чувствуется чуть ли не за тысячу километров от устья.
Один из июльских дней едва не стал последним днем экспедиции: во время отлива обе бригантины оказались на суше, и этот момент конкистадоров атаковали индейцы.
«Здесь хлебнули мы столько горя, — записал Карвахаль,— только ни разу дотоле на протяжении всего нашего плавания по реке нам не доводилось изведывать».
Нападение было отбито с огромным трудом. На другой день, проплыв по реке еще немного, испанцы пристали к берегу, чтобы отремонтировать малую бригантину, налетевшую на полузатопленный ствол дерева и давшую течь. Ремонт занял восемнадцать дней. После нескольких дней плавания пришлось снова остановиться — новый ремонт продолжался еще две недели. Испанцы просмолили борта, поставили на бригантинах новые мачты, сплели из травы веревки и из своих старых плащей кое-как сшили паруса. Паруса были нужны для плавания в океане.
Необходимо было пополнить запасы пресной воды и продовольствия. В устье реки в одном из селений, преподнеся его обитателям различные европейские безделушки, путешественники раздобыли все необходимое. По всей вероятности, в этом селении европейцы уже побывали — в одном из домов на глаза испанцам попалось «сапожное шило с острием и с рукояткой и ушком».
Вот теперь, вероятно, океан был совсем рядом. Однако выйти в него оказалось не так-то легко. Встречный ветер относил бригантины назад, камни, заменявшие якоря, не могли удержать суда на одном месте. Наконец, перед рассветом 26 августа бригантины повернули на север, чтобы достичь каких-либо поселении европейцев на побережье или на островах Карибского моря. Можно только удивляться отчаянной смелости, с какой Орельяна и его спутники решились на плавание в океане: среди участников экспедиции, оставшихся к тому времени в живых, не было ни одного моряка, у испанцев не было ни навигационных карт, ни компаса. Но тепепь им неизменно сопутствовало везение.
Океан был на удивление спокоен. Зa все то время, что утлые, кое-как сколоченные судёнышки, страясь придерживаться берега, шли на север, не выпало ни одного дождя. Им предстоял немалый путь, достаточно только взглянуть на карту , чтобы понять это.
И они прошли этот путь. В сентябре 1542 года Орельяна благополучно пристал к острову Кубагуа в Карибском море, расположенном к юго-западу от крупного острова Маргарита, и сошел на берег близ испанского поселения Новый Кадис.
Его поход на поиски Эльдорадо закончился. Открыв Амазонку - самую большую реку мира, проплывя по ней около шести километров, Франсиско Орельяна совершил одно из самых важных в истории изучения Южной Америки путешествий. На долю большинства других искателей легендарной золотой страны выпала гораздо меньшая удача.
...Не повезло, например, испанскому солдату Педро де Лимпиасу.
Он участвовал в экспедиции Федермака, того самого немецкого конкистадора, который пришел по заданию банкирского дома Вельзеров в страну муисков вслед за Кесадой. Федерман, Белалькасар и Кесада отправились в Испанию чтобы решить спор о владении новооткрытой землей в Совете Индий, а Лимпиас, не оставивший надежду найти Эльдорадо, вернулся в Коро - город, откуда и началась когда-то эта немецкая экспедиция которую опередил Гонсало Хименес де Кесада.
А в Коро были в то время Филипп фон Гуттен, родственник знаменитого немецкого писателя Ульриха фон Гуттена, автора «Похвального слова глупости», сын банкира Бартоломе Вельзера Бартоломе Вельзер-младший. Наслушавшийся во время своих скитаний рассказов о «позолоченном человеке», Лимпиас же,в лице этих двух немцев благодарных слушателей. К тому же выяснилось, и сам Филипп фон Гуттен уже несколько лет безуспешно искал Эльдорадо.
По авторитетному мнению Лимпиаса, Эльдорадо надо было ть к востоку от Новой Гранады. Филипп фон Гуттен предложил испанскому солдату, которому было все равно кому служить, искать Эльдорадо вместе.

В июле 1541 года, когда Орельяна и Писарро еще были на склонах вулкана Сумако, из Коро вышли, направляясь на Восток, корабли немецких конкистадоров Пройдя вдоль Некого побережья до порта Бурбарато, искатели Эльдорадо Эерег и двинулись к поселению Баркисимето. Отсюда экспедиция отправилась в не исследованные еще области Вене суэлы — Маленькой Венеции, как назвали эту страну, располо женную на севере Южьо-Американского континента, испанцы первооткрыватели, обнаружившие на ее побережье индейские поселения, выстроенные на сваях.
Лимпиас вел своих новых хозяев прямо на юг, придерживаясь горной цепи, идущей в глубь страны Сначала конкистадоры не сомневались в успехе. Потом их надежды стали уменьшаться: дни шли за днями, но не было ни малейших признаков желанной золотой страны. Не переставая, лили дожди, те же самые дожди, что мешали выступить в путь отряду Гонсало Писарро Нередко приходилось идти по пояс в воде. Озер вокруг было немало но ни одно из них не было похоже на озеро, дно которого выстлано золотыми плитками.
Год спустя экспедиция вышла почти к тому же самому месту, откуда и начала свой путь в глубь страны. Казалось, судьба, а может быть, и сам хозяин золотой страны смеется над ними. Но возвращаться назад Филипп фон Гуттен не собирался, он снова двинулся на юг. Теперь Педро де Лимпиас вел экспедицию несколько иным маршрутом. Прежнюю неудачу он объяснял тем, что на столь обширных землях не мудрено было сбиться с пути и пройти мимо желанной цели. Но теперь-то — как в это хотелось верить! — экспедиция была наконец на верном пути.
Отряд переправился через реки Апуре, Араука, Капанапаро, Мета. Индейцы, встречавшиеся на пути, рассказывали о том, что дальше лежит земля Омагуа. Столица этой страны украшена зо-логымч статуями богов, а жилище правителя похоже на золотой храм. Наверное, это и было Эльдорадо.
Наконец после долгого и тяжелого пути отряд оказался на небольшой возвышенности, откуда можно было увидеть впереди большой город. Его дома располагались в строгом геометрическом порядке, город разрезали на части ровные улицы, а на площади в центре, было какое-то большое здание, похожее на храм.
Фон Гуттен махнул рукой, и всадники галопом помчались вперед. Но на равнине возле города пришельцев уже поджидало огромное войско. Видимо, разведчики индейцев давно уже следили за отрядом конкистадоров, и жители страны успели, приготовиться к встрече.
В воздухе запели стрелы. Индейцы сражались с таким ожесточением, не боясь даже лошадей, обычно вызывающих у них настоящую панику, что испанцам пришлось отступить. Филипп фон Гуттен получил в сражении тяжелое ранение и едва спасся. Повторилось то, что больше двадцати лет назад произошло во Флориде с отрядом Понсе де Леона. Отступление вскоре превратилось в бегство. Индейские воины преследовали конкистадоров никому не даруя пощады. Спастись удалось лишь очень немногим, оставшиеся в живых уже больше и не помышляли о поисках Эльдорадо.
В такой-то момент Педро де Лимпиас и покинул своих хозяев, предоставив им полную возможность спасаться самостоятельно. Возле города Баркисимето, когда совсем уже был близок карибский берег, к которому стремились потерявшие надежду люди, они встретились с группой испанских колонистов, поднявших мятеж — такое тоже нередко бывало в испанских колониях — против притеснявших их королевских чиновников, сборщике» податей и налогов, судей. Не без оснований усмотрев в лице Бартоломе Вельзера-младшего и Филиппа фон Гуттена тех же людей, против которых они восстали, мятежники без суда и следствия отрубили обоим головы; такая же участь постигла и всех, кто с ними.
А Педро де Лимпиас? Он не потерял надежды найти Эльдорадо. Дальнейшие поиски он вел уже самостоятельно, на свой страх и риск и, добавим, на свои более чем скромные средства. И вскоре все следы этого предприимчивого человека затерялись где-то в бесконечных и непроходимых лесах, покрывающих территорию Венесуэлы. Что удалось ему открыть в них? Что видел он перед собой в свои последние мгновения? Это навсегда останется неизвестным, но можно не сомневаться: человека, покрытого золотой пылью, он так и не нашел, хотя и заплатил за эти поиски своей жизнью.
Еще одна жертва в списке людей, погубленных золотым призраком Эльдорадо. Список же этот можно продолжать воистину до бесконечности.
...Дона Педро Малавера де Сильву и двух его маленьких дочерей поразили стрелы одного из племен воинственных карибов. Вскоре после гибели предводителя был уничтожен и весь его отряд. Спастись удалось только одному солдату — Хуану Картину де Альбухару.
Но этот солдат был бедняком, как и большинство его товарищей, и поэтому их интерес к Эльдорадо вполне простителен. А вот дон Педро, глава экспедиции, мог бы спокойно сидеть дома, в перуанском городе под названием Чачапояс. Он был богачом, плантация его приносила изрядные доходы, но вот и он в 1566 году бросил свой богатый дом ради манящего Эльдорадо. Пусть его первая экспедиция оказалась неудачной — пришлось вернуться, назад, но он не оставлял надежды. Такова была притягательная власть неведомой золотой страны, что тот, кто отправлялся на ее поиски однажды, потом уже не мог остановиться и шел до конца.
В 1568 году дон Педро добился у короля Испании разрешения на организацию новой экспедиции. От желающих принять в ней участие не было отбоя. Однако и новая экспедиция, вышедшая все из того же города Баркисимето, не принесла успеха. Проблуждав в непроходимых венесуэльских лесах несколько месяцев, пришлось вернуться с пустыми руками.
Плантация дона Педро была запущена, обширное хозяйстве перестало приносить доход. Но Эльдорадо все не давало ему покоя, и он совершенно забросил дела. В 1574 году Педро де Сильва высадился с небольшим отрядом на побережье Гвианы—страны, лежащей к юго-востоку от Венесуэлы. Здесь-то искатели Эльдорадо и нашли свою гибель...
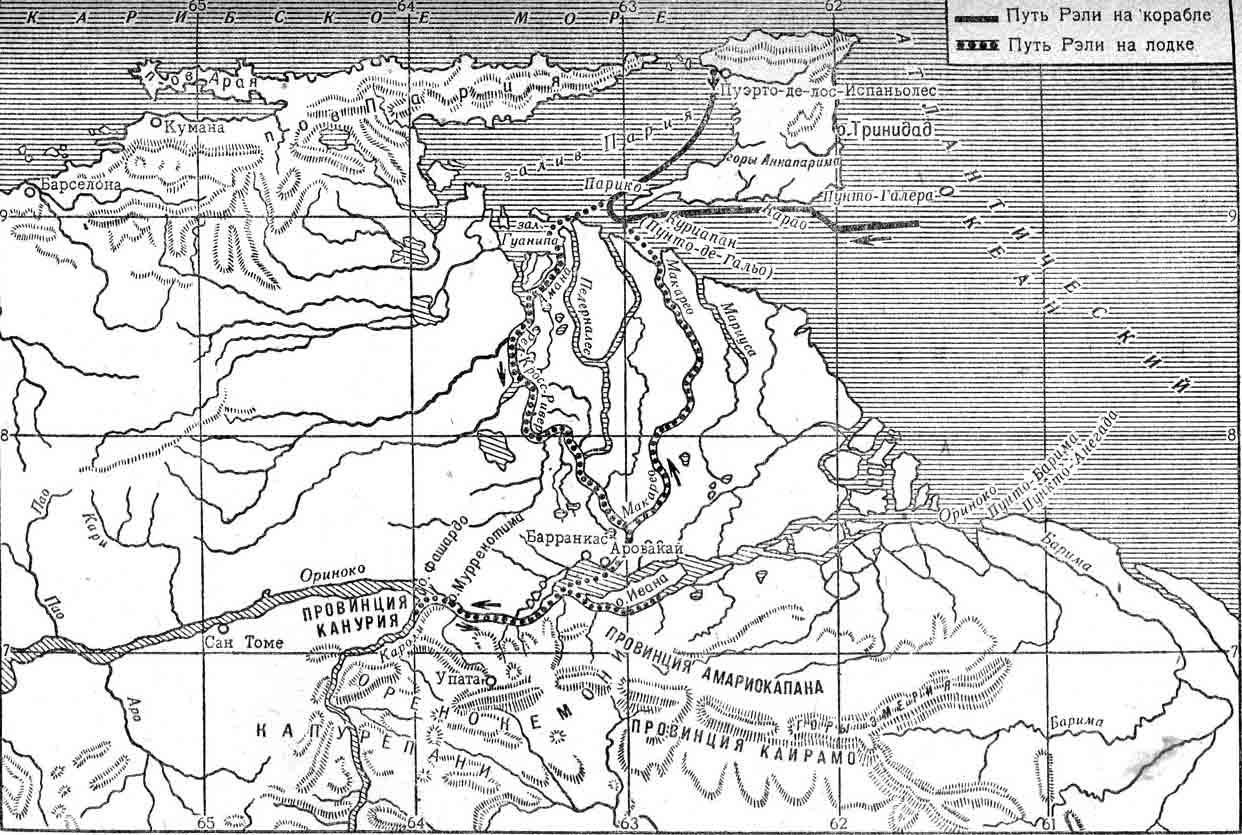
Безумцев, очарованных золотым призраком, косили стрелы индейцев; они гибли от голода, тонули в реках, умирали от тропической лихорадки, от невыносимой жары. А кроме того, их подстерегала и еще одна смертельная опасность: нередко случалось так, что искатели Эльдорадо заканчивали свой земной путь в кровавых распрях друг с другом, не поделив страну, которую еще не открыли, и сокровища, которых еще не нашли.
Пожалуй, наиболее драматической и наиболее кровавой оказалась экспедиция Педро де Урсуа, вышедшая из Лимы в 1560 году. Этот поход отличался от многих других тем, что был снаряжен за счет обычно скуповатой королевской казны. Экспедицию организовал вице-король Перу Андреас де Мендоса. Педро де Урсуа заранее был назначен губернатором Эльдорадо, получив право основывать на завоеванной земле новые города и быть полноправным судьей в новой колонии. По мнению вице короля, дон Педро был вполне -достоин такой ответственности: за спиной этого сравнительно молодого еще офицера лежали походы в Панаму и Перу, он показал себя храбрым, решительным человеком. К тому же, что было, вероятно, весьма существенно, он прослыл человеком чести и слова, никто не смог бы сказать о нем ничего худого.
Со всех концов Нового Света приезжали в Лиму люди, желающие принять участие в новом походе. Город, основанный Франсиско Писарро, превратился в огромный походный лагерь. Палатки солдат стояли прямо на улицах и площадях. Будущие завоеватели Эльдорадо бродили по Лиме, задевая прохожих, грабя жителей города и затевая по любому поводу кровавые поединки. Вице-король никак не мог навести в своей столице порядок и, наверное, Педро де Урсуа, будущему губернатору Эльдорадо, стоило бы уже тогда задуматься над тем, что за люди собрались по его призыву.
Подавляющее большинство из трехсот завербованных солдат были самыми отпетыми авантюристами, утратившими даже последние представления о чести и совести. Когда войско Педро де Урсуа вышло, наконец, из Лимы, горожане вздохнули с невыразимым облегчением.
А для Педро де Урсуа сразу же начались тревожные, тяжелые дни.
Первой жертвой стал капитан Педро Рамиро, человек, которому будущий губернатор полностью доверял и поэтому назначил командиром передового отряда. Его убили два ближайших подчиненных командира, не простивших Рамиро того, что Педро Де Урсуа отдал предпочтение ему, а не кому-то из них. Оправдываясь, офицеры утверждали, что Рамиро замышлял измену. На глазах всего войска убийцы по приказу Педро де Урсуа были обезглавлены.
Это мрачное событие словно бы стало предзнаменованием всех дальнейших кровопролитий.
Маршрут экспедиции проходил сначала по реке Уальяга, впадающей в Мараньон — один из истоков Амазонки. Потом суда де Урсуа пошли по самой этой великой реке, открытой за двадцать лет до этого Орельяной. Солдаты, составляющие войско, были недовольны: в селениях, расположенных по берегам реки, поживиться было нечем. Многие открыто призывали вернуться назад. Бунт против Педро де Урсуа назревал.
У всех местных индейцев испанцы спрашивали, есть ли поблизости какое-нибудь озеро. Ведь именно на берегу озера жил Эльдорадо. Вскоре неподалеку от того места, где в Амазонку впадает река Жапура, была обнаружена еще одна маленькая речка, которая чем-то привлекала внимание испанцев. Разведчики, пройдя лесную чащу вдоль берега, оказались возле огромного озера. Может быть, это и было то самое озеро, в котором купается Эльдорадо?
Педро де Урсуа в это верил. Другим же показались, что берега этого озера слишком пустынны, чтобы оно было тем самым священным озером. Что нужно было делать дальше? Мнения разделились, и этого оказалось вполне достаточно, для того чтобы участь Педро де Урсуа была решена.
Во главе заговора встал один из солдат, человек без чести и совести. Он быстро сколотил вокруг себя таких же головорезов, как он сам. Ему удалось завербовать в число своих сторонников и одного из ближайших помощников будущего губернатора Эльдорадо, капитана Фернандо де Гусмана. Заговорщики вели себя так осторожно, что Педро де Урсуа не мог ни о чем и подозревать.
Год тысяча пятьсот шестидесятый подходил к концу. За несколько дней до нового года Урсуа послал отряд преданных ему солдат разведать дорогу, которая уходила от озера в глубь тропического леса. Наверное, эта дорога и вела к дворцу Эльдорадо. Но возвращения разведчиков Урсуа уже не дождался: первый день нового 1561 года стал последним днем жизни предводителя экспедиции. Вечером в его хижину ворвались заговорщики, и он был убит с поразительной даже для тех времен жестокостью. Пали и его немногочисленные сторонники.
Теперь экспедиция превратилась в банду отпетых негодяев, убийц, которым нечего было терять. Ее предводителем стал тот самый солдат, что возглавил заговор, — Лопе де Агирре. Его планы — по-видимому, он давно их вынашивал — были гораздо смелее, чем просто поиски Эльдорадо. Можно даже сказать, что они были поразительно дерзкими, — если бы только они осуществились, с удачей Агирре нельзя было бы сравнить даже самое смелое из всех завоеваний, совершенных в Новом Свете.
Что же он задумал? Лопе де Агирре предполагал пройти по материку к Атлантике и высадиться на остров Маргарита. Там следовало перебить гарнизон, чтобы запастись боеприпасами и про-довольствием. С острова Маргарита банде предстояло перебраться на Панамский перешеек, взять город Панаму и захватить все суда, которые стоят в его гавани. В Панаме, наверное, нашлось бы немало недовольных властями, хватило бы там и головорезов-авантюристов, которые пошли бы за любым предводителем, если б только была обещана богатая добыча. Их можно было увлечь за собой, чтобы осуществить последнюю часть плана: высадившись в Лиме, захватить вице-короля Перу и основать государство, не подвластное далекой Испании.
План дерзкий, смелый. Должно быть, он многим мог бы показаться совершенно несбыточным. Но, как это ни удивительно, Агирре в значительной мере его осуществил. Прежде всего ему удался беспримерный переход к верховьям р?ки Ориноко. Сначала отряд прошел вверх по течению реки Жапура, затем добрался до реки Риу-Негру и наконец вышел к Ориноко, открытой еще в 1531 году экспедицией Диего Ордаса, который, кстати еще до Кесады, тоже искал Эльдорадо. И как бы ни оценивать личность Агирре, чисто географические результаты этого перехода были велики: ему первому посчастливилось установить, что водные системы двух самых больших рек Южной Америки—Ориноко и Амазонки — очень тесно связаны между собой. Другие результаты его похода были такими: он захватил остров Маргарита, уничтожив его гарнизон. Но здесь удача и оставила смелого авантюриста...
Слухи о том, что остров захвачен, быстро разнеслись по всем окрестным колониям. Агирре не удалось добраться до Панамы, путь уже был отрезан кораблями с королевскими войсками. Высадившись на,побережье материка, Агирре попытался скрыться в венесуэльских лесах. За ним началась самая настоящая охота. В нескольких стычках с королевскими солдатами ему еще удавалось спасать остатки своего отряда и снова скрываться. Но пришел наконец день, когда звезда этого предприимчивого авантюриста окончательно закатилась. Агирре взяли в плен, и его жизнь окончилась на эшафоте.
Вот так была перевернута еще одна из страниц в истории поисков Эльдорадо, наверное, самая мрачная. Впрочем, даже и такой кровавый финал, постигший почти всех, кто вышел в путь вместе с Педро де Урсуа, вряд ли мог бы охладить пыл дручих искателей счастья. Пусть никому еще не удалось увидеть Эльдорадо-правителя и Эльдорадо-страну своими глазами. «Позолоченный человек» и его страна существуют, просто всем предыдущим экспедициям не везло. И, значит, кого-то еще ждет открытие, перед которым померкнет любое другое.
Пестрый, невообразимый калейдоскоп Эльдорадо продолжал ся В него втягиваются все новые и новые люди.
Но иной раз вновь появляются и те, чей след, казалось бы, уже окончательно затерялся.
...Хуан Мартин де Альбухар — так звали того солдата — помните что один остался в живых после того, как на побережье Гвианы, где-то между устьями Ориноко и Амазонки, погиб весь отряд Педро Малавера де Сильвы. В 1584 году де Альбухар появился на острове Маргарита. Десять лет его считали погибшим, потому что с 1574 года от отряда де Сильвы не было никаких вестей, но де Альбухар все это время благополучно здравствовал. На долю солдата, как оказалось, выпали удивительные приключения, которые мгновенно сделали его знаменитым.
Невероятную историю, которую рассказывал де Альбухар, за писал один из его современников:
«И поймали меня гвианцы, и, поскольку не видели никогда ни одного христианина и ни одного человека с таким цветом кожи, как у нас, повели в страну, достойную удивления. Всю дорогу я шел с завязанными глазами, пока мы не остановились у ворот города Маноа, и длился этот переход четырнадцать или пятнадцать дней. Достигли мы города в полдень, и тогда с меня сняли повязку; и так шел я по великому городу Маноа весь день до наступления ночи и весь следующий день от восхода до заката солнца, прежде чем привели меня мои проводники ко дворцу императора Инки. Он любезно принял меня и велел поместить в своем дворце и хорошо содержать. Но мне никак не дозволялось бродить по стране и разглядывать, что в ней есть.
После того как я прожил в Маноа семь месяцев и стал понимать местный язык, Инка спросил меня, хочу ли я вернуться на родину или же останусь у него по доброй воле. Я пожелал вернуться и был милостиво отпущен. Проводить меня взялись несколько гвианцев, чтобы показать путь к Ориноко. И все они были нагружены таким количеством золота, какое только способны унести, — это золото подарил мне Инки, прощаясь со мной. Когда же мы подошли к реке, на нас напали тамошние индейцы и отняли все золото, кроме двух калебас — больших тыквенных бутылей, в которых были спрятаны золотые бусы. С ними-то я и спустился по Ориноко на каноэ. Попал сначала на остров Тринидад, затем перебрался на Маргариту...»
Все смешалось в этой удивительной, малоправдоподобной истории. Правителя страны, помещавшейся где-то в глубине Гвианы, звали Инка, но ведь то был титул правителя Перу, страны, лежащей на противоположном побережье материка. Город Маноа, в котором будто бы побывал де Альбухар, оказался, по его словам, таким большим, что по нему надо было идти целых два дня, чтобы достичь дворца владыки. Во всей Южной Америке не было, конечно, столь громадных городов. Если поверить де Альбухару, Маноа не уступил бы размерами, например, современному Нью-Йорку. И, к тому же, судя по рассказу солдата, он был в этом удивительном городе всего несколько месяцев, так что оставалось совершенно неясным, чем же было заполнено остальное время его десятилетних скитаний...
Эта была самая откровенная выдумка. Де Альбухар расцветил самыми причудливыми, фантастическими подробностями свои подлинные приключения, которые, как удалось это выяснить современным исследователям, изучившим старинные хроники и документы, заметно отличались от того, что он рассказывал, вернувшись на остров Маргарита.
Испанский солдат десять лет прожил в одном из племен индейцев Гвианы. Он вышел к индейскому селению после того, как много дней брел наугад по сельве, спасшись чудом от стрел карибов. Индейцам этого племени еще не доводилось видеть белого человека. Они посчитали пришельца богом, окружили его вниманием и заботой и не спускали с него глаз. Его избрали вождем племени, и лишь с огромным трудом де Альбухару удалось сбежать от своих подданных и вернуться к европейским поселенцам.
Но, как нетрудно понять, подлинная история показалась бы слушателям куда менее интересной. Выдуманная же — быть может, де Альбухар этого именно и добивался — принесла ему славу. Ведь он стал первым из европейцев, кому посчастливилось, наконец, увидеть своими глазами Эльдорадо — конечно, Инка и был этим самым «позолоченным человеком».
Нетрудно представить, что фантастический рассказ де Альбухара произвел впечатление разорвавшейся бомбы. На поиски Эльдорадо — ведь маршрут теперь почти указан — немедленно снаряжаются новые экспедиции. Однако сам де Альбухар больше не принимает в них участие. Напротив, он спешит покинуть остров Маргарита, опасаясь, вероятно, разоблачений, и вскоре все следы этого мистификатора теряются. Его никто никогда больше не видел в Иовом Свете. Где и как окончилась ею жизнь, неизвестно.
Но никто больше и не интересуется его судьбой. Де Альбухар свое дело сделал — указал путь к Эльдорадо И для многих его рассказ стал путеводной звездой, которая, правда, никому не принесла счастья.
Например, он стал путеводной звездой для Анюнио де Беррно, живущего в Боготе, столице Новой Гранады, и женатого на племяннице Гонсало Хименеса де Кесады.
Антонио де Беррио и прежде искал Эльдорадо, причем взялся за это, как сказали бы сейчас, с подлинно научным подходом. Он начал с того, что собрал все доступные ему сведения о прежних поисках золотой страны. Опыт предшественников позволил ему выбрать для поисков те страны, в которых никто еще не был.
В 1584 году де Беррио, отправившись на запад Новой Гранады оказался в междуречье Меты и Вичады, неподалеку от Ориноко. Здесь, правда, он не нашел озера, в котором купается «позолоченный человек», но вместо этого открыл золотоносные жилы.
Надо сказать, немногим искателям эльдорадо удавалось открыть хоть что-то, что имело бы ценность!..
На следующий год Антонио де Беррио обследовал среднее течение Ориноко. Эльдорадо опять не было найдено, но зато, вернувшись в Боготу, де Беррио получил официальный пост губернатора Эльдорадо.
Сколько людей до него уже получали этот призрачный, как и сама золотая страна, пост! Но столь высокое назначение словно бы окрылило дона Антонио — он стал искать Эльдорадо с еще большим рвением.
В 1590 году он отправился в новое путешествие — на этот раз в глубь Венесуэлы. Его отряд прошел по всей реке Ориноко до устья и оказался, наконец, на острове Тринидад, лежащем в Атлантике неподалеку от побережья. По всей вероятности, как раз в это время де Беррио и услышал впервые об истории солдата, попавшего где-то в Гвиане в сказочный город Маноа. Дон Антонио де Беррио твердо поверил в полную достоверность этой истории. Ему было уже около семидесяти лет. Значительная часть жизни была растрачена на тщетные поиски. Но теперь-то путь к Эльдорадо был указан...
Как решил де Беррио, экспедицию в Гвиану лучше всего начать именно с острова Тринидад. На подготовку решающего похода ушли еще три года. За это время будущий губернатор Эльдорадо основал на Тринидаде первую испанскую колонию. Были выстроены дома, город окружили крепостные стены... Еще немного, и экспедиция должна была выступить из нового города, чтобы то, о чем так долго мечтали многие, стало, наконец, действительностью.
Антонио де Беррио, казалось бы, все предусмотрел. И, однако, ему тоже не повезло. Он даже не начал свой поход.
В истории поисков Эльдорадо открывалась в это же самое время новая страница, на которой для де Беррио уже не оказалось места.
А начал эту страницу все тот же фантастический рассказ испанского солдата Хуана Мартина де Альбухара.
...Первые строки книги, вышедшей в Лондоне в 1596 году, были, если не считать краткого вступления, такими:
«Мы покинули Англию в четверг 6 февраля 1595 года и в следующее воскресенье были в виду северного мыса Испании, так как ветер по большей части оставался попутным; мы прошли в виду островов Берлингс и мыса Рок, направляясь дальше к Канарским островам, и прибыли семнадцатого того же месяца к Фуэртевентуре, где провели два или три дня и приняли на довольствие команды свежее мясо. Оттуда мы прошли вдоль побережья Гран — Канарии к Тенерифе...
Мы пришли на Тринидад 22 марта и отдали якорь у мыса Куриапан, который испанцы называют Пунто де Гальо и который расположен в широте 8° или около того...»
Автор этих строк — англичанин Уолтер Рэли, человек необыкновенно интересный, многого добившийся в самых разных сферах человеческой деятельности.
Сын бедного дворянина из графства Девоншир, недоучка, проведший в стенах Оксфордского университета всего год или два, он быстро достиг самого блестящего положения при дворе королевы Елизаветы I, получив титулы капитана стражи ее величества, лорда-управителя оловянных рудников, наместника графства Корнуэлл, вице-адмирала. Услуги, оказанные им королеве, были и в самом деле значительны: он участвовал в попытках колонизации берегов Северной Америки, с блеском выполнял самые деликатные дипломатические поручения и — по всей вероятности, это и оказалось самым главным, — Уолтер Рэли был необыкновенно удачлив в морских сражениях с испанцами.
Еще в 1494 году Испания и Португалия разделили свои колониальные интересы. По решению римского паны, все, что лежало западнее линии, проведенной в 370 лигах от островов Зеленого Мыса, принадлежало Испании, все, что восточнее — Португалии. Испания и Португалия в ту пору были самыми сильными морскими державами. Кто же, как не они, должны были поделить между собой мир? Когда мощным флотом обзавелась и Англия, выяснилось, что ей уже не приходится рассчитывать на многие новые земли. И тогда англичане начали жестокую охоту на море за испанскими талионами, везущими из колоний в Европу золото и серебро.
Хотя официально Англия и Испания не были в состоянии войны, многочисленных охотников за испанским золотом тайно снаряжала сама королева Елизавета; за это они делились с ней добычей. Английские эскадры не боялись теперь атаковать с моря и испанские прибрежные города в Новом Свете, нанося им немалый ущерб. Наконец, в 1558 году испанский король Филипп II, потеряв терпение, снарядил огромную флотилию, чтобы завоевать Англию и уничтожить все ее корабли. Сотни судов с десятками тысяч солдат двинулись к английским берегам, но в Ла-Манше их встретили те же самые люди, что уже приобрели немалый опыт морских сражений.
Боевые корабли испанцев были тяжелы и неуклюжи; английские суда маневренны и быстры. Ход сражения с самого же начала сложился не в пользу испанцев. К тому же, и отступить они не могли, потому что множество английских кораблей закрыло выход из Ла-Манша. Путь для отступления у испанцев был только один — вперед, вокруг Англии. Вдобавок ко всем несчатьям качался жестокий шторм, потопивший множество испанских кораблей,—даже море и ветер стали союзниками англичан Лишь жалкие остатки этого флота, который испанцы гордо называли «Непобедимой Армадой», обойдя с великим трудом вокруг Британских островов, вернулись на родину.
Это был удар, который окончательно подорвал испанское превосходство на море. И немалую роль в этой великой победе сыграл сэр Уолтер Рэли.
А вдобавок — это кажется совсем уж удивительным — он приобрел громкую известность как философ. Неустанно занимаясь самообразованием, он стал одним из самых знающих людей своего времени. Он был страстным с бирателем книг и старинных рукописей, владельцем огромной библиотеки. Наконец, Уолтер Рэли стал одним из самых выдающихся английских поэтов того времени, и многие литературоведы и сейчас называют его в числе таких великих авторов XVI века, как Уилья,м Шекспир, Френсис Бэкон и Кристофер Марло. Вот еще один любопытный штрих. В ту пору, когда иные историки литературы сомневались в том, что существовал на самом деле человек по имени Уильям Шекспир, считая, что его пьесы написаны в действительности кем-то другим, выдвигалась вполне серьезно и такая гипотеза: «Гамлет», «Король Лир», «Макбет», «Отелло», «Ромео и Джульетта», все другие пьесы и исторические хроники, сонеты написаны небольшой группой литераторов-вольнодумцев, во главе которых стоял Уолтер Рэли.
Можно добавить к этому, что к заслугам Рэли относится изобретение одного из способов опреснения морской воды и некоторые успехи в фармакологии: он разработал рецептуру сильнодействующего сердечного лекарства...
Такой-то необыкновенный человек и увлекся вслед за многими другими поисками Эльдорадо.
Рассказ Хуана де Альбухара, обрастая еще более фантастическими подробностями,, достиг наконец и Старого Света. Его разносили по разным странам те, что слышали слова самого испанского солдата, или из уст тех, что слышали его уже от других... До Уолтера Рэли этот рассказ, надо полагать, дошел уже в значительно измененном виде. В своей книге «Открытие Гвианы», которая вышла в свет сразу же после возвращения английской экспедиции искателей Эльдорадо на родину, он описывает обычай покрываться золотом с большим размахом — прежние рассказы о нем, несмотря на неизменно фигурирующее них несметное количество золота, были все-таки как-то скромнее. золотым песком, как слышал Рэли, покрывает себя не только правитель страны - примеру его следуют и все приближенные: «Особые служители императора, превратив золото в мелкий потела выдувают его через полый тростник на их умащенные сидят, десятками ияют с ног до головы, и так стаи сидят десятками и сотнями...»
Книга Уолтера Рэли и положила начало новой странице в истории поисков Эльдорадо именно она сделала легенду о «зототой стране», лежащей за океаном, известной всей Европе
В Англии книга «Открытие Гвианы» вышла в свет в 1596 году. В том же году она была переиздана Три года спустя вышло третье издание Почти сразу же во многих европейских странах появились переводы В Нюрнберге и Франкфурте-на-Майне в 1599 году ее издали на латинском и немецком языках Ее перевели на голландский язык Несколько позже появился французский перевод И по следам Уолтера Рэли за океан устремились искатели Эльдорадо уже самых разных национальностей Испании, уступившей первенство на море, пришлось уступить другим странам и первенство в поисках страны-легенды.
Однако все это начнется немного позже; пока же два корабля, которые снарядил сэр Уолтер Рэли, плывут через Атлантический океан, держа курс к острову Тринидад, где в этот момент готовится к экспедиции в Гвиану дон Антонио де Беррио.
Губернатору Эльдорадо пришлось оставить все свои надежды на удачу Англичане, высадившись на берег, взяло основанный испанцами город штурмом и закватили его немногочисленный гарнизон в плен Впрочем, великодушный Рэли тут же отпустил всех испанских солдат на свободу, оставив в плену лишь самого де Беррио и его помощника Затем, не колеблясь, глава экспедиции распорядился сжечь город
«Этот Беррио — джентльмен хорошего рода,— написал Уолтер Рэли впоследствии,— он долго служил испанскому королю в Милане, Неаполе, Нидерландах и других местах, он весьма отважен, щедр, весьма тверд и человек большого сердца, я обращался с ним, как подобало его положению и достоинству во всем, в чем мог, хотя средствами был ограничен» Как знать, не была ли вызвана столь высокая оценка, данная Рэли своему врагу и сопернику, тем, что де Беррио, попав в плен, посчитал за лучшее предложить англичанину свою помощь в поисках Эльдорадо?.
Испанец и в самом деле оказался полезным человеком он хорошо изучил своенравный характер Ориноко, мог многое рас сказать и об индейских племенах, которые жили по берегам реки. Послушав совета де Беррио, Уолтер Рэли оставил свою прежнюю мысль подниматься вверх по течению реки на кораблях В путь следовало отправляться только на лодках План хе экспе диции, совместно разработанный Рэли и де Беррио, был таким предстояло подняться по Ориноко до устья реки Карони, чтобы потом пройти по Карони до самых ее верховьев Легендарное озеро, по-видимому, лежало где-то там.
С большим трупом Рэли вместе с сотней спутников поднялся до устья Карони. В пути он провел немалую исследовательскую работу, составляя подробную карту местности и собирая сведения об окрестных реках, горах и населении. Склонный к некоторой театральности, он торжественно проводил во всех индейских селениях церемонию освобождения местных жителей от власти испанского короля, принимая их в число подданных английской королевы.
Наконец англичане вошли в устье реки Карони. Желанное озеро, на берегу которого стоит город Маноа, должно было появиться со дня на день.
Вскоре, однако, начался сезон дождей — этого вечного врага всех искателей Эльдорадо. Вода в реке поднялась, течение стало еще более бурным и стремительным.
Еще несколько дней Рэли упрямо продолжал идти вперед, но затем отдал приказ возвращаться. Эльдорадо не покорилось и ему.
Экспедиция вернулась на Тринидад. Отсюда корабли англичан прошли к берегам Венесуэлы; здесь пират-философ не удержался и, хотя бы для того, чтобы как-то возместить моральный и материальный ущерб, разграбил несколько прибрежных испанских городов. В августе 1595 года корабли Уолтера Рэли вернулись в Плимут.
Неудача? Для Рэли — да! Для тех же, кто читает его книгу, мгновенно ставшую известной чуть ли не всей Европе, неудача Рэли — самый добрый знак. Если самому автору «Открытия Гвианы» так и не удалось найти Эльдорадо, значит, это вот-вот сделает кто-то другой.
Заметим, что именно из этого своего путешествия Уолтер Рэли привез в Англию клубни какого-то диковинного, не известного доселе европейцам растения. Вскоре оно распространилось по многим странам и сегодня известно, конечно, каждому.
Уолтер Рэли привез в Европу картофель.
...И вновь в пестрый, причудливый, обагренный кровью, отмеченный множеством несчастий калейдоскоп Эльдорадо вплетаются маршруты все новых и новых экспедиций. Проходят годы, десятилетия. И вот теперь Испания окончательно уступает другим европейским народам свое «исключительное право» на .поиски «позолоченного человека».
Тотчас же вслед за Рэли его путь по Ориноко повторил голландец Кабелио. Эльдорадо вновь не было найдено. В самом начале XVII века в Гвиане побывала французская экспедиция: Рене Маре де Монбарио отправился в путь, выполняя приказ короля Генриха IV. Французам повезло не больше.
Другие искатели Эльдорадо пытают счастья на пути, проложенном Орельяной. Два монаха-францисканца — Доминго де Бриева и Андрее де Толедо — в сопровождении всего лишь восьми спутников в 1637 году повторили путь первооткрывателя, но тоже безрезультатно.
В начале XVIII века поисками «позолоченного человека» и его страны занялась знаменитая голландская Вест-Индская компания. Эльдорадо опять искали в Гвиане, но снова без всякой удачи. Затем Вест-Индская компания снарядила экспедицию, маршрут которой прошел по рекам Риу-Негру и Амазонке. Нет, золотая страна не найдена. В 1775 году погибли почти все участники экспедиции, организованной губернатором испанской Гвианы доном Мануэлем Сентурионом. Но вновь искатели Эльдорадо отправлялись в путь, вновь страдали от голода, жажды, погибали от тропической лихорадки, сходили с ума не в силах перенести ждущее в конце концов разочарование.
Все меньше оставалось на карте Южной Америки белых пятен (впрочем, кое-кто вел поиски и в Северной Америке). Страну же, где правит «позолоченный человек», никак не удавалось обнаружить. Может быть — впервые, наконец, появляется и такая робкая мысль,— Эльдорадо вообще не гуществует, да и не существовало никогда?
Но почему тогда индейцы во многих областях, не связанных между собой, так упорно рассказывали об одном — о том, что у правителя некоей страны есть столь удивительная привычка: смывать золотой песок с тела, купаясь в водах священного озера?..
Пришло наконец время, когда ответ был получен.
Эльдорадо возвращается на родинуНосилки были сделаны из чистого золота. Их осторожно поднесли к самым ногам юноши и, не давая ему самому сделать и шага, бережно усадили будущего правителя на золотое сиденье. Несколько индейцев, украшенных причудливыми уборами из перьев и золотом, подняли носилки на плечи, и они медленно поплыли над дорогой, выложенной из смеси соломы, глины и камней.
Дорога была идеально ровной; она спускалась в чудесную лесную долину, на дне которой в солнечных лучах блестела золотом вода священного озера.
Голова будущего правителя была покрыта белым плащом: до поры до времени солнце не должно было видеть его лица. Однако юноша хорошо знал, как много людей собралось на берегу — воины, жрецы, женщины, дети, — дожидаясь начала торжественной церемонии.
В водах озера с самых давних времен живет Фуратена — женщина-змея. Эта богиня добра к муискам, и, прежде чем народ начинает какое-либо важное дело, жрецы всегда спрашивают у нее совета. Но сегодня Фуратена должна дать муискам ответ на самый важный вопрос — угоден ли ей будет новый правитель народа, преемник умершего?
Медленно, величаво торжественная процессия спустилась к озеру. Возле ступеней каменной лестницы, уходящей прямо в воду, носилки остановились. На спокойной озерной глади чуть покачивался плот, связанный из пучков священного тростника; на углах его стояли жаровни, в которых тлели благовонные травы.
Будущего правителя осторожно сняли с золотых носилок. Почти сразу же едва тлеющий огонь в жаровнях вспыхнул яркими языками пламени. Это послужило сигналом: на берегу одновременно загорелись сотни факелов и все одновременно повернулись спиной к воде. В этот миг никому не дозволялось смотреть на будущего правителя.
Миг священного таинства наступил.
Жрецы сбросили с юноши белое покрывало. Тело его они осторожно натерли душистой смолой. Потом, взяв короткие трубочки из тростника, они стали выдувать из них тонкие струйки золотого порошка. Тело юноши постепенно покрывалось тончайшим золотым слоем, на нем стали играть солнечные блики.
Торжественная церемония продолжалась. Теперь к будущему правителю подошли четыре вождя из разных племен народа муисков. Они осторожно подняли покрытого золотом юношу на руки и перенесли на середину плота. К ногам его после этого они сложили множество золотых украшений. Потом вожди встали по четырем углам плота.
Жрецы оттолкнули его от берега, и плот медленно поплыл к середине священного озера. Раздались громкие приветственные крики. И вот плот остановился, наконец, на самой середине круглой водяной чаши. Тотчас же воцарилась полная тишина. Теперь будущему правителю народа предстояло обратиться со священными словами к покровительнице Фуратене — женщине-змее:
«О ты, сердце озера! Ты, трижды почтенная мать лагуны Великая, могущественная женщина в змеиной плоти! Источник изобилия, благодетельница наших сынов и дочерей! Дай жизнь и радость твоим детям, взывающим к тебе с порога твоей обители. Пусть плодятся и множатся чада твои, пусть недуги и злосчастья минуют их, пусть солнце и луна озаряют их живительным светом. Яви любовь, о великая, и прими в свое лоно святые жертвы и главный дар — сияющего солнцем посланца твоего народа...»
Короткая пауза, и вожди по знаку юноши обрушивают в воду груду золота, лежащую у его ног. Затем в воду прыгает и сам будущий правитель; за ним прыгают и вожди. Пока они плывут к берегу, вода смывает золотой порошок, и, когда юноша выходит на каменные ступени, на теле его не остается ни одной золотой песчинки. Фуратена приняла и этот дар — это верный знак того, что выбор своего народа она одобрила.
И когда это становится ясным, в воды озера проливается настоящий золотой дождь: муиски, бросая Фуратене золотые украшения, благодарят свою покровительницу...
Вот о такой древней церемонии, которая повторялась при каждом новом правителе из поколения в поколение в народе муисков, и рассказывали испанцам индейцы тех земель, куда дошли слухи о ней, по пути — не без этого — претерпев некоторые изменения. Последним из правителей, который прошел эту торжественную церемонию, был великий Гуатавита. Но Гонеало Хименесу де Кесаде, подлинному и единственному открывателю Эльдорадо, как уже говорилось, так и не суждено было об этом узнать.
Почему? Да прежде всего потому, что страна Эльдорадо связывалась в пылком воображении испанцев не только с самим купанием в водах священного озера, но прежде всего с дворцами из чистого золота, стоящими будто бы по его берегам, с местностью, где поистине все должно быть золотым. А озеро Гуатавита было самым обыкновенным, ничем вроде бы непримечательным. И, наверное, если бы даже Гуатавита. поведал Кесаде о необыкновенной традиции, которая живет в его народе, испанцы решили бы скорее всего, что муиски сами пересказывают обычай этого неизвестно где живущего Эльдорадо. Увидеть своими глазами эту церемонию Кесада не мог — она происходила лишь один раз в жизни правителя. Испанцы же были убеждены в том, что такие купания происходят ежедневно...
Шло время, и после завоевания Новой Гранады, после того, как народ муисков был покорен, порабощен, торжественная церемония, живущая с незапамятных времен, ушла в прошлое. Никогда больше у муисков не было своего повелителя, никогда больше не повторялся на озере Гуатавита этот величавый обряд. Сама память о нем постепенно уходила в прошлое.
Правда, один из испанских хронистов записал позже со слов какого-то индейца-муиска подробный рассказ об этом обычае. Но в нем усмотрели тогда лишь отголоски сведений о «подлинном» Эльдорадо. Потом же, когда прошли десятилетия, века и страна «позолоченного человека» все еще не была найдена, нетрудно было решить, что все рассказы о ней не более чем сказка, не имеющая под собой никаких реальных оснований. Сказка, каких немало сложили индейцы разных племен, передавая их из поколения в поколение.
...И все-таки это именно озеро Гуатавита было подлинной и единственной колыбелью всех сведений об Эльдорадо, вызвавших столько географических открытий.

Впервые это предположил великий немецкий ученый и путешественник Александр Гумбольдт. Он побывал в Южной Америке в начале XIX века. Зная рассказ испанского хрониста, Гумбольдт отправился на озеро Гуатавита. Внимательно обследовав его берега, ученый заметил вырубленные в одной из скал ступени, которые уходили прямо в воду. Вполне возможно, что это были остатки той самой лестницы, по которой когда-то, один раз в жизни, спускались на священный плот будущие повелители муисков.
А в 1856 году неподалеку от озера была сделана любопытная археологическая находка: нашли изготовленную из золота модель плота с несколькими сидящими на нем золотыми фигурками. Расположение их и позы полностью соответствовали описанию торжественной церемонии, зафиксированному хронистом.
Окончательное же подтверждение того, что этот обычай существовал на самом деле, относится к 1912 году. Одна английская фирма решила вложить деньги в операцию по осушению озера Гуатавита, чтобы, если слухи о несметных сокровищах, сброшенных за века в его воды, верны, подобрать их со дна.
На берег были доставлены мощные паровые насосы. С ужасающим грохотом машины принялись за работу; уровень озера стал медленно понижаться. Наконец, на поверхности появился темно-зеленый ил.
Теперь можно было выуживать из него драгоценности.
Первые же из находок обнадежили: из ила были извлечены золотые подвески и немалое число изумрудов. И тогда-то и случилось то, чего устроители этого предприятия никак не могли предположить. Хотя им удалось выудить еще довольно значительное количество золотых украшений, через несколько дней прогревшийся на солнце ил стал затвердевать. Дно озера словно бы окаменело, все остальные несметные сокровища оказались погребенными в этой тверди, взломать которую англичане, потомки Уолтера Рэли, так и не смогли. Потом сразу же начались дожди, и озеро стало вновь заполняться водой. Словно бы сама Фуратена — женщина-змея действительно охраняла его покой и жестоко посмеялась над теми, кто хотел его нарушить...
Разочарование, постигшее искателей сокровищ, которые когда-то целые поколения муисков приносили в дар мудрой женщине-змее, нелегко описать. О том, насколько горьким оно оказалось, говорит уже хотя бы вот такой факт: англичане даже не стали демонтировать паровые насосы, стоившие немалых денег, и еще долгое время эти громоздкие, неуклюжие машины оставались на берегах озера Гуатавита безмолвными памятниками очередной неудачи искателей Эльдорадо, с годами ржавея и разрушаясь. Что ж, времена изменились: конкистадоры прежних веков теряли в погоне за призрачным золотым блеском жизни, конкистадоры XX века потеряли машины...
Наверное, не будет преувеличением, если сказать: это и была самая последняя экспедиция из всех снаряженных на поиски Эльдорадо, подведшая итоговую черту под необъятным калейдоскопом «золотых» маршрутов. И вновь, как это было десятки, сотни раз, золотой призрак ускользнул от искателей, очарованных его великолепным сиянием.
Но, опять ускользнув, он снова обогатил людей совсем другим богатством — новыми знаниями: на этот раз несомненным подтверждением того, что на самом деле существовал некогда причудливый и удивительный обычай, который, многократно преобразившись в рассказах, породил легенду, прожившую столько десятилетий. А все прежние экспедиции? Пожалуй, точнее всех сказал о них тот же Александр Гумбольдт:
«Мы, несомненно, в значительной мере обязаны Эльдорадо нашими знаниями о внутренних областях Америки. Попытки завоевать эту легендарную страну принесли пользу географии, как нередко приносят пользу истине ошибки или смелые гипотезы».
Слова эти можно было бы отнести ко всем путешествиям, совершенным по следам географических легенд.

И еще с одной географической легендой связан целый ряд путешествий и открытий в Новом Свете, еще одна призрачная, никогда не существовавшая страна настойчиво тревожила воображение конкистадоров и звала их в дорогу.
Маршруты экспедиций, совершенных вслед за этой легендой, легли на громадное белое пятно, которое представляла собой в ту пору почти вся карта Северной Америки. Результатами их стали открытия таких крупных рек, как Колорадо, впадающая в Калифорнийский залив, Рио-Гранде с притоком Пекос, Арканзас, Канзас; были открыты Скалистые горы, необъятные прерии, протянувшиеся на невообразимые, дух захватывающие пространства; впервые европейцы увидели и такое изумительное чудо природы, как Большой каньон...
Эти великие открытия были сделаны всего за несколько лет. Начавшись позже, чем поиски Эльдорадо, поиски богатой страны Сиволы, о которых пойдет речь, закончились гораздо раньше. А вот сама легенда о ней была значительно старше, чем пленительная легенда о «позолоченном человеке» и стране, которой он владел, — конкистадоры привезли ее с собой в Новый Свет из Европы.
Причудливо, непохоже одна на другую складывались судьбы географических легенд, различным было само их происхождение.
Разве можно сравнить источник вечной молодости и Эльдорадо? Однако некоторые из легенд, даже и возникшие в разное время, оказались очень сходными, они словно бы изготовлялись «по одному образцу».
Когда римляне разрушили Карфаген, многим его жителям, как утверждает легенда, удалось спастись. Карфагеняне были искусными мореплавателями. Ведь еще в конце VI века до нашей эры — это исторический факт — один из них, Ганнон, совершил воистину фантастическое по тем временам плавание вдоль западного побережья Африки, достигнув реки Сенегал. Вот на многих кораблях и ушли те из карфагенян, что остались живы, за Геркулесовы Столбы, чтобы спастись на одном из островов, лежащих в океане вдали от власти завоевателя — Рима...
Такова одна из легенд, она родилась еще в античные времена. Другая же возникла значительно позже. Согласно этой легенде, в IV веке нашей эры от берегов Ирландии отплыл в западном направлении вместе с группой своих учеников монах по имени Брандан, который позже был причислен к лику святых. Долгие дни корабль Брандана блуждал в океане и, наконец, бросил якорь у какого-то чудесного острова. Жизнь там была счастливой и беззаботной. Но тоска по покинутой родине все же заставила Брандана и его учеников многие годы спустя вернуться в Ирландию.
Легенда о счастливом острове Святого Брандана была известна почти во всех западноевропейских странах. Его существование не вызывало сомнений. Его даже рисовали на картах, нанося наугад к западу от Ирландии. Правда, местоположение призрачного острова менялось, по мере того как мореплаватели действительно открывали в северной половине Атлантического океана различные острова, совершенно непохожие на благословенную, счастливую, вечнозеленую землю. Но, твердо веря в то, что он будет найден, его упрямо продолжали искать, передвигая район поисков все дальше к югу. Наконец, когда исчезли всякие надежды, остров Святого Брандана навсегда исчез и с карт.
Не нашли нигде и острова, на котором будто бы спаслись и нашли новую родину тысячи жителей разрушенного Карфагена. Эти две легенды почти ничего не дали для географии, да и сами они вскоре оказались забытыми.
Но вот судьба еще одного благословенного острова, который тоже будто бы помещался где-то в Атлантике, оказалась более удачной. Хотя навсегда так и осталось загадкой, где и когда возникла легенда о нем, само имя-острова известно сегодня всем. Он назывался Бразил; подобно острову Святого Брандана, он тоже отодвигался от европейских берегов все дальше и дальше к юго-западу. Когда португальцы в начале XVI века впервые ступили на землю Южной Америки, они решили, что Счастливый остров наконец-то найден. Так и родилось название огромной португальской колонии, а ныне самой крупной страны на Южно-Американском континенте — Бразилии.
А легенда об острове семи городов очень схожа со всеми этими легендами о счастливых, благословенных землях, лежащих где-то неподалеку от Европы. Происхождение ее испано-португальское. Родилась она, скорее всего, в те времена, когда мавры разбили христиан в битве при Хересе и окончательно завоевали почти весь Пиренейский полуостров — на долгие века.
Как утверждает легенда, один архиепископ и шесть епископов бежали после разгрома христиан на отдаленный остров, где с течением времени основали семь городов. Эти города быстро достигли невиданного расцвета; там были дома, достигавшие в высоту шести-семи этажей, там жили счастливые, радостные, богатые люди...
Из всех легенд о «счастливых», «блаженных» атлантических островах именно этой суждено было стать поводом для важнейших географических исследований и открытий. Правда, по другую сторону океана легенда слегка изменилась: искали уже не остров семи городов, а страну семи городов, страну, которая получила название Сивола.
Эрнандо Кортесу, знаменитому завоевателю самого могущественного государства Центральной Америки — страны ацтеков, и везло, и не везло. С горсткой солдат, пользуясь доверчивостью вождя ацтеков Монтесумы, он завоевал огромную страну вместе с ее столицей Теночтитланом (ныне Мехико) и захватил баснословную добычу. Но ведь любой успех рождает завистников самого различного ранга. Уже в первый год войны с ацтеками губернатор Кубы Диего Веласкес послал вслед за Кортесом большой отряд солдат во главе с офицером Панфило Нарваэсом (мы еще с ним встретимся), приказав захватить удачливого конкистадора и его людей живыми или мертвыми.
Но Кортесу повезло. Перед сражением он велел своим воинам надеть на себя как можно больше захваченных у ацтеков золотых украшений и таким образом смутить войско противника. Он своего добился. Люди Панфило Нарваэса сражались неохотно и с радостью перешли бы на сторону Кортеса, умеющего так хорошо обеспечивать своих солдат. Королевский отряд быстро сдался на милость победителя.
А через несколько дней Кортес приказал вернуть побежденным оружие и лошадей, чем расположил их к себе еще больше. Теперь они были готовы идти за Кортесом куда угодно. Немного позже удачливый конкистадор облагодетельствовал и самого Панфило Нарваэса: когда тот, проведя некоторое время в Мехико, пожелал вернуться на Кубу, Кортес великодушно отпустил его и даже обеспечил немалыми деньгами, необходимыми в дороге.
Потом Кортесу не повезло. Во время его похода в страну Гондурас, совершенного в 1524—1525 годах, отряду пришлось крайне тяжело. От тропической жары погибли десятки испанских солдат и сотни индейцев. Сам Кортес неимоверно страдал от приступов малярии.
А в Мехико появился в это время пущенный одним из недоброжелателей слух о том, что Кортес и все люди его отряда погибли. Тотчас же власть захватил один из бывших сподвижников завоевателя, человек трусливый и завистливый. Имущество участников похода было распродано, индейцы, принадлежавшие им перешли в другие руки. Тех, кто был искренне предан Кортесу, новый властелин заключил в тюрьмы.
И вновь Кортесу повезло. Один из его сторонников бежал из столицы и добрался до города Трухильо, основанного конкистадорами на юго-восточном берегу Гондурасского залива, где стоял в это время сильно поредевший отряд Кортеса. Выслушав рассказ о том, что происходит в Мехико, Кортес послал туда человека, которому полностью доверял. Проникнуть в город было нелегко, столица ацтеков была выстроена на острове посреди огромного озера, но посланцу удалось все-таки в нее проникнуть. В Мехико он тайно передал всем сторонникам Кортеса, что их предводитель жив.
Уже на следующее утро люди, преданные ему, захватили нового правителя города и посадили его в железную клетку. Тех, кто был на его стороне, перебили. Вскоре Кортес сам вернулся в Мехико.
Но ему опять не повезло. Пока он был в гондурасском походе, завистники направили сотни доносов в Испанию. Должно быть, и сам король, получив причитающуюся ему по закону пятую часть захваченных в Мексике сокровищ, не остался чужд зависти, ведь точно такая же пятая часть досталась и самому Кортесу, и кто знает, не было ли у него сокровищ лучше, чем те, что он прислал?
В Новую Испанию был назначен новый наместник.
И в это же время там появился еще один человек — знатный дворянин по имени Нуньо Гусман, ставший губернатором провинции Пануко, расположенной северо-восточнее Мехико.
Для того чтобы разобрать многочисленные доносы на Кортеса и «восстановить справедливость», король назначил «аудиенцию» — специальную судебно-административную коллегию. Председателем ее был назначен Нуньо Гусман.
Именно этому человеку суждено было вписать в историю испанских завоеваний в Новом Свете самые жестокие, самые мрачные страницы. Перед совершенными им злодеяниями меркнут любые другие; ни одного из конкистадоров нельзя сравнить с Нуньо Гусманом, его жестокость вызывала глухой ропот даже среди его ближайших подчиненных, людей, тоже не слишком отличавшихся милосердием и добротой.
На его совести десятки тысяч жизней индейцев. Во время его набегов на индейские селения их жителей, в том числе и детей, для забавы и удовольствия Гусмана рвали специально обученные этому собаки. Индейцев запирали в их хижинах и сжигали живьем. Но это — для забавы и устрашения непокорных. А для выгоды Нуньо Гусман тысячами продавал индейцев из захваченных им областей работорговцам с Антильских островов, получая немалые барыши. Алчность его поистине не знала rpa- i ниц. И, конечно, такой человек немедленно стал одним из самых злых завистников и врагов Эрнандо Кортеса.
Но в конце концов Кортесу все-таки опять повезло. Король милостиво простил ему все прегрешения, наградил богатыми поместьями, даровал завоевателю титул маркиза и «генерал-капитана Новой Испании и Южного моря».
В отличие от великого множества других конкистадоров Кортес вернулся в Испанию несметно богатым человеком; это произошло в 1540 году. Опять-таки, в отличие от многих других искателей счастья, ему было суждено дожить до старости и умереть своей смертью...
Однако нам пришла пора оставить Кортеса. Для поисков страны семи городов он сделал лишь то, что возбудил в Нуньо Гусмане безудержную зависть. Но, как оказалось, именно это и сыграло решающую роль для многих важных открытий.
Погубить Кортеса завистнику не удалось, несмотря на все усилия, несмотря на всю пристрастность «аудиенции», работой которой умело руководил Гусман. Значит, если не удалось его погубить, сослать, разорить, надо было добиться большего, чем он. Нужно было найти и завоевать страну, которая превзошла бы богатствами страну ацтеков Мексику.
К северу от Новой Испании лежали жаркие, безводные, пустынные земли. Туда редко заходили отряды испанцев, да и зачем? В пустыне нечем было поживиться, там не было селений, из которых можно было бы увести рабов. А что лежало еще дальше, севернее? Казалось, что этим пустынным, выжженным солнцем землям нет конца. Но где-то все же они должны кончаться?.. Так что же там — море, земля, острова?
Нуньо Гусман настойчиво расспрашивал индейцев. Впрочем, «расспрашивал»— это, конечно, совсем не то слово: по его приказу индейцев подвергали самым изощренным пыткам, чтобы заставить рассказать, какие страны расположены за пустынями? Индейцы не знали. Но искать новую золотую страну можно было только в этом направлении, на севере, потому что все окрестные земли уже были к этому времени достаточно хорошо разведаны...
Наверное, теперь уже никто не узнает, какого происхождения был тот рассказ, которого однажды все-таки добился Гусман. Возможно, индеец действительно знал какие-то неясные слухи о других северных странах, передаваемых от племени к племени, но, может быть, он просто все придумал, прекрасно зная, что дороже всего на свете этим ненавистным белым пришельцам. Этого индейца Гусман отпустил без пыток, своим чудесным рассказом он заслужил себе хоть такое вознаграждение. А рассказал он о том, что как раз на севере в сорока днях пути от Мехико, лежит страна, которая называется Сивола, и в ней есть семь больших городов. Каждый из них, по рассказу индейца, не уступал богатством и великолепием самому Мехико, на многих улицах этих городов были будто бы лавки мастеров золотых и серебряных дел. Там жили радостные, счастливые, богатые люди. И очень гостеприимные — каждого, кто приходил в их города, они щедро одаривали золотом...
Если эти семь городов были порождены исключительно фантазией индейца, ему повезло: названное им число совпало со старинной легендой, которую помнили европейцы.
Что за страна может лежать там, к северу?.. И Гусмана, словно молнией, пронзило озарением: да ведь это и есть те самые семь городов, которые основал некий архиепископ, спасавшийся от мавров! Значит, корабль с ним и шестью епископами добрался не до острова, а совершил куда более длинный путь через всю Атлантику. Значит, на самом деле страна семи городов находится здесь, на материке...
Похоже, что он, Нуньо Гусман, нашел, наконец, свою собственную золотую страну, которую ни с кем не надо будет делить! У Кортеса была Мексика и несметные сокровища ацтеков, у него будет страна Сивола, которая должна оказаться еще богаче. Правда, города основаны соотечественниками-христианами... Но ведь с тех пор прошло столько времени. Нет, совесть не будет мучать завоевателя!
В 1530 году, чуть позже, чем на Южно-Американском континенте впервые услышали об Эльдорадо, Нуньо Гусман снарядил экспедицию на поиски страны Сиволы. Его отряд насчитывал четыреста испанцев и несколько тысяч индейцев, служивших, как обычно, носильщиками снаряжения и провианта. Солдаты были хорошо вооружены и, как это всегда бывало, предводитель не сомневался в успехе своего предприятия.
Сорок дней пути? Пусть путь и тяжел, но конечная цель стоит всех мучений и тягот.
Однако экспедиция Нуньо Гусмана оказалась непродолжительной. Он вел свой отряд вдоль западных отрогов Мексиканского нагорья, направляясь на северо-запад, и с каждым днем жара становилась все более нестерпимой. Негде было пополнить запасы воды. В конце концов солдаты, дошедшие до отчаяния, стали резать своих лошадей и пить их кровь. Жара оказалась убийственной даже для выносливых индейцев. Они отказывались идти дальше, в раскаленное пекло пустыни, и напрасно Гусман угрожал им оружием — они предпочитали смерть мукам дальнейшего пути.
С огромным трудом отряд поднялся лишь до двадцать пятого градуса северной широты Впереди еще лежали дни и дни нестерпимой, убийственной дороги. Боги словно бы охраняли страну Сиволу от чужеземцев... Нуньо Гусман приказал повернуть назад. Но он и позже не оставил мысли добраться до благословенной и богатой страны семи городов. На обратном пути после своей первой неудачной экспедиции, находясь возле юго-восточного берега Калифорнийского залива (сам Гусман, правда, об этом и не подозревал), он заложил город Кульякан, который должен был стать отправным пунктом, базой для новых попыток...
Но теперь не везет уже самому Гусману. Его бессмысленные жестокости вызвали протесты и негодование даже самых преданных ему людей. Теперь на него самого идут доносы. Пока, правда, Гусмана еще не смещают с занимаемых им постов, но ко всему, что он делает, правительство относится с недоверием. О новой экспедиции на поиски Сиволы пока не может быть и речи. Да и существует ли вообще такая страна, если на пути к ней жара возрастает изо дня в день? Какие города могут быть в гаком пекле? Если они и есть, то там должны жить не люди, а какие-нибудь саламандры, легендарные существа, для которых огонь — родная стихия...
Проходят годы. Правительство Новой Испании не собирается организовывать новые экспедиции на север. Положение Гусмана становится все тяжелее. Правда, в 1536 году происходит событие, которое снова всколыхнуло веру в существование страны семи городов.
После восьмилетних скитаний в Новую Испанию вернулись люди, совершившие одно из самых замечательных путешествий того времени. Трое испанцев и мавр, слуга одного из них, волей судьбы, прошли без всякого снаряжения и припасов громадные расстояния как раз по тем землям, что лежали на севере. Рассказы их, пожалуй, могли служить подтверждением, что где-то там, в горах, действительно есть большие города.
Казалось бы, теперь Гусман должен был торжествовать и готовиться к новой экспедиции. Но как раз теперь его, наконец, смещают со всех постов, и определенную роль в этом сыграл, по иронии судьбы, как раз один из вернувшихся испанцев, по имени Кабеса де Вака.
Годы скитаний среди индейских племен научили этого человека гуманизму: он открыл в индейцах драгоценные человеческие черты, которые можно было бы встретить не у каждого европейца; он стал другом, горячим защитником индейцев. Столкновения Кабеса де Ваки с людьми Гусмана, творившими по его приказу жестокости, его протесты против них стали последней каплей, решившей судьбу самого жестокого из конкистадоров, ведь и у него было немало врагов, в том числе, разумеется, «генерал-капитан Новой Испании и Южного моря» Эрнандо Кортес.
Примечательный, незаурядный человек Кабеса де Вака вписал свое имя в особую графу истории географических открытий.
Путешествие, совершенное им, осталось единственным в своем роде.
...Сильный порыв ветра поднял громадную волну. Она обрушилась на утлое, сделанное из подручных средств и едва держащееся на плаву суденышко с такой силой, что гребцы выронили из рук весла и они мигом скрылись в кипящей воле. Суденышко осталось без управления. Следом шла другая волна, еще выше. Голодные, одетые в лохмотья, дрожащие от стужи люди с ужасом ждали ее удара.
Удар второй волны был страшен. Суденышко перевернулось, и все оказались в ледяной воде. Трое пытались спастись, уцепившись за борта, но суденышко накрыло их сверху и увлекло за собой под воду. Остальных море, бывшее здесь очень бурным, закрутило в волнах и наконец, будто внезапно сжалившись, выбросило на берег.
Собравшись все вместе, люди тесно прижались друг к другу и долго с ужасом смотрели, как волны, погубившие трех их товарищей, играют несколькими оставшимися на поверхности обломками корабля, на котором они надеялись добраться до мест, населенных европейцами. Теперь их самих, по всей вероятности, ждала близкая смерть.
Вместе с судном погибли жалкие остатки провианта. Люди даже не могли развести костер и обогреться — у них не осталось ни кремня, ни трута. Было очень холодно, ледяной ветер, казалось, все набирал силу, готовясь снести все, что было у него на пути...
Так началась восьмилетняя одиссея Альвара Нуньеса Кабеса де Баки. Впрочем, как и у всякой, у его одиссеи тоже были предварительные события, которые и привели к ней...
В июне 1527 года из испанского порта Сан-Лукар-де-Барра-меда (за двадцать лет до этого именно отсюда отправился в первое кругосветное плавание Фернан Магеллан) вышли пять кораблей с войском в шестьсот человек. Этой флотилией командовал Панфило Нарваэс, тот самый незадачливый офицер, который когда-то был послан в Мексику, чтобы «живым или мертвым» доставить на Кубу Кортеса. Когда Нарваэс — с помощью великодушного победителя — вернулся на Кубу, откуда начал поход, его судили за то, что он потерпел поражение, но оправдали. Затем Нарваэс появился в Испании, и здесь король милостиво пожаловал его титулом аделантадо — первооткрывателя и правителя земель, которые еще не найдены. Вместе с тем Нарваэс был назначен и губернатором Флориды.
Флорида — все та же самая Флорида, так и не покоренная со времен Понсе де Леона, — и была целью похода, начатого Нарваэсом. Кабеса де Вака, отличившийся в нескольких войнах, которые никогда не прекращались в Старом Свете, бывший начальник гарнизона одного из завоеванных Испанией итальянских городов, бывший чиновник на службе у герцога Медины Седонии, был назначен в экспедицию Нарваэса казначеем, а одновременно — и королевским прокурором в будущей провинции Флорида.
Но, надо полагать, и в самом деле большим неудачником был Панфило Нарваэс, если и в этом походе его с самого же начала стали преследовать неудачи.
Еще до прихода на Кубу погибли в буре два корабля. И хотя высадка экспедиции на те самые берега, которые когда-то так очаровывали искателя родника вечной молодости Понсе де Леона и стали для него роковыми, прошла благополучно, впереди уже ждали новые злоключения.
Правда, вооруженных столкновений между пришельцами и местными жителями в этот раз почти не было: испанцы вели себя мирно. Но сразу же выяснилось, что Нарваэс не продумал ход будущей экспедиции заранее, и это привело к самым роковым последствиям.
Прежде всего конкистадоры тут же попали под власть золотого призрака. В одной из индейских деревень — жители ее ушли, завидев белых пришельцев, — испанцы нашли в рыбачьих сетях погремушку из драгоценного металла. И, забыв обо всем, Нарваэс отдал приказ немедленно идти в глубь страны на поиски золота.
Но путь занял много дней, а золота все не было и не было. Может быть, индейцы нарочно указывали неверный путь, чтобы только избавиться от незваных пришельцев? Наконец, и сам Нарваэс начинает понимать всю бессмысленность такого похода и приказывает вернуться на побережье.
Однако на побережье выясняется, что на корабли рассчитывать не приходится. Нарваэс, понадеявшись на полный успех своего похода, отправил их искать удобную гавань и не торопил с возвращением. Тогда участники экспедиции стали строить из подручных средств несколько огромных парусных лодок, на которых можно было бы плыть вдоль побережья за кораблями.
Лодки были построены. Но ни одной из них так и не удалось проделать свой путь благополучно. В штормах и сумерках они теряли друг друга из вида, потом вновь оказывались одна под-vie другой и наконец разделились окончательно. Некоторое время лодка, в которой находился Кабеса де Вака, плыла рядом с другой. Но налетевший шторм перевернул вторую лодку, и все, кто был в ней, погибли. Такая же судьба, вероятно, постигла и три других лодки; позже Кабеса де Вака и те, что плыли с ним, находили на берегу их обломки. Встретились они и с людьми, которые плыли на одной из них.
Лодка, в которой плыл Кабеса де Вака, еще могла продолжать путь, иногда испанцы высаживались на берег, чтобы пополнить запасы продовольствия. Приближалась зима, они начали жестоко страдать от холода и ветра. И, наконец, после лной из стоянок, когда они только отчалили от берега, налетевший внезапно шторм разбил утлое суденышко в щепы, и есколько чудом уцелевших людей остались на берегу без всяких припасов, не зная даже толком, куда надо идти, чтобы достичь мест, освоенных европейцами. Наверное, и сам Кабеса де Вака, человек твердый, мужественный, думал все-таки в эти мгновения о близкой смерти от голода, холода, отчаяния.
Нет, ему и еще троим спутникам была суждена совсем другая участь, хотя и не пришлось избегнуть отчаяния, голода и холода. Им предстояло пройти невероятные расстояния, скитаясь по непроходимым лесам, пустыням, поднимаясь в горы, пересекая бескрайние равнины прерий, наблюдая животных, каких не знал до них еще ни один европеец, — они первыми, например, увидели американского бизона.
Это путешествие не было похоже ни на одно другое. Хотя бы потому, что и путешествием в точном смысле этого союза странствия де Ваки никак не назовешь. Они не знали, куда идут, не представляли, куда в конце концов выйдут. Они просто жили все эти восемь лет, переходя от одного индейского племени к другому. Они сами были уже не пришельцами в этом чужом для европейцев мире, а частичкой его.
Европейцев, которые уцелели после кораблекрушения, оставалось все меньше. Они погибали от голода и лишений, потому что и индейские племена вели трудную, полуголодную жизнь и не всегда могли помочь белым людям. Если испанцы хотели выжить, им предстояло научиться тому, о чем раньше они не имели никакого представления. И Кабеса де Вака, например, переняв приемы индейских знахарей, научился врачевать больных, причем искусство его совершенствовалось, и вместе с ним росла его известность среди индейских племен. А до этого, чтобы иметь возможность доставать для себя и своих спутников хоть какие-то продукты у индейцев, которые и сами в ту пору страдали от голода, он стал бродячим торговцем. Он хорошо изучил «спрос и предложение» различных племен и, беря то, что не представляло ценность для одних, например, морские камни, доставлял их в глубь материка, «продавая» индейцам, которые никогда не видели моря.
Длинный, причудливый путь ожидал де Баку и трех других людей — Андрео Дорантеса, Алонсо дель Кастильо и мавра, слугу Дорантеса, Эстеванико. Они в конце концов остались единственными, кто уцелел после злосчастной экспедиции во Флориду. Позже, основываясь на записках, которые оставил де Вака, ученые восстановили его приблизительный маршрут. Он прошел по территории современных американских штатов Техас, Нью-Мексико, Аризона. Путешественники пересекли десятки больших и малых рек, вероятно, не раз переходили через реки Западной Сьерры-Мадре.
И еще один путь прошел за эти восемь лет Кабеса де Вака, несостоявшийся прокурор провинции Флорида.
Знакомство с самыми различными индейскими племенами научило его тому, что индейцы — это точно такие же люди, как и белые, наделенные теми же чувствами, что и белые, в том числе и добром и состраданием. Он столкнулся с этим уже в первые дни своего удивительного и беспримерного путешествия. Когда лодка, построенная испанцами из подручных средств, перевернулась и погибла, дрожащие от холода, дошедшие до отчаяния люди ждали на берегу смерти. Здесь-то, и выяснилось, что индейцы, эти дикари, способны на жалость и сочувствие. Вот что написал де Вака об этих минутах позже:
«Индейцы, узнав о неудаче, которая нас постигла, и о нашем бедственном положении, сели с нами, и от горя и жалости, что им привелось увидеть нас в подобном несчастье, все они разрыдались. Они плакали от всего сердца и так сильно, что их можно было слышать издалека, и длилось это более получаса; а то, что эти люди, такие неразумные, дикие и грубые, так из-за нас сокрушались, заставило меня и всех нас страдать еще больше и глубже понять и почувствовать наше горе...»
И не раз и не два Кабеса де Ваке и трем его спутникам приходилось потом убеждаться в том, что индейцы — это самые обыкновенные люди, которые за добро платят добром. И вот ведь какой красноречивый факт: кбгда четверо путешественнлков, проведя на индейских землях восемь лет, пройдя громадный путь от юго-восточного края Северной Америки до северо-западного кон- . ца, От Флориды к Калифорнийскому заливу, встретились наконец с отрядом своих соотечественников, индейцы отказались поверить, что де Вака и его спутники такие же христиане, как и капитан Алькарас, возглавлявший отряд, и его солдаты. «Мы пришли с восхода солнца, а эти христиане — с заката, и мы исцеляли больных, а эти христиане убивали здоровых; мы пришли нагие и босые, эти же христиане одетые, на лошадях и с копьями; у нас не было никакой алчности к вещам, и даже то, что нам давали, мы потом возвращали индейцам обратно, а сами оставались ни с чем, эти же христиане не имели другой цели, как грабить все, что увидят, и никогда ничего никому не давали...»
Капитан Алькарас был одним из подчиненных Нуньо Гусмана, человеком, похожим на него.
Одиссея Кабеса де Ваки и его спутников, казалось бы, закончилась. Но нет, его ждали и другие испытания.
Встреча путешественников с отрядом Алькараса произошла неподалеку от Кульякана — города, основанного Гусманом в качестве опорного пункта для новых экспедиций на север. Капитан отправился в индейские селения — они лежали в стороне от каменистых пустынь, по которым шел когда-то путь экспедиции, искавшей страну Сиволу,— для того, чтобы захватить рабов. И Кабеса де Вака сделал все возможное, чтобы спасти индейцев: он велел им поставить в своих селениях кресты и начать строить церкви, он уговаривал индейцев креститься, становиться католиками, полагая, что это остановит жестокости... Он и открыто заступался за них, и, надо думать, нелегко ему было останавливать разъяренных, жаждущих живой добычи солдат, своих соотечественников.
Наконец, Кабеса де Вака, Андрео Дорантес, Алонсо дель Кастильо и мавр Эстеванико добрались до Мехико. Их возвращение вызвало настоящую сенсацию. Давно уже и думать забыли о злополучной экспедиции неудачника Панфило Нарваэса, и вот, оказывается, четверо ее участников пережили приключения, каких никто не испытывал прежде, и остались живы. Любопытные все снова и снова требовали рассказов о том, что происходило за восемь лет непрерывных скитаний. И почти каждый задавал один вопрос: видели ли они там, в дальних землях, чудесную страну Сиволу и семь ее городов?
Нет, путешественники ничего не могли сказать об этой стране. Но все-таки в их рассказах было то, чего ждал, наверное, каждый. В одном из племен Кабеса де Ваке и его спутникам подарили пять наконечников для стрел, «сделанные из изумрудов». С такими наконечниками, конечно, нельзя было охотиться, они были просто тонкой работы изделиями. Когда Кабеса де Вака спросил, откуда взяты такие красивые камни, индейцы ответили, что они принесены с очень высоких гор, расположенных на севере; они были выменены на хохолки и перья попугаев у жителей, которые живут в горных селениях. Эти селения как будто бы очень многолюдны, и там есть очень большие дома...
Эти сведения неопределенны, туманны. Но в Новой Испании мгновенно вновь ожил интерес к стране Сиволе и загадочным семи городам. Почти сразу же началась подготовка к новой большой экспедиции — именно ей и суждено было сделать целый ряд важных географических открытий в Северной Америке. В походах на поиски Сиволы принял участие и мавр Эстеванико, один из четырех путешественников, прошедших от Флориды почти через весь континент.
А сам Кабеса де Вака? Нет, он не был в числе тех, кого его слова вновь увлекли на поиски страны семи городов. Человека, доказавшего историей своего путешествия, что даже в самые мрачные, самые кровавые времена конкисты находились те, что были способны на добро ждала другая судьба.
Кабеса де Ваке было суждено порадоваться тому, что снят со своих постов Нуньо Гусман. В немалой степени этому способствовал и правдивый отчет де В.аки, посланный им испанскому королю, о деятельности Нуньо Гусмана, плоды которой он видел своими глазами. Ему суждено было стать губернатором Ла-Платы в «серебряной» стране Аргентине. Потом — вот уж воистину причудливы и удивительны были судьбы людей в ту бурную эпоху — он был в кандалах отправлен в Испанию, обвиненный в измене: подчиненное ему войско возмутилось твердыми мерами, которыми он наводил в городе порядок. Но его оправдали и освободили, потом снова судили и сослали на восемь лет — удивительное совпадение, необыкновенное его путешествие тоже продолжалось восемь лет — в Северную Африку. Правда, вскоре его досрочно освободили опять и предложили крупный судейский пост в Севилье... Мы почти ничего не знаем о последних годах его жизни, даже дата смерти — 1564 год — вызывает у исследователей споры.
Но многие ли из тех конкистадоров, чьи биографии известны в мельчайших деталях, прожили жизнь так же достойно, как этот человек?..
А поиски страны Сиволы после путешествия де Ваки продолжались.
Сначала на север была послана разведывательная экспедиция, ее возглавил монах Марко де Ниса, который вышел из Кульякана вместе с мавром Эстеванико. Их сопровождали индейские проводники. Шел 1539 год.
Когда экспедиция пересекла реку Хила — левый приток не открытой тогда еще Колорадо, — путешественники разделились. Поскольку Эстеванико чувствовал себя в этих местах, по его собственным словам, как дома, с несколькими индейцами он отправился вперед на разведку. Монах со своими спутниками продвигался медленнее, расспрашивая в индейских селениях о том, есть ли впереди большие города. Индейцы отвечали, что где-то неподалеку есть «селения с большими домами». Конечно, речь шла о стране Сиволе.
А между тем Эстеванико в недобрый для себя час уже действительно достиг города. Об этом сообщил Марко де Нисе один из индейцев, спутников разведчика, поспешно вернувшихся назад. Индейцы были перепуганы: жители не хотели, чтобы Эстеванико вошел в город и загораживали ему путь, но Он не послушался запрета и был убит. (Заметим, что дело здесь было, по всей вероятности, вовсе не в кровожадности индейцев, а в том, что Эстеванико — человек, далеко не столь тонкий и умный, как Кабеса де Вака, — нарушил какой-то вековой обычай этого племени.)
Но святой отец Марко де Ниса оказался человеком далеко не робкого десятка (как выяснилось позже, и воображением он был наделен побогаче, чем многие другие люди). Он решил продолжить путь, чтобы увидеть город, где погиб Эстеванико, своими глазами.
И он достиг своей цели.
Правда, войти в город он не решился. Он остановился на небольшом холме неподалеку и долгое время смотрел в ту сторону, где посреди широкой равнины раскинулся один из тех, несомненно городов, что были основаны когда-то архиепископом и шестью епископами бежавшими от мавров, уничтожавших христиан.
Потом Марко де Ниса отдал своим индейцам распоряжение насыпать у его ног груду камней и водрузить над ней деревянный крест. Так, в полном соответствии с буквой закона, страна Сивола была присоединена ко всем другим испанским владениям Новом Свете. Теперь можно было повернуть обратно. В пути Мако де Ниса думал о том, как ему надлежит составить отчет о своем путешествии.
«Насколько можно было разобраться с того холма, на котором мы находились, поселение это больше, чем город Мехико... мне представляется, что это самый большой и наилучший город изо всех тех, которые были открыты до сих пор...» Так описывал увиденный им город святой отец Марко де Ниса в отчете вице-королю Мексики. Но ведь Мехико — это прекрасный город, полный возведенными ацтеками красивых домов, храмов, чудесный, полный солнца, играющий красками город! Значит, в Сиволе города еще больше и лучше?..
Теперь, собственно, и началась эта экспедиция, которой предстояло в значительной мере стереть с карты Северной Америки громадное белое пятно, — одна из самых крупных экспедиций, какие только предпринимали когда-либо испанцы в Новом Свете. Ее возглавил Франсиско Васкес Коронадо, тридцатилетний боевой офицер, комендант Кульякана. Под его началом была тысяча человек, а вдобавок экспедиция располагала и тремя судами, которые двигались на север вдоль восточного берега Калифорнийского залива; на судах были запасы продовольствия и снаряжения для сухопутного отряда.
Сухопутный отряд вышел на поиски Сиволы весной 1540 года. Сначала его маршрут лежал вдоль узкой приморской низменности. Потом Коронадо взял направление прямо на север, чтобы обойти каменистую пустыню Хилу, которая когда-то преградила путь Нуньо Гусману.
Отряд прошел через не очень высокие горы, поросшие соснами, потом путь лежал по покрытым высокими травами равнинам, встречались на пути и горные ущелья, и небольшие пустыни. Весь этот путь солдаты проделали пешком, каждый нес на себе свой личный запас продуктов, на лошадях было навьючено оружие и снаряжение. Дорога оказалась нелегкой, но зато отряд все ближе подходил к тому месту, где, судя по отчету святого отца Марко де Нисы, стоял город, прекраснее, чем Мехико.
И наконец именно в том месте, что было указано в отчете монаха-путешественника, наделенного, видимо, непомерным воображением, конкистадоры тоже увидели город.
Он был построен на уступах скалы, крыши нижних домов нередко оказывались на одном уровне с полом верхних. Дома были построены из камня и глины, цвет их был серым. Город был похож на пчелиные соты, только слепленные неумело и грубо.
Испанцы безо всякого труда взяли город штурмом и выгнали из него индейцев.
Разочарование, которое постигло Коронадо и его солдат, вряд ли поддается описанию. Конкистадоры, как правило, всегда были разочарованы: какой бы ни оказывалась добыча, они всегда ждали еще большего. Здесь же вообще не приходилось рассчитывать на добычу. На индейцах не было золотых украшений, они были одеты в хлопчатобумажные ткани и звериные шкуры, не имеющие никакой ценности. В их жалких домах не было ничего достойного внимания. Даже сама местность вокруг этого злосчастного города была холодной и унылой; на каменистых песчаных почвах почти ничего не росло. И попадись вот в такой-то момент незадачливый монах-разведчик, так непомерно, сверх всяких уж приличий приукрасивший свои подлинные наблюдения, под руку распаленным неудачей солдатам, они бы, по всей вероятности, не посмотрели и на его святой сан...
Однако — так это бывало почти всегда во время завоевательных походов — разочарование только еще сильнее разожгло аппетиты. И хотя за захваченным городом так и закрепляется это название Сивола, солдаты и сам Коронадо с надеждой уже смотрят на горную цепь на северо-западе. Наверное, подлинная, благословенная и богатая Сивола и скрывается в этих горах? Но прежде чем продолжить поход, Коронадо, как опытный предводитель, выслал два разведывательных отряда. Одним командовал капитан Карденас, другим — капитан Харамильо. Один ушел на северо-запад, другой — на восток.
Капитану Карденасу и его людям предстояло первыми из европейцев увидеть зрелище редкостной красоты.
Местность на пути отряда была каменистой, понемногу испанцы поднимались все выше. Теперь приходилось выбирать путь, лавируя среди скал. Тропка становилась все уже, солдаты растянулись цепочкой. Потом солдат, идущий впереди, вдруг резко остановился и закричал. Его поспешно догнали остальные: они едва уместились на крошечной площадке среди скал. И тогда все застыли в каком-то странном оцепенении, вглядываясь в то, что вдруг открылось перед ними словно чудо...
Здесь заканчивались скалы, заканчивались камни, заканчивалась тропа. Впереди не было ничего, только воздух, вдруг изменивший свой цвет и ставший густо-синим.
Вниз уходило ущелье... нет, не ущелье — невообразимых размеров пропасть. Сначала казалось, что не видно даже ее дна, но потом все-таки его удалось разглядеть. Внизу вздыбленная земля, перемешанная с камнями, образовывала самые причудливые формы. Там были пласты земли, похожие на дома, храмы, замки. И где-то между ними вилась еле видная, поблескивавшая ртутью ниточка реки. Краски же земли на дне пропасти были самыми разными; это была удивительная, ни с чем не сравнимая палитра...
Вот каким увидели капитан Карденас и его люди одно из природных чудес света — Большой каньон, ставший в наше время прославленным туристским объектом. Тонкая ниточка воды на его не была полноводной и стремительной рекой Колорадо, которая создала это природное чудо за миллионы лет, постепенно размывая горные породы и опускаясь все ниже и ниже.
Испанцы бродили вдоль обрыва несколько дней, тщетно выискивая путь, которым можно было бы спуститься на дно этого величайшего ущелья, чтобы переправиться через реку и подняться на другую сторону. Потом они повернули обратно, так и не спустившись вниз.
(В это время между тем на этой же реке, только значительно ниже по течению, людей Коронадо ждали корабли Эрнана Аларкона, возглавившего морской отряд экспедиции. Этому человеку тоже посчастливилось внести свою долю и свое имя в историю географических открытий: именно он открыл устье реки Колорадо и довольно далеко поднялся на лодке вверх по ее течению. Было сделано и еще одно открытие: Аларкон установил, что Калифорния — это не остров, как предполагали прежде, а полуостров... Но начальника экспедиции и его сухопутный отряд Аларкону так и не суждено было дождаться. Проведя положенное время возле устья Колорадо, он повел свои корабли домой.)
Отряд Харамильо, вышедший из Сиволы на восток, тоже сделал важное открытие, пусть внешне оно и не было столь же величественным и грандиозным, как Большой каньон. Через два-три дня пути Харамильо вышел на большую реку, которая, как он определил, текла на юг. До этого же все реки, попадавшиеся на пути отряда, неизменно текли на запад.
Это была река Рио-Гранде, впадающая в Мексиканский залив; Харамильо открыл водораздел между ней и восточными притоками Колорадо.
В сторону Рио-Гранде и двинулся весь отряд Коронадо, когда в Сиволу вернулись разведчики. Путь, открытый Харамильо, показался Коронадо предпочтительней, ведь через каньон нельзя было перебраться..
И вновь, казалось бы, они были на верном пути и приближались к очень богатой стране. Когда отряд вышел к реке Пекос, притоку Рио-Гранде, воображение конкистадоров подстегнул рассказ одного из индейцев, немало постранствовавшего по континенту. Этот индеец был родом из Флориды, но его захватило в плен одно из соседних племен; он долго скитался, пока, наконец, не оказался здесь. Как он рассказывал, к востоку лежала большая, необъятной ширины река, где водятся рыбы величиной с коня. Берега реки будто бы густо заселены, по ней плавали не обычные туземные лодки, а настоящие корабли с двадцатью — тридцатью гребцами. Самым же интересным для испанцев оказалось в рассказе то, что жители побережий реки пользовались посудой, сделанной только из золота и серебра, и что носы всех этих больших лодок, плавающих по реке, украшали сделанные из золота большие фигуры орлов...
Река, о которой рассказывал индеец, была Миссисипи; все же остальное явилось плодом его фантазии. Вот уж поистине в истории страны семи городов один фантазер словно бы соперничал с другим, чей вымысел окажется самым искусным! Но Коро-надо, перезимовав в одном из селений на берегу Пекоса и пополнив запасы продовольствия, без раздумий двинулся на восток. Его не смущало то, что, если поверить тому же индейцу, путь должен был занять много дней. Солдаты тоже горели желанием продолжить поиски страны Сиволы, которая, словно мираж, отступала все дальше и дальше. Они не поверили бы, в это просто нельзя было поверить, если б кто-то сказал им, что Си-вола и есть самый настоящий мираж, легенда, причудливо вобравшая в себя обрывки подлинных сведений о городах, напоминающих пчелиные соты, древних преданий, возникших еще в Европе, и подсвеченная призрачным золотым сиянием, которое с такой готовностью освещало путь любой экспедиции в Новом Свете.

Потянулись долгие дни пути по местам, где до них не был еще ни один европеец.
В апреле 1541 года Коронадо и его люди оказались среди бескрайних равнин, где паслись огромные стада крупных темно-бурых животных, отдаленно напоминающих европейских быков. Так второй раз после Кабеса де Ваки европейцы увидели бизонов. Но больших городов не было и здесь. Месяц спустя экспедиция пересекла реку Арканзас, позже на ее пути встала еще одна река — Канзас...
Теперь люди, искавшие страну Сиволу, оказались в прекрасном, благодатном крае. Здесь росли чудесные деревья, среди ослепительно зеленых лугов струились полноводные реки, всегда стояли чудесные, солнечные дни. Казалось, этот край только и ждет земледельца, чтобы порадовать его самыми чудесными дарами, чтобы сторицей вернуть то, что будет посеяно на полях под этим ласковым солнцем. Солдаты блаженствовали в этой счастливой, благословенной стране — здесь легким казался любой переход. Среди этих чудесных деревьев, рек и лугов можно было, наверное, жить так счастливо...
Сохранилось немало документальных свидетельств участников похода, позже, после возвращения экспедиции, описывавших эти благословенные места. Капитан Харамильо, глава одного из Двух разведывательных походов, открывший водораздел между рекой Рио-Гранде и восточными притоками Колорадо, утверждал, например, что нигде и никогда не встречал подобных красот, а ему довелось до этого побывать не только в Испании, но и во Франции и в Италии. А простые солдаты, многим из которых знакам был крестьянский труд, позже говорили о том, что здесь можно было бы выращивать любые из знакомых им злаков, овощей и фруктов. И, наверное, если б только дать им волю, многие из солдат действительно остались бы здесь, променяв беспокойную, полную тревог и опасностей жизнь завоевателя на мирный и «покойный труд под сенью этих прекрасных деревьев, среди чудесных зеленых лугов. И, может быть, и годы спустя, вспоминая снова и снова дни похода на поиски страны Сиволы, они жалели о том, что так и не сменили солдатский меч на серп и плуг крестьянина, не остались там навсегда...
Но и в этой стране не было главного — золота!
Даже вожди местных индейских племен носили вместо золота украшения из меди, не представляющие никакой ценности. Не было у индейцев и никаких других ценных вещей. Впрочем, эта страна не могла быть Сиволой и по другой причине: здесь тоже не было никаких городов.
Сотни, может быть, тысячи раз во время испанских походов в Новом Свете повторялось одно и тоже: предводитель приказывал повернуть, признавая тем самым, что надежды на удачу больше нет. Пришел день, когда такой же приказ с тяжелым сердцем отдал и Франсиско Васкес Коронадо.
Приближалась осень, не за горами была к зима. Отряд уже пережил одну зимовку, но вторая неминуемо измотала бы солдат, и весной у них уже не хватило бы сил продолжать поиски.
Но все-таки, наверное, Коронадо еще не потерял надежду: к Скалистым горам, через которые нужно было перевалить, чтобы вернуться домой, он пошел другим путем, взяв немного севернее.
Здесь, однако, стало совсем безлюдно, не было не только городов, даже индейские деревушки перестали попадаться на пути. Зато часто стало встречаться другое: соляные озера, берега которых блестели из-за выступившей соли призрачным серебряным светом. Это было словно насмешкой: сначала растаял призрачный золотой свет, который около двух лет вел экспедицию столь'длинным путем, и сменился серебряным светом, а серебро на самом деле оказалось обыкновенной солью...
Спустя недели пути испанцы снова прошли через злополучную бедную Сиволу — город, похожий на неуклюже слепленные пчелиные соты. Неподалеку от него, на холме, укрепленный в камнях, все еще стоял деревянный крест, тоже в насмешку напоминающий о том, каким ценным приобретением пополнились — за счет Сиволы — владения Испании в Новом Свете. И, может быть, проезжая мимо креста, возвращаясь в Кульякан, Франсиско Ваекес Коронадо думал о том, что впереди его скорее всего ждет стойкая репутация неудачника, возможно, немилость из-за того, что поход, так много обещавший и идею которого он столь горячо поддерживал, оказался столь плачевно неудачным.
Если было так, он не ошибся. Он никогда больше не стоял во главе экспедиций, к нему прочно пристала злая слава неудачника. Существует даже версия — правда, у историков нет на этот счет единого мнения, — что его действительно ожидала опала и отрешение от всех должностей.
Это — впереди...
А позади, за спиной, этого простого, ничем вроде бы не примечательного офицера уже остался один из самых великих походов в Северной Америке, пусть и совершенный вслед за золотой приманкой, которых достаточно было в те времена. За его спиной уже остались принадлежащие ему открытия крупнейших рек, горных цепей, Большого каньона, необъятных прерий, по которым до него не ходил ни один европеец. Никакой из походов на поиски другой легендарной страны — Эльдорадо — не давал столь же обширного географического материала. И если сегодня мы вспоминаем имя Франсиско Васкеса Коронадо, то прежде всего потому, что это он впервые прошел по громадному белому пятну, занимавшему в ту пору едва ли не всю карту Северной Америки, показав, как обширна эта земля, и проложив дорогу другим людям.

Земля стала очень большой, и вместе с тем ее размеры как-то странно уменьшились Большой, потому что за десятилетия, что прошли после первого плавания Колумба, за океаном были открыты столь обширные земли, что на них сотни, если не тысячи раз можно было бы уложить иные из европейских стран Но вместе с тем земной шар словно бы уменьшился, ведь теперь моряков не пугали и самые дальние путешествия, все теперь казалось достижимым
Уже ушло в историю кругосветное плавание, начатое в 1519 году португальцем на испанской службе Фернаном Магелланом и завершенное три года спустя капитаном одного из его судов Хуаном-Себастьяном Эль-Кано Бескрайние просторы трех океанов, некогда — это даже представить трудно — совершенно пустынные, теперь несли на себе множество больших, и малых кораблей, двигавшихся в самых разных направлениях. Уже были проложены самые удобные, самые выгодные морские дороги — из Старого Света в Новый, от Северной Америки к Южной, от Америки через Тихий океан к «островам пряностей», — и теперь капитан судна, идущего, например, из Испании в Венесуэлу, полагал самым обычным делом, если за день он насчитывал до десятка встречных кораблей под самыми разными флагами. Моря и океаны еще совсем недавно столь грозные, смертельно опасные, кажется окончательно покорились человеку, который научился не бояться их и строил все более совершенные корабли Шла вторая половина XVI века...
Вот к этому времени и относится начало поисков громадной земли, будто бы не уступающей размерами всему Новому Свету.
В том, что еще один гигантский материк действительно существует, не было никаких сомнений Древние географы, предсказавшие его существование, были, конечно, совершенно правы: если столь значительные массы суши, как Европа и Азия, располагаются большей частью в северном полушарии, значит, для равновесия, в южном обязательно должна быть столь же обширная суша. К тому же, как считали в XVI веке, такая справедливая и очевидная мысль уже получила и несомненное подтверждение: одна часть новооткрытого материка — Северная Америка — лежит ведь в северном полушарии, а другая — Южная — расположена ниже экватора именно для того, чтобы уравновешивать ее.
Эта географическая легенда (пожалуй, ее можно назвать и географической гипотезой) просуществовала дольше, чем все другие, — от античных времен до XIX века. Она вызвала наибольшее число крупных экспедиций. И наконец, она стала единственной легендой, которая все-таки подтвердилась, пусть и не совсем так, как это представляли себе во второй половине XVI века, когда человек, научившийся не бояться морской стихии, решил, что теперь он может, наконец, отправляться на поиски.
Давайте посмотрим на какую-нибудь из древних карт мира, например на карту, составленную географом Ортелием в 1570 году...
Недрогнувшей рукой этот ученый муж нанес на нее громадную землю, занимающую чуть ли не все целиком южное полушарие. Огненная Земля, лежащая южнее Магелланова пролива,— это, по его мнению, один из выступов Южного материка. Значит, первооткрыватель его — Магеллан? Да, действительно, некоторые уже называли этот материк Магелланией. Но .. но он ведь не был еще открыт! Никто еще не доказал, что Огненная Земля — это и есть берег материка. Значит, надо продолжать его поиски и получить убедительные доказательства, что найден именно мате-РИК, а не какой-нибудь остров. Первооткрывателя же — истинного первооткрывателя — ждет слава не меньшая, чем слава Христофора Колумба!
Как тут не вспомнить судьбу другой легенды — об острове Святого Брандана, который, по мере его поисков, отступал на географических картах все дальше и дальше от тех мест, где-то не оказывалось. С Южным материком история повторилась. Он отодвигался на картах все дальше к югу, уменьшаясь попутно в размерах, пока, наконец, контуры этой гипотетической земли не совпали с контурами реально существующей Антарктиды, открытой русской экспедицией Ф, Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева на шлюпах «Мирный» и «Восток» в 1821 году.
От первой экспедиции испанца Альваро Менданьи де Нейры, начавшейся в 1567 году, до 1821 года — вот какими долгими оказались поиски. И здесь очень любопытно проследить, как менялись с течением времени цели, с какими искали эту загадочную Южную землю.

Вновь в путь сначала манил все тот же золотой ореол, который не давал покоя искателям Эльдорадо и страны семи городов. На любой неизвестной земле, как твердо верили в ту пору, должно быть золото, много золота. Вдобавок, для тяжелой, каторжной работы в огромных поместьях плантаторов Нового Света в серебряных рудниках, каких немало было на Тихоокеанском побережье Южной Америки, нужны были сильные, выносливые рабы — индейцы, по мнению завоевателей, были слишком слабосильны.
Но чем дальше к югу — в более холодные места — отодвигалась эта не найденная еще земля, тем призрачнее оказывались надежды на золото и рабов. Да и само время становилось другим: человек теперь уже часто шел вперед, привлеченный не только золотым сиянием, но еще и прекрасным и радостным желанием узнать свой мир как можно лучше, побывать там, где еще никто не был до него, установить научную стину. Человек менялся вместе со временем... И если поиски Южного материка начали путешественники-конкистадоры, то завершили их путешественники-ученые.
А история самих поисков складывается в рассказ, сюжет которого словно бы придуман автором изощренных детективных произведений. Здесь есть самые неожиданные повороты и неожиданные развязки, есть лжеоткрытия и заведомо лживые отчеты, есть первая в мире женщина-адмирал и есть, наконец, целеустремленность, стойкость и мужество. Согласно такому сюжету Южный материк открывали не однажды, но каждый раз выяснялось, что на самом деле открытия не было. Позже в его существовании усомнились. Потом решили, что его действительно нет, и, даже наконец когда его все-таки открыли, вокруг открытия долго не прекращались споры.
19 ноября 1567 года начинается долгая история поисков Южного материка. Но, как рассказывают, Альваро Менданья де Нейра, двадцатидвухлетний мореплаватель, возглавивший первую экспедицию, в этот день, в день своего отплытия из перуанского порта Кальяо, был обращен мыслями не в будущее, а в прошлое, вспоминая другого мореплавателя и представляя, как начиналась та, может быть, самая знаменитая в истории географии экспедиция...
Прелюдия ошибок...Утро 3 августа 1492 года было пасмурным, первые лучи солнца никак не могли пробиться сквозь густой туман. Потом туман стал все-таки рассеиваться, и солнце высветило наконец верхушки мачт «Санта-Марии», на одной из которых был поднят адмиральский флаг. Невысокий человек на капитанском мостике каравеллы как будто специально дожидался такого момента: он негромко отдал приказание стоящему рядом офицеру Офицер зычно выкрикнул приказ команде, и тотчас же зазвенела якорная цепь. Медленно, пока подчиняясь только течению, «Сан-та-Мария» двинулась вперед. Но свежий ветер уже натягивал развернутое полотно ее парусов. Впереди лежал немалый путь — из испанского порта Палое на запад, через Атлантический океан, к открытию, которое сделает имя невысокого человека на мостике, генуэзца на испанской службе, навеки прославленным...
Альваро Менданья тряхнул головой и отогнал призрачное видение прочь. Командиру двух кораблей не к лицу было в самый момент отплытия уноситься мыслями в далекое прошлое, пусть и в тот знаменитый день, когда началось великое плавание дона Христофора. Но все же... Все же Менданья не удержался и поделился пришедшей ему мыслью со старшим офицером, которы был и значительно старше его по возрасту. Колумб отправлялся на поиски Индии, а они — на поиски Южного материка. Если плавание будет удачным, день 19 ноября 1567 года будет в истории точно таким же значимым, как и 3 августа 1492 года. Кстати, они тоже плывут на запад и вышли в тот же предутренний час. А какой же из мореплавателей не верит в успех!
Туго натянутые паруса двух каравелл увлекали их все дальше и дальше в Тихий океан. Впереди ждали великие открытия.

В середине января 1568 года Менданья открыл небольшой коралловый остров, покрытый кокосовыми пальмами. Отсюда его корабли двинулись дальше на запад, и, наконец, 7 февраля 1568 года глава экспедиции увидел перед собой землю, отделенную от океана длинной полосой рифов.
Высоко к небу поднимались горы, покрытые прекрасным тропическим лесом. Солнце заливало лес потоками теплых лучей. В воздухе стоял птичий гомон, деревья ласково шелестели листвой... Конечно, это и должен быть Южный материк.
Менданья высадился на берег. В лесной чаще были селения, где жили темнокожие люди, говорившие на каком-то неизвестном языке. Язык был певучим, речь звучала словно музыка. Все в этой стране дышало благоденствием и счастьем. И вдруг Men-данью пронзило озарение: да ведь это не что иное, как сказочная и волшебная страна Офир, куда, как рассказывает библия, еще царь Соломон посылал корабли за золотом, чтобы украсить выстроенный им храм. Значит, страна Офир находится здесь, на Южном материке? Поистине, это было поразительным открытием!
Но нет, это был все-таки не материк. Менданья довольно быстро обошел на корабле вокруг всей этой земли. Значит, на самом деле он открыл остров. Рядом были и другие острова, большие и маленькие. Но, может быть, все-таки это именно да приходили корабли царя Соломона?
Так острова, открытые Менданьей, получили название Соломоновых островов.
Однако это и оказалось единственным открытием экспедиции, оторая, как мечтал Менданья, должна была стать не менее знаменитой, чем первая экспедиция Колумба. Продолжить поиски помешало сильное ненастье. Спасаясь от штормов, Менданья был даже вынужден подняться выше экватора. Экспедиция оказалась не очень счастливой: когда корабли возвращались в Новый Свет, многие матросы умерли от цинги и голода.
Да и не только в море не повезло Менданье — на родине, в Перу, тоже, Соломоновы острова правительство посчитало слишком незначительным открытием, оно не окупило затрат на экспедицию. И неудачнику Менданье, так завидовавшему, может быть, по молодости лет, Колумбу, пришлось отложить осуществление своей давней мечты — открыть Южный материк — почти на тридцать лет. Только в 1595 году ему доверили новую экспедицию, правда, словно бы в виде утешения, на этот раз более крупную: под его началом были четыре корабля.
Но теперь уже, наверное, слишком поздно: Альваро Менданья был к этому времени тяжело болен, для того, чтобы догнать в славе Колумба, ему уже могло не хватить сил.
Однако, как выяснилось в первые дни плавания, в составе экспедиции есть еще один человек, который тоже не прочь вписать свое имя в историю географических открытий. И с первых же дней фактическое руководство экспедицией перешло з руки Изабеллы де Баррето, властной и крутой женщине, жене Мен-даньи, без которой отныне не решался ни один вопрос. На кораблях тотчас же установилась железная, без малейших поблажек, дисциплина; женщина-адмирал, как позже назовут ее испанские историки, подчинила себе всех без исключения офицеров, матросы же боялись ее, словно огня.
Через три с половиной месяца после отплытия из Перу Менданья и женщина-адмирал сделали свое первое открытие. На горизонте испанцы увидели выступающую из океана горную вершину: то был один из Маркизских островов. Корабли подошли к берегу и скоро были окружены десятками пирог с островитянами. Местные жители были настроены дружелюбно, в знак мира они привезли с собой множество кокосовых орехов. Однако, когда испанцы пригласили их подняться на палубы, произошел неприятный инцидент. Островитяне с детским любопытством разглядывали любой из европейских предметов, какой только попадался им на глаза. То, что им особенно пришлось по вкусу, они никак не хотели отдавать. Какой-то из туземцев схватил бухту каната и дал понять, что хочет взять ее себе. Тогда женщина-адмирал приказала прогнать островитян с кораблей. Произошла стычка; увидев это, на палубы хотели подняться и другие островитяне. В ответ прогремел залп мушкетов...
Корабли, не задерживаясь больше у берега, поплыли дальше.
Вскоре последовало новое открытие: вулканические острова, которые Менданья назвал Санта-Крус. Они были очень похожи на те чудесные острова, что были открыты мореплавателем тридцать лет назад, однако горы на них были меньше, да и сами они значительно уступали в размерах островам Соломонова архипелага.
Но это было последнее из открытий, которые выпали на долю Альваро Менданьи де Нейры. Обострение тяжелой болезни приковало его к постели, он уже почти не выходил из каюты. Последние дни его жизни были омрачены: часть матросов подняла мятеж, и, быть может, не последнюю роль в этом сыграл вздорный и капризный нрав женщины, которая распоряжалась от имени мужа всеми и всем. Менданья успел еще казнить вожака мятежников, однако вскоре смерть настигла его самого.
Правда, и женщине-адмиралу, которая после смерти Менданьи «официально» провозгласила себя предводителем экспедиции, больше ничем не удалось прославить свое имя. Среди испанцев, все еще находящихся на одном из островов группы Санта-Крус, вспыхнула эпидемия чумы; продолжать экспедицию было невозможно, и корабли, которыми командовала Изабелла де Баррето, сначала ушли на Филиппины и наконец вернулись в Новый Свет Южный материк все еще не был открыт.
Впрочем, в теоретических воззрениях о том, где и как он должен быть расположен, кое-что уже изменилось. Англичанин Френсис Дрейк в промежутке между двумя плаваниями Менданьи совершил кругосветное путешествие — второе после кораблей Магеллана, - и после этого гипотетическая земля, уменьшившись размерах, впервые отодвинулась дальше к югу.
Но, справедливости ради, надо сказать о том, что Дрейк меньше всего думал о науке — главной целью был пиратский набег на тихоокеанские города испанских колоний в Новом Свете. Это предприятие, как и многие другие такого же рода, тайно Финансировала сама королева Елизавета I. Пять кораблей Дрейка флагманским судном была «Золотая лань» — отправились из Англии в 1577 году и летом 1578 года прошли Магеллановым проливом.
Стояло очень холодное время, команды английских судов страдали от стужи. Дрейк, выйдя в Тихий океан, спешил подняться на север, в теплые места. Но налетевший шторм задержал его на крайнем юге чуть ли не на два месяца. Позже Френсис Дрейк написал:
«Не успели мы выйти в это море (иными называемое Тихим, а для нас оказавшееся бешеным), как началась такая неистовая буря, какой мы еще не испытывали... мы не видели солнечного света, а ночью — ни луны, ни звезд; и эти потемки продолжались целых пятьдесят два дня, пока длилась буря. Невдалеке были видны по временам горы, и они вызывали ужас, потому что ветер гнал нас к ним на верную гибель; потом они скрывались от глаз... Мы потеряли наших товарищей».
Шторм разлучил корабли, которым больше не суждено было встретиться. «Золотая лань» была отнесена далеко к югу, и, когда шторм, наконец, закончился, Френсис Дрейк убедился в том, что Огненная Земля — это вовсе не часть огромной не известной еще суши, а архипелаг из крупных и мелких островов. Если Южный материк существует, то между ним и Огненной Землей лежит широкий пролив.
В XIX веке, после того как была открыта Антарктида, этот пролив получил имя пролива Дрейка.
Впрочем, это важное открытие осталось не единственным научным достижением экспедиции англичан. Дрейк во многом уточнил очертания тихоокеанских берегов Южной Америки. А сама его вторая в истории кругосветная экспедиция была завершена с беспримерной дерзостью.
Прежде всего Дрейк разграбил чилийский порт Вальпараисо. Потом «Золотая лань» двинулась дальше на север. Выше Южного тропика на побережье лежали порты, откуда испанцы отправляли в Панаму серебро богатых перуанских рудников. В этих широтах — и на море, и на суше — конкистадоры чувствовали себя в полной безопасности — ценные грузы отправлялись, как правило, без всякой охраны, — и Дрейк легко захватил несколько транспортных кораблей с серебряным грузом.
В порту Кальяо (отсюда началась первая экспедиция мореплавателя-неудачника Менданьи) стояли на рейде несколько десятков испанских судов. Но Дрейк, воспользовавшись темнотой, проскользнул мимо них и привел «Золотую лань» прямо в гавань. Всю ночь он стоял бок о бок с испанскими кораблями, прислушиваясь к громким разговорам моряков, беседовавших о грузах, которые только что ушли в Панаму. Груз одного из кораблей — золото, серебро, драгоценные камни — заинтересовал Дрейка особенно. Перед рассветом «Золотая лань» подняла паруса и, снова благополучно пройдя мимо испанских кораблей на рейде, устремилась в погоню. Когда корабль с ценным грузом был взят на абордаж и захвачен, англичане обнаружили добычу, которая превзошла всякие ожидания.
«Начался осмотр и подсчет, длившийся шесть дней, — рассказывал позже один из спутников Дрейка. — Мы нашли здесь драгоценные камни, тринадцать ящиков серебряной монеты, восемьдесят фунтов золота, двадцать шесть бочек нечеканеного серебра... В исходе шестого дня мы простились и расстались с хозяином судна: он, несколько облегченный, поспешил в Панаму, а мы — в открытое море...»

Добычи было вполне достаточно, и все-таки Дрейк разграбил еще несколько селений на мексиканском побережье. Налеты англичан были столь неожиданны и стремительны, что потом, когда «Золотая лань» уходила в море, испанцы не могли поверить, что на такую дерзость решился всего лишь один корабль, а не крупная эскадра. После последнего из набегов борта корабля Дрейка низко осели, настолько велика была тяжесть награбленного.
Теперь «Золотая лань» направилась к берегам Северной Америки; здесь неподалеку от залива Сан-Франциско Дрейк бросил якорь для ремонта корабля. Местные жители — калифорнийские индейцы — встретили англичан дружески. И Дрейк, склонный, как и другой знаменитый английский пират — Уолтер Рэли, к некоторой театральности, провел торжественную церемонию введения этих индейских земель во владение королевы Елизаветы.
Наконец, снова выйдя в путь, «Золотая лань» прошла через лабиринт Молуккских островов, пересекла Индийский океан и, обогнув мыс Доброй Надежды и пройдя через Атлантику, в сентябре 1580 года вернулась в английский порт Плимут.
Вклад Френсиса Дрейка в «дело» Южного материка оказался весьма важным. Его начали искать южнее, чем это делали до сих пор. Причем, не только искать, теперь его, случалось, и находили.
Женщина-адмирал Изабелла де Баррето больше на предпринимала морских походов. Но во второй экспедиции Менданьи участвовал и еще один человек, который тоже завидовал славе Колумба, — офицер Педро Фернандес Кирос. В 1605 году он сам возглавил экспедицию из трех кораблей, вышедшую в Тихий океан все из того же порта Кальяо. Сразу же он взял курс на юго-запад.
Первым открытием новой экспедиции стали несколько необитаемых островов из архипелага Туамоту. Дальше на западе Кирос открыл еще один остров, но так и не смог высадиться на его из-за многочисленных подводных рифов, среди которых нельзя было отыскать проход. Чтобы пополнить запасы продовольствия и воды, Кирос решил идти к Соломоновым островам, открытым Менданьей во время его первой экспедиции. Увы, он так и не смог найти их: все-таки навигационные средства в ту пору были несовершенны, и неудачник Менданья даже не сумел точно определить их координаты. (Заметим, что и после Кироса Соломоновы острова безуспешно искали многие морепла-' ватели, и прошло около века, прежде чем их вновь открыл французский мореплаватель Луи Антуан Бугенвиль.) Между тем экипажи кораблей Кироса уже жестоко страдали от жажды, появились больные... Наверное, в эти трудные дни прекрасные Соломоновы острова, столь восторженно описываемые Менданьей, казались несчастным морякам фантазией этого незадачливого последователя Колумба, решившего приписать себе открытия, каких он никогда не делал. Но все же, наконец, Кирос наткнулся на обитаемый островок — он относился к группе островов Дафф. Здесь глава экспедиции дал своим людям отдых На острове было вдоволь фруктов, кокосовых орехов, а чудесная прекрасная вода, наверное, казалась морякам самым прекрасным напитком на свете.
Кирос настойчиво расспрашивал местного вождя об окрестных островах. Как выяснилось, поблизости было много подобных же островков. Но дальше к югу лежала, по словам вождя, большая земля...
Три испанских коробля взяли курс прямо на юг.
Несколько дней спустя из-за горизонта выступила вершина высокой горы, потом, когда корабли подошли ближе, открылась и вся земля.
Ее высокий берег уходил далеко к юго-востоку, вдали, окутанные дымкой тумана, виднелись и другие горы. Конечно, как решил Кирос, это и был Южный материк.
Найдя удобную бухту, мореплаватель ввел в нее свои корабли, испанцы сошли на берег.
И тогда здесь, в который уже раз, повторилось то, что случалось всегда, когда испанцы ступали на неизвестную землю: прозвучали слова молитвы, был воздвигнут деревянный крест, и Кирос торжественно положил на предназначенное ему место первый камень будущего города, первого христианского города на Южном материке. Он получил звучное название — «Австралия Духа святого». Отсюда христианская вера должна была распространиться на всю эту обширную землю. Может быть, во время этой торжественной церемонии Кирос вспоминал о том, как когда-то впервые ступил на земли Нового Света великий Колумб, и сравнивал тот момент с этим...
А несколько недель спустя Кирос, бросив два других корабля, бежал. Он ни с кем не хотел делить честь великого открытия, даже с капитанами своих судов, он должен был немедленно сообщить о сделанном им величайшем открытии испанскому правительству и добиться всех прав наместника найденного материка.

Отчеты, составленные Киросом после того, как он прибыл в Испанию, показывают, что фантазия у этого человека была богатой. Он утверждал, например, что открытая им земля «составляет по меньшей мере пятую часть всей земной суши». «Есть два материка, — писал он, — отделенные от Европы, Азии и Африки; первый из них открыт Кристовалем Колоном; второй и последний на Земле — тот, который я видел и который я прошу исследовать и заселить с разрешения вашего величества».
Нет! Земля, которую открыл Кирос, оказалась вовсе не громадным материком, «занимающим пятую часть всей земной суши» На самом деле это был не очень большой архипелаг, который получил название Новые Гебриды. Сразу же после бегства новоявленного Колумба это доказал Луис Ваэс Торрес — капитан одного из покинутых Киросом кораблей. Пройдя вдоль побережья открытой земли, Торрес обогнул ее с юга и убедился, сколь самонадеянным оказался глава экспедиции, так легко принявший желаемое за действительное.
Теперь Торрес, решивший провести самостоятельные исследования, взял курс на северо-запад. Этому человеку тоже предстояло внести свое имя и свою строку в летопись поисков Южного материка. Он подошел к Новой Гвинее, открытой португальцами еще в первой половине XVI века. Как и Огненную Землю, Новую Гвинею некоторые картографы тоже считали одним из выступов громадного неисследованного материка. Но Торрес обогнул этот остров с юга точно так же, как обошел до этого Новые Гебриды Значит, картографы опять ошиблись!
Торрес продолжил свой путь вдоль южной оконечности Новой Гвинеи, направляясь теперь к Филиппинским островам. Насколько ему удалось разглядеть, на юге было несколько островов. Мореплаватель и не подозревал о том, что совсем рядом лежит еще один гигантский остров, который позже получит название Австралия и будет считаться еще одной частью света. На самом деле Торрес видел не какие-то неизвестные острова, а австралийский берег!
Пролив между Новой Гвинеей и Австралией носит на всех современных картах имя Торреса.
На экспедиции, которую начал Кирос и закончил Торрес, собственно, и закрывается «испанская страница» летописи поисков Южного материка. Испания все больше и больше уступала первенство на морях другим окрепшим государствам. Следующую страницу заполнили голландские моряки. Голландия, ставшая могущественным европейским государством, настойчиво искала собственные морские пути в южные моря, к сказочным островам, родине столь ценимых в Европе пряностей.
Как это ни странно, но освоение голландскими купцами дальних южных морей началось вовсе не с какого-либо удачного путешествия, а с удачного... тюремного заключения. Эта примечательная тюрьма находилась в Лиссабоне, столице Португалии.
Многие из «островов пряностей» по разделу мира, совершенному еще в 1494 году, принадлежали Португалии, и португальцы ревниво оберегали тайну морских дорог к ним. В строжайшем секрете держались их координаты, никто не знал, какими течениями пользовались корабли, идущие в южные моря, огибая мыс Доброй Надежды, какие ветры надо было ловить в свои паруса, а какие избегать...
Моряка-голландца, который попал в Лиссабонскую тюрьму за долги, звали Корнелис Хаутман. И так как общее несчастье сближает самых разных людей, стирая даже и вечную национальную рознь, то нет ничего удивительного, что Хаутман, отбывая назначенный срок, близко сошелся с другими моряками, которые тоже как-то нарушили закон, но, в отличие от голландца, пребывали в тюрьме своей родной страны. И, наверное, если б лиссабонские судьи знали заранее, что из этого получится, они бы вынесли Хаутману не тюремное заключение, а какой-нибудь другой приговор.
Друзья по несчастью не считали нужным скрывать в тюрьме то, что так ревниво хранится в тайне на свободе. От них-то и Узнал Хаутман все главные сведения — и примерные координаты счастливых южных островов, и направления главных морских течений.
При первом же удобном случае, через верных людей, голландец передал эти бесценные сведения на родину, хозяевам торговой компании «Общества дальних стран». И вскоре моряки-португальцы, которым так полюбился их коллега из Голландии, лишились его приятного общества: торговая компания, оценившая переданные сведения по достоинству, за огромную сумму выкупила Корнелиса Хаутмана из тюрьмы. Вскоре он уже стоял во главе голландской экспедиции, насчитывающей четыре корабля. Это было в 1595 году.
Корабли голландцев обошли Африку и вошли в Индийский океан. Здесь все по договору о разделе мира принадлежало Португалии, и Хаутман старался держаться подальше от португальских военных судов. Он шел вперед крайне осторожно, ощупью.
Только почти через полтора года после начала экспедиции Хаутман добрался до Суматры, а потом и до острова Ява. По каким-то причинам Ява осталась обойденной вниманием португальцев, и бывший узник лиссабонской тюрьмы вполне резонно счел, что, если так, значит, остров должен принадлежать Голландии.
На Яве голландцы закупили по сходной цене партию очень ценных товаров, которые были благополучно доставлены в Европу. И с этого момента начались постоянные рейсы голландских кораблей к Малайскому архипелагу. Нарушив, наконец, португальскую монополию на торговлю с Ост-Индией, голландские купцы сами установили непосредственные торговые связи с малайскими правителями.
Однако приходилось все же опасаться португальских сторожевых кораблей. Поэтому голландские мореходы нашли наконец для себя самую безопасную дорогу. От мыса Доброй Надежды этот морской путь пролегал значительно южнее, чем обычные маршруты португальцев. Поймав в сравнительно высоких широтах попутный пассат, голландские корабли шли на восток до того меридиана, на котором лежала Ява, и тогда резко поворачивали на север.
Но ведь этот путь должен был так близко лежать от Южного материка!.. И, казалось бы, это начинало подтверждаться теми открытиями, которые одно за другим стали выпадать голландским морякам. Словно бы из тумана вдруг стала проявляться большая суша, которая, по-видимому, была выступом громадной, лежащей на юге земли.
В 1616 году капитан Дирк Хартогс, командовавший судном «Эндрахт», высадился на эту сушу между 23 и 26°30' южной широты. Местность, которую он увидел, представляла собой унылую, безжизненную пустыню. Два года спустя голландские моряки высадились на эту же сушу на 21°20' южной широты. Позже здесь побывали и другие голландские мореплаватели.
То была западная сторона открытой суши; южную же исследовал в 1627 году капитан Питер Нейтс. Он дошел до небольшого архипелага, который назвал своим именем, и убедился в том, что край этой обширной суши в этом месте поворачивает к юго-востоку. Значит, действительно выступ Южного материка?
Исследованная голландцами обширная суша в XVII веке получила название Новая Голландия. Но, считая ее громадным полуостровом Южного материка, голландские мореплаватели ошибались Это была та самая большая земля, которую видел Торрес, огибая с юга Новую Гвинею, и которая сегодня называется Австралией.
Но самые важные открытия на «голландской странице» выпали бесспорно, на долю Абеля Тасмана. Как рассказывают, этот бедняк-штурман осмелился просить руки дочери Антони Ван-Димена, богача и генерал-губернатора тех сказочных южных островов, что голландцы, не спрашивая разрешения у Португалии, уже считали своими. В ответ разгневанный Ван-Димен дал штурману Тасману два самых старых корабля, какими только располагал, и отправил его в трудную экспедицию. Но, как бы то ни было, экспедиция Абеля Тасмана вернулась с бесценным географическим материалом.
Абель Тасман должен был подняться до самых высоких широт и определить, как далеко простирается Южный материк. Выйдя с острова Маврикий, Тасман сначала шел на юг, а потом повернул к востоку. 24 ноября 1642 года он открыл берег, который назвал Вандименовой землей. Но что это была за земля — остров или же часть Новой Голландии,— самому Тасману выяснить не удалось. Это стало известно лишь полтора столетия спустя: Вандименова земля (ныне Тасмания) — это остров, отделенный от Австралии. Тасман же продолжил путь на восток и 13 декабря 1642 года увидел перед собой еще одну землю. Он назвал ее Новой Зеландией.
Пройдя вдоль береговой линии на северо-восток, он дошел до северной оконечности открытой земли. В честь дочери Антони Ван-Димена, которая, видно, и в самом деле была небезразлична бедному штурману, эта самая северная точка стала называться мысом Марии Ван-Димен.
Важнейшим итогом экспедиции Тасмана было то, что она бесспорно доказала, что Новая Голландия не может быть частью Южного магерика, ведь корабли целиком обогнули ее с юга.
И вместе с тем экспедиция Тасмана породила новую ошибку: выступом гигантского материка, вера в существование которого нисколько не ослабевала, теперь стали считать Новую Зеландию. Эту ошибку лишь через сто с лишним лет исправил великий английский мореплаватель, капитан Джеймс Кук, посвятивший путешествию за географической легендой, оказавшейся такой долговечной, несколько лет. Именно плавания Кука, стершие с карты Тихого океана немало белых пятен, во многом прояснили запутанное «дело» Южного материка.
Но прежде чем свои поиски начал Джеймс Кук, в этом «деле» появилась еще одна ошибка. Два французских корабля под началом Жана Батиста Буве в 1739 году обнаружили в высоких южных широтах Атлантического океана какую-то землю, которую глава экспедиции тоже счел выступом Южного Материка. Правда, подойти к этой земле вплотную французсмог из-за тяжелых льдов. Не пытался он и обойти кромку льда стороной, так как экипажи его кораблей едва переносили стужу сделав свое открытие, Буве тут же повернул назад, в более теплые края.
Нет, это был на самом деле маленький вулканический остров, который сёйчае называется островом Буве. Еще одна ошибка...
Но и сам Джеймс Кук, исправивший заблуждения Тасмана, тоже не избежал во время своих поисков ошибки. Причем такой, какой до него не делал ни один из мореплавателей, искавших Южный материк.
Ошибка капитана Кука 
С портретов смотрит энергичное, умное лицо. У этого человека высокий лоб, резко очерченные твердые губы, волевой подбородок.
Чаще всего на портретах есть один постоянный атрибут — географическая карта. Карта лежит у него на коленях, карта перед ним на столе, карту, сложенную в трубочку, он держит в руке... Что ж, географическая карта действительно была постоянным спутником большей части жизни капитана Кука. Он обращался к ней, чтобы проложить курс своего корабля, измерить расстояние, которое судно прошло за день... И еще для того, чтобы нанести на нее землю, которой до этого на карте не было. Сколько же раз ему приходилось это делать!..
Джеймс Кук нанес на карту острова Товарищества и Большой Барьерный риф, острова Новая Каледония, Норфолк, Южные Сандвичевы острова, юго-восточные Гавайские острова, остров Южная Георгия... Всего и не перечислишь. А в память о нем и в знак признания его огромных географических заслуг на этой же карте позже многократно — больше двадцати раз — повторилось его имя. Есть гора Кука на острове Южный Новой Зеландии, есть два архипелага Кука в Тихом океане, залив Кука у берегов Аляски, есть пролив Кука, разделяющий Северный и Южный острова Новой Зеландии...
Кук был прирожденным мореплавателем и был прекрасным командиром. Те из английских матросов, которым посчастливилось плавать под его командой, просто боготворили его. В отличие от многих других офицеров он умел разглядеть в магросе не машину для выполнения приказаний, а человека. Да он ведь и сам был когда-то матросом, а потом проделал трудный, потребовавший сверхчеловеческих усилий путь от кубрика до капитанского мостика, приобретя при этом и обширные познания по самым разным вопросам. И, быть может, многие из матросов, плававших с ним, мечтали о том, чтобы самим повторить этот путь. В этом не было ничего невозможного. XVIII век все больше и больше начинал ценить истинный ум и талант, а не титулы и происхождение. Тому хватало примеров, не один только капитан Кук.
Так, в то же время во Франции сын часовщика, зарабатывающий себе на жизнь сначала ремеслом отца, а потом ставший придворным учителем игры на арфе, быстро достиг богатства и известности. Богатство позволило ему поставить оружие для целой армии колонистов, восставших против власти английского правительства и победивших, провозгласивших за океаном новую республику — Соединенные Штаты Америки. А прирожденный талант, блистательное остроумие и жгучая ненависть к чванливым, бездарным аристократам вдохновили его перо на создание таких шедевров, как «Севильский цирюльник» и «Свадьба Фигаро». Этого человека звали Пьер Огюстен де Бомарше.
А несколькими десятилетиями раньше сын русского помора, пешком пришедший из Архангельской губернии в Москву, чтобы утолить проснувшуюся в нем жажду знаний, стал ученым, о котором Александр Сергеевич Пушкин сказал: «Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом...»
Наверное, нельзя проводить слишком уж близкие параллели между Бомарше, Ломоносовым, Куком и десятками других талантливых людей из народа, сумевших проложить себе дорогу к самым вершинам знания, полностью раскрыть свои способности и нашедших достойное применение им И все-таки что-то общее У них, бесспорно, было. Тяга к знаниям, которая никогда не ослабевала Желание учиться, несмотря на насмешки и непонимание окружающих. Умение не опускать руки при неудачах. Умение, раз выбрав цель, достичь ее во что бы то ни стало, какие бы ни ждали трудности...
Джеймс Кук был именно таким человеком. Он родился в очень бедной семье — отец был батраком, — был девятым ребенком в семье. С семи лет помогал отцу батрачить. Только в тринадцать лет в сельской школе познакомился с основами грамматики и арифметики — до этого совсем не умел читать. Когда ему исполнилось семнадцать, поступил учеником к бакалейно-галантерейному торговцу. Торговец жил в большом приморском поселке Стэйтс, неподалеку от порта Уитби в графстве Йоркшир.

Здесь-то Кук и увидел впервые море. Он выдержал у торговца только полтора -года. Видимо, нелегко жилось ему в учениках, если он решился-наняться на парусник, перевозивший каменный уголь из Ньюкасла в Лондон. Был три года юнгой и за это время повидал другие страны: парусник ходил не только в английские порты, но и в Голландию и в Норвегию. Потом, уже у другого хозяина, Кук два года служил матросом и ходил в порты Балтийского моря; побывал .он в эту пору и в Петербурге.
Ум, наблюдательность, добросовестность обратили внимание хозяев на молодого матроса: ему предложили стать помощником капитана. В ту пору Куку было двадцать четыре года и до двадцати семи он был помощником. Но уже приближалась совершенно другая полоса его жизни; она началась вместе с Семилетней войной, в которой Англия воевала с французами в Канаде.
Кук записался добровольцем в английский военный флот. Три года спустя он получил первый офицерский чин, его направили в Канаду. Местом ожесточенных схваток англичан с французами была река Святого Лаврентия. Там Кук с успехом выполнил свою первую исследовательскую работу: по ночам, чтобы не попасть под огонь французов, он составлял точную карту фарватера реки от Квебека до самого ее устья. Быть может, именно тогда он почувствовал, как не хватает ему знаний.
Год спустя у Кука впервые появилась возможность заняться самообразованием. Военные действия закончились победой англичан. Корабль, на котором Кук служил штурманом, долго простоял без дела в порту Галифакс. В это время Кук занялся изучением геометрии и астрономии. Без учителей, пользуясь неважными учебниками, он все же справился с этими науками. С тех пор он никогда не переставал учиться.
Кук все больше чувствовал себя моряком-исследователем.
В 1762 году он выполнил поручение губернатора острова Ньюфаундленд и изучил условия навигации между Ньюфаундлендом и Лабрадором. Позже Кук стал старшим гидрографом Ньюфаундленда и Лабрадора; к этому времени относятся и его первые географические открытия — несколько озер, неизвестных прежде, он обнаружил во внутренних областях Ньюфаундленде. Потом он работал на Ямайке, немного позже составил лоцию Гондурасского залива...
А в 1768 году Джеймс Кук возглавил английскую экспедицию в Тихий океан.
Цели, стоящие перед ней, были различны. Считалось, что иной из главных целей было наблюдение 3 июня 1769 года редкого явления — прохождения Венеры через солнечный диск. Однако были и другие задачи: присоединение к английской короне тех земель и островов, которые будут открыты. Настойчивые поиски новых земель вели в Тихом океане французы; францию, этого вечного соперника, надо было опередить. Кук, которого рекомендовали Адмиралтейству влиятельные люди, знавшие его по службе на военных кораблях, идеально подходил для поста начальника экспедиции. Он накопил к сорока годам немалый опыт, плавал и в тропиках, и в холодных водах. Он был не только морским офицером, но и исследователем — гидрографом, топографом, он знал астрономию. У лордов Адмиралтейства было только одно сомнение: Кук был сыном батрака, начинал простым матросом. Как будут чувствовать себя офицеры хорошего происхождения, если ими будет командовать человек, начинавший юнгой на судне, перевозившем уголь? Однако Кук согласился — никто из «командиров-джентльменов» не соглашался — отправиться в столь дальнее и, по-видимому, опасное, плавание не на каком-нибудь большом военном корабле, а на небольшом барке; экспедиция на маленьком судне обошлась бы Адмиралтейству значительно дешевле. Согласие Кука решило дело.
Капитан Кук сам выбрал на Темзе подходящее судно — трехмачтовый барк «Эндевор». Барк был похож на те угольные суда, на которых он плавал в молодости. Как считал Кук, именно такие суда были наиболее пригодны для плаваний по неизвестным еще водам.
В 1771 году «Эндевор» вернулся в Лондон, совершив кругосветное путешествие. Открытия, сделанные Куком во время трехлетнего плавания, прославили его. Путевые записки, изданные им, доказали, что он владеет и пером: словно увлекательный роман, англичане читали описания жизни племен различных тихоокеанских островов. Так Кук стал еще и этнографом.
Теперь капитан Джеймс Кук знаменит. На карту нанесены открытые им острова. Его книгу читают и перечитывают. И когда Адмиралтейство приняло решение снарядить специальную экспедицию для поисков Южного материка, кандидатура Кука уже не вызывала никаких сомнений: начальником экспедиции Должен быть только он!
Впрочем, кое-что в «деле» Южного материка прояснило и первое плавание Кука. Он исследовал во время него Новую Зеландию, открытую Тасманом. Голландец считал ее выступом Южного материка. Но Кук обошел Новую Зеландию вокруг и обнаружил, что это остров. Вернее, даже два острова — Северный и Южный. Между ними был пролив, который теперь называется проливом Кука. «Эндевор» описал вокруг двух островов огромную восьмерку.
Район, где после этого открытия следовало искать громадную неоткрытую землю, отступил еще дальше к югу.
Возможно, краем Южного материка была земля, открытая в 1739 году французским мореплавателем Жаном Батистом Буве. Именно ее решил взять отправной точкой для своих поисков капитан Джеймс Кук. Его вторая экспедиция началась 13 июля 1772 года. В этот раз под командой Кука были два корабля — «Резолыошен» и «Адвенчер».
«Я обязан был приложить все усилия для того, чтобы открыть новые территории на юге, следуя либо в восточном, либо в западном направлении, по моему собственному усмотрению. Нужно было при этом держаться наиболее высоких широт и плыть к Южному полюсу до тех пор, пока это позволят наши запасы, состояние здоровья команды и состояние самих кораблей...»
Таковы были инструкции, полученные Джеймсом Куком. Следуя им, он прежде всего пошел в высокие южные широты Атлантического океана.
10 декабря корабли встретили первые плавучие льды; затем стали попадаться и большие ледяные поля. Их приходилось огибать, поворачивая к востоку.
О втором своем путешествии Кук тоже написал книгу. В предисловии путешественник просит читателя простить его за недостаток литературного мастерства: «И хоть я с помощью добрых друзей прошел все ступени морской службы — от юнги на судах-угольщиках до капитана королевского флота, я не имел случая заниматься литературой. Итак, публика не должна ожидать от меня изящного стиля или искусства профессионального писателя, но, надеюсь, будет смотреть на меня, как на простого человека, старающегося усердно служить своей родине и решившего дать, по возможности, полный отчет о своих действиях».
Нет, Кук, пожалуй, излишне поскромничал. Хотя книга его не похожа на роман, но написана пером человека очень наблюдательного, умеющего отметить самую характерную деталь, найти самое точное слово и самые яркие краски. За внешней безыскусностью стиля встают зримые картины того, что происходило во время этого увлекательного и трудного путешествия.
4 января 1773 года он записал, например: «Снасти покрылись коркой прозрачного льда, и, хотя зрелище это было привлекательно, нам всем казалось, что холод заметно усилился, хотя мороз был меньше, чем неделю назад, и море свободно ото льда. Управлять кораблями стало трудно, так как все снасти, паруса и блоки обмерзли и задеревенели ото льда».
Медленно, с трудом лавируя среди крупных айсбергов, корабли Кука все-таки продвигались все ближе к югу.
17 января 1773 года в истории мореплавания произошло весьма примечательное событие. Корабли Кука впервые пересекли Южный полярный круг у 39° 35' восточной долготы.
Но далеко продвинуться в антарктические воды не удалось. В тот же день Кук сделал такую запись: «В 6 часов 45 минут на 57° 15 минутах южной широты нас остановила непреодолимая преграда. На юге море на всем пространстве было покрыто льдами, и нигде не было видно свободного прохода... Поднявшись на грот-мачту, я, обозревая море, убедился, что на юго-востоке от нас не видно конца этим ледяным полям. Среди льдов плавали киты...»
Начальник экспедиции принял решение: проход между льдами в этом месте вряд ли удастся найти; значит, пока приходилось отступить.
Командам кораблей надо было дать отдых: с тех пор, как они покинули мыс Доброй надежды, в течение нескольких месяцев не было видно и признаков земли. Кук привел «Резольюшен» в залив Даски-Саунд у юго-западного берега Новой Зеландии Здесь он простоял полтора месяца.
Летом экспедиция продолжила работу. Прежде всего Кук обследовал полосу океана между тридцать девятой и сорок седьмой параллелью к востоку от Новой Зеландии. Но здесь не было никаких земель. В августе корабли прошли через архипелаг Туамоту. Потом некоторое время провели у островов Товарищества. Отсюда они вновь направились к берегам Новой Зеландии.
В ночь на 23 октября неподалеку от восточного берега Новой Зеландии в очень ненастную погоду «Резольюшен» и «Адвенчер» потеряли друг друга из вида. (Это случалось и преж де.) Потом корабли снова встретились, но в этот раз случившееся словно бы послужило недобрым предзнаменованием: в ночь на 30 октября корабли еще раз потеряли друг друга, и встретиться им суждено было только в Англии. Маршруты кораблей были теперь разными. «Адвенчер» предпринял неудачную попытку обнаружить землю, открытую Буве, и в середине 1774 года вернулся в Англию. А Кук от берегов Новой Зеландии вновь повел «Резольюшен» в холодные антарктические воды
Снасти снова покрылись толстой коркой льда Кораблем было пойти невозможно управлять. Но плавание в этих водах требовало как раз особой тонкости в управлении: вокруг было много айсбергов. 23 декабря Кук сделал такую запись:
«Шел мокрый снег мороз крепчал Снасти обмерзли, и казалось, что вместо вантов натянуты провода, а паруса уподобились листам металла. Шкивы в блоках проворачивались с большим трудом, и надо было затратить невероятное усилие, чтобы поднять или опустить марсель
Все страдали от холода. Густой туман непроницаемой пеленой пал на студеное, покрытое сплошными льдами море. При столь неблагоприятных обстоятельствах я поневоле должен был подумать о возвращении на север. Возможности пробиться далее к югу не было...»
В этот день Джеймс Кук вновь отступил перед льдами. Но 11 января 1774 года, словно бы набрав необходимый разбег для новой атаки высоких широт, «Резольюшен» опять взял курс на юг. В третий раз мореплаватель пересек Южный полярный круг 26 января.
Команда совершала чудеса героизма, управляя в лютую стужу парусами. Прошел день, потом другой, третий. «Резольюшен» упрямо пробивался на юг. 30 января корабль достиг 70° 10' южной широты. Так высоко Кук еще ни разу не поднимался.
Запись, относящаяся к этому рекордному дню, оказалась пространной:
«Вскоре с грот-мачты увидели сплошной ледяной барьер, простиравшийся с востока на запад на необозримом пространстве. Вся южная половина горизонта сияла и сверкала холодными огнями.
Я насчитал 96 вершин и пиков вдоль кромки ледяного поля. Некоторые из них были очень высоки, и гребни этих ледяных гор были едва различимы в пелене низких туч и молочно-белого тумана. У кромки этою исполинского поля громоздились мелкие глыбы битого льда, и приблизиться к краю ледяного барьера не было возможности.
Казалось, что все поле состоит из спаянного воедино льда. Вдоль северной кромки лишь отдельные вершины достигают значительной высоты, но далее к югу высота барьера значительно увеличивалась. Таких льдов никто никогда не видел в Гренландском море, да и навряд ли можно сравнить ледяные поля северного полушария с тем, что открылось нашему взору здесь, на юге.
Не было никакой возможности пробиться через эти льды. Не только я, но и все мои спутники были твердо уверены, что это грандиозное поле простирается далее на юг до самого полюса или где-то на высоких широтах соединяется с материком. Во всяком случае, именно отсюда, от этой ледяной стены, отрываются те глыбы и острова, которые блуждают в северной части антарктического моря по воле ветров и течений.
Я проследовал на юг дальше всех прежних мореплавателей и достиг пределов, где человеческие возможности оказываются исчерпанными. И признаюсь, я не был опечален тем, что на пути моем возникли непреодолимые препятствия, ибо этим самым мы избавлялись от опасности и трудов, связанных с дальнейшим продвижением в южную полярную область.
Так как нельзя было пробиться к югу ни на один дюйм, я решил повернуть на север...»
Не был опечален? Да нет — здесь, наверное, Джеймс Кук немного покривил душой. Конечно же, ему очень бы хотелось открыть легендарную сушу. И если бы только он знал, как не повезло ему в этот день! Чтобы сделать открытие, с которым и сравнить было бы нельзя все другие его открытия, ему нужно было продвинуться дальше на юг совсем немного. Всего в двухстах километрах от него был один из выступов антарктического материка — полуостров Терстон у моря Амундсена. Но он повернул на север и все дальше и дальше уходил от загадочной Южной земли, которую искал так настойчиво.
Словно бы стремясь вознаградить себя на неудачу с Южным материком, Кук начал настойчиво искать новые, еще никому не известные острова в Тихом океане. Он высадился на острове Пасхи, открытом голландцем Роггевеном, потом направился к Маркизским островам, которые стали открытием Менданьи. 11 апреля 1774 года он взял курс на Таити. По пути еще раз прошел через архипелаг Туамоту. В этом архипелаге ему удалось уточнить положение нескольких островов, и он дал им новые названия. В конце апреля «Резольюшен» пришел к берегам Таити.
От Таити Кук направился к островам Товарищества. 16 июня 1774 года он открыл атолл Палмерстон. Еще несколько неизвестных островов были открыты в архипелаге Новые Гебриды, который Кирос когда-то так опрометчиво принял за Южный материк.
4 сентября 1774 года капитан Джеймс Кук стал автором еще одного крупного открытия.
На горизонте показалась длинная полоска низкой земли. Вдоль ее берега протянулась линия рифов и отмелей. Когда корабль Кука бросил якорь с внешней стороны рифов, к нему сразу же подошли десятки туземных челнов. Туземцы, как обезьяны, по канатам карабкались на борт корабля. Европейские вещи, которые они видели в первый раз, привели их в восторг. С любопытством — матросы им не препятствовали — они лазили по всему кораблю, осматривая жилые помещения, трюм, кладовые с продуктами. Затем произошел ответный визит: Кук высадился на берег во главе отряда матросов. Дружелюбно настроенные туземцы привели англичан в свое селение, вокруг которого рос сахарный тростник. От реки, протекающей поблизости, к полям были проведены оросительные каналы.
У этого острова Кук простоял до 13 сентября. Он назвал найденную им землю Новой Каледонией.
Потом «Резольюшен» вновь оказался в открытом океане. Вскоре Кук нанес на карту еще один остров, на берегах которого росли высокие деревья, похожие на корабельные сосны,— остров получил название Сосновый. Теперь Кук вновь шел в сторону Новой Зеландии. По пути он открыл еще один небольшой необитаемый остров — Норфолк.
Некоторое время Кук снова провел у берегов Новой Зеландии, эта земля была хорошо знакома ему еще со времен его первого кругосветного путешествия. Затем «Резольюшен» двинулся к Огненной Земле.
Плавание Френсиса Дрейка показало, что Огненная Земля — это архипелаг из нескольких больших и малых островов. Однако он еще не был детально обследован — этот-то пробел и заполнил Джеймс Кук. Пройдя вдоль Огненной Земли с западной и южной стороны, мореплаватель сделал еще целый ряд открытий: остров Гилберт, залив Кука, пролив Кристмас-Саунд.
Наступил новый, 1775 год. Экспедиция продолжалась уже третий год. В январе был открыт еще один остров — Южная Георгия. Следующим открытием стала небольшая группа Скал Кларка.
«Резольюшен» опять поднялся довольно далеко к югу — до 60°4' южной широты. Снова корабль великого английского мореплавателя плыл среди множества ледяных островов. В эти дни на карту легли Южные Сандвичевы острова.
Еще некоторое время в высоких широтах Атлантического океана Кук искал Землю Буве, которую так и не видел в первый год своего плавания. Не найдя ее, он предположил, что Буве принял за берега земли какой-то обыкновенный кусок льда. Однако Земля Буве существовала на самом деле. Кук прошел мимо, не заметив ее... Наконец, «Резольюшен» повернул на север, взяв курс на Англию.
Второе кругосветное плавание Джеймса Кука завершилось 29 июля 1775 года. Оно продолжалось три года и шестнадцать дней.
Итоги экспедиции оказались очень значительными. Открытий, которые сделал Кук, хватило бы на добрый десяток мореплавателей. Завеса неизвестности, все еще окутывающая почти весь Тихий океан, стала куда менее плотной, чем прежде. А ведь сверх этого Кук привез и ценный этнографический материал, описав быт различных племен, населяющих острова. И он сам, и ученые, входящие в состав экспедиции, изучали животный и растительный мир дальних земель, проводили метеорологические и гидрографические наблюдения.
Плавание вполне заслуженно прибавило Джеймсу Куку славы, теперь он был самым знаменитым моряком Англии. И все-таки можно сказать и так: некоторая часть этой славы оказалась явно преждевременной.
Как считалось в ту пору, Джеймс Кук окончательно разрешил загадку Южного материка и подвел наконец итоговую черту под историей поисков, которые велись до него больше двухсот лет. Это, по общему мнению, тоже было удачей: никто не мог сделать этого до Кука!
«Я обошел океан южного полушария на высоких широтах и совершил это таким образом, что неоспоримо отверг возможность существования материка, который если и может быть обнаружен, то лишь близ полюса, в местах, не доступных для плавания.
Я дважды посетил тропические моря и не только уточнил положение ранее открытых земель, но и открыл много новых. Полагаю, что теперь очень мало остается неизведанного в той части океана, где я побывал.
Я льщу себя надеждой, что задачи моего путешествия во всех отношениях выполнены полностью; южное полушарие достаточно обследовано; положен конец дальнейшим поискам Южного материка, который на протяжении двух столетий неизменно привлекал внимание некоторых морских держав и был излюбленным предметом рассуждений для географов всех времен...»
Вот такими словами завершил Джеймс Кук свой объемистый труд, посвященный описанию более чем трехлетнего плавания. В этих словах — не правда ли, это чувствуется? — сквозит и некоторое сожаление оттого, что не удалось ему сделать открытие, о каком двести лет мечтали мореходы, и вместе с тем они явно исполнены гордости: он, Джеймс Кук, закрыл «дело» о Южном материке, он, и никто другой! Южного материка, как всем это теперь ясно, не существует, если за Южным полярным кругом и есть какая-либо суша, достичь ее невозможно.
«Там море так густо усеяно льдами, — написал Кук, — что доступ к земле становится невозможным. Риск, связанный с плаванием в этих необследованных и покрытых льдами морях в поисках Южного материка, настолько велик, что я смело могу сказать, что ни один человек никогда не решится проникнуть на юг дальше, чем это удалось мне. Земли, что могут находиться на юге, никогда не будут исследованы...»
Никто не решится проникнуть на юг дальше?
Знаменитый капитан Джеймс Кук отправился в свое третье плавание. Ему суждено было вновь побывать в Новой Зеландии, подняться к Аляске, сделать немало новых открытий, в том числе нанести на карту крупнейший из Гавайских островов — Гавайи. Но это открытие стало последним из всех, так щедро выпадавших на долю великого мореплавателя. Здесь, на острове Гавайи, и суждено было ему погибнуть в нелепой стычке с островитянами. Это случилось 14 февраля 1779 года. Джеймсу Куку едва исполнилось пятьдесят лет...
А за год до этого, в 1778 году, в далекой России родился человек, который пошел дальше капитана Кука.
Легенда ведет к открытиюНад стеной форта взвился белый дымок, за ним второй, третий. Чуть позже до кораблей, уже полным ходом идущих по Большому рейду, донесся звук выстрелов: Петровская батарея Кронштадта салютом из девяти выстрелов проводила в дальний вояж «Восток» и «Мирный».
Серые кронштадтские форты отступали все дальше. Все меньше становились и силуэты военных кораблей, стоящих на рейдах старинной русской морской крепости, откуда моряки России уже не в первый раз начинали самые дальние путешествия.
Вот точно так же все было и шестнадцать лет назад. Белые дымки над Петровскими батареями, плеск прохладной соды Финского залива под форштевнями кораблей, свежий балтийский ветер, наполнивший паруса и увлекающий вперед. Тогда, в 1803 году, Иван Федорович Крузенштерн и Юрий Федорович Лисянский на шлюпах «Надежда» и «Нева» вышли в плавание вокруг света — первое кругосветное путешествие русских моряков. Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен, двадцатипятилетний офицер, тогда шел на «Надежде». А вот теперь он сам встал во главе экспедиции, цель которой — далекие антарктические воды. Впереди — «открытия в возможной близости Антарктического полюса с целью приобретения полнейших познаний о нашем земном шаре».
Так началась «русская страница» в истории поисков Южного материка.
В ноябре 1819 года «Восток» и «Мирный» пришли в Рио-де-Жанейро. В декабре достигли острова Южная Георгия, открытого Куком. Здесь же экспедиция сделала первое открытие — небольшой остров, который, в честь одного из офицеров «Мирного», назвали островом Анненкова. Затем на карту били нанесены три небольших вулканических острова — группа Маркиза-де-Траверсе.
«Восток» и «Мирный» поднимались все дальше к югу.
Здесь, должно быть, не стоит даже говорить, сколь нелегким оказалось плавание в высоких широтах. Все, что пришлось испытать Джеймсу Куку, все, что было столь красочно описано им, ожидало и русских моряков. Вновь «паруса уподобились листам металла», и матросы с большим трудом управляли снастями. Вновь приходилось лавировать среди ледяных полей, ежеминутно опасаясь столкновения с айсбергом. Все было точно так же, как и сорок лет назад, когда в этих водах плавали «Резольюшен» и «Адвенчер». Антарктика не изменилась . Но все-таки это были разные плавания — плавание англичан и плавание русских. Вот что написал, например, сопоставляя результаты двух знаменитых экспедиций, выдающийся советский географ Ю. М. Шокальский: «Кук провел к югу от 60° южной широты всего 75 дней из 1008 дней плавания вообще, а во льдах — 80 дней. Беллинсгаузен был в южном полушарии всего 535 дней, то есть наполовину меньше Кука, но зато он плавал к югу от 60° южной широты 122 дня и 100 дней во льдах. Кук прошел южнее 60° юж ной широты 125 градусов по долготе, Беллинсгаузен к югу от 60° южной широты прошел 242 градуса по долготе, то есть совершил беспримерное плавание на слабых судах... Большое протяжение пути в высоких широтах дало возможность обстоятельно описать эти воды. Поэтому и до сих пор плавание Беллинсгаузена не потеряло своего научного значения, да и никогда не потеряет...»
28 января 1820 года «Восток» и «Мирный» поднялись до 69°25' южной широты. Этот день оказался пасмурным, видимость была плохой. Но иногда солнечные лучи пробивались сквозь туманную мглу. Над кораблями во множестве кружились полярные птицы. Все говорило о том, что близко земля.
Михаил Петрович Лазарев, командир «Мирного», позже, вспоминая этот великий день, написал: «...встретили матерой лед чрезвычайной высоты, и... простирался оный так далеко, как могло только достигать зрение, но удивительным сим зрелищем наслаждались мы недолго, ибо вскоре опять запасмурило и пошел по обыкновению снег... Отсюда продолжали мы путь свой к осту, покушаясь при всякой возможности к зюйду, но всегда встречали льдиный материк...»
В этот великий день русские мореплаватели видели Антарктиду! Край «льдиного материка», который они видели, позже получил название Берега Принцессы Марты.
И еще дважды в это антарктическое лето шлюпы «Восток» и «Мирный» пересекали Южный полярный круг и стремились подняться как можно выше. 18 февраля они снова подошли почти вплотную к «льдиному материку». Координаты места, которое они достигли, 69°06' южной широты и 15°52' восточной долготы. Рядом лежал берег Антарктического материка, который, опять-таки позже, получил название Берега Принцессы Ранхильды.
Но антарктическое лето заканчивалось. В марте усилились морозы, все чаще в полярных водах разыгрывались жестокие штормы. Теперь плавание во льдах стало крайне опасным Малейшая ошибка могла погубить корабли. Тогда Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен решил дать экипажам отдых.
Шлюпы «Мирный» и «Восток» ушли из полярных вод в Австралию После стоянки в порту Джексон начался второй этап плавания. Теперь маршруты русских кораблей пролегли среди лабиринта островов Полинезии Здесь, несмотря на заслуги капитана Кука, оставалось еще достаточно белых пятен, а среди целей русской научной экспедиции была и такая — изучить тропическую часть Тихого океана.
Российские исследователи открыли и нанесли на карту полтора десятка неизвестных прежде островов, они были названы именами русских государственных деятелей, героев Отечественной войны 1812 года, память о которой еще была так свежа, зна менитых русских флотоводцев Сегодня можно найти на карте острова Барклай-де-Толли, Волконского, Грейга, Ермолова, Кутузова-Смоленского, Милорадовича, Остен-Сакена, Раевского, Чичагова
Но основной целью экспедиции была все-таки Южная Неведомая Земля, загадочный материк, который искали до этого столько лет И хотя у Беллинсгаузена и Лазарева не было сомнений в том, что огромная толща льда, которую они видели 28 января 1820 года, покоилась на твердой земле, надо было найти этому несомненные доказательства.
Шлюпы «Восток» и «Мирный» вернулись в Австралию, здесь в течение пятидесяти дней шла подготовка к новому плаванию за полярным кругом.
Вновь начиналось антарктическое лето. В ноябре 1820 года русские корабли начали новый поход в высокие широты, ко торый окончательно доказал, что капитан Джеймс Кук поспешил, закрыв «дело» Южного материка. Приближался январь 1821 года
..Над палубой низко кружился снег Намокшие паруса казались тяжелыми и бессильными. Было сумрачно, серо, холодно. Но в просветах между тучами иногда показывалось солнце, и лучи его то на минуту, то на две пронизывали холодную мглу.
В очередной раз поднося к глазам подзорную трубу, командир вдруг вспомнил шутку, которая часто повторялась в кают-компании: в северном полушарии сейчас, в январе, разгар зимы, а уж здесь-то, в южном, где все «вверх ногами», как раз наступила середина лета...
Он плотнее закутался в плащ.
Шлюп «Мирный», идущий поблизости тем же курсом, что и «Восток», можно было различить, даже когда солнце вновь исчезало. Но как надо, чтобы оно задержалось на небе хоть чуть дольше!.. Досадно: здесь, за Южным полярным кругом, стоит сейчас длинный полярный день, солнце не уходит с небосклона, а тучи, метель как будто сговорились скрыть от его лучей, а значит, и от глаз участников экспедиции какую-то важную тайну. В том же, что тайна эта есть, теперь нельзя сомневаться. Птицы, появляющиеся над кораблями все в большем количестве, изменившийся цвет воды говорят о том, что разгадка уже где-то рядом.

Офицеры на мостике и матросы на вантах напряженно всматривались в горизонт. Командир оглядел всех поглощенных одним занятием людей, и вдруг его остро пронзило предчувствие: сегодня, совсем уже скоро!..
Прошел час, другой, третий... И солнце пробилось наконец сквозь серую пелену, надолго осветив белые ледяные поля, в разводьях которых медленно лавировали два маленьких русских корабля. Вдали виднелась земля, покрытая снегами, сквозь которые, однако, проступали черные мысы и скалы, даже горы; одна из гор высоко взметнулась вверх. Землю увидели все почти одновременно. Это была большая земля, она тянулась далеко в обе стороны по горизонту. Земля, ради которой «Восток» и «Мирный» прошли такой громадный путь через весь свет.
Позже Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен наречет ее Землей Александра I. Настанет минута, когда команды выстроятся на палубах и матросы трижды крикнут в честь великого открытия «ура!». А в этот первый, самый счастливый миг все до одного участника русской антарктической экспедиции как завороженные смотрели на дальнюю полоску земли, и каждый, должно быть, испытывал пр'екрасное чувство первооткрывателя. Они еще сами боялись поверить в то, что именно им, а никому другому удалось наконец открыть ту самую Южную Неведомую Землю, которую искали до них на протяжении веков...
Да, это был, несомненно, берег. «Я называю обретение сие берегом потому, что отдаленность другого конца к югу исчезала за предел зрения нашего, — писал позже Ф. Ф. Беллинсгаузен. — Сей берег покрыт снегом, но осыпи на горах и крутые скалы не имели снега. Внезапная перемена цвета на поверхности моря подает мысль, что берег обширен или, по крайней мере, состоит не из той только части, которая находилась перед глазами нашими...» И теперь не осталось сомнений: русские моряки действительно открыли за полярным кругом землю. История старой географической легенды-гипотезы завершилась. Античные географы, умозрительно предположив наличие большой суши в южном полушарии, сами того не ведая, совершили научное предвидение.
Стойкая легенда о Южной Неведомой Земле привела ко множеству замечательных открытий в Тихом океане. Итог им подвело самое важное, бесспорно, из географических открытий, совершенных в XIX веке, — открытие Ф. Ф. Беллинсгаузеном и М. П. Лазаревым шестого материка, который получил названпг Антарктида.
И давайте теперь чуть более обстоятельно представим людей, достойно дописавших «русскую страницу».
Оба они — и Ф. Ф. Беллинсгаузен, и М. П. Лазарев — принадлежат к той блестящей плеяде русских моряков-исследователей, чьи плавания, совершенные в первой трети XIX века, прославили отечественный флот; имена Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева стоят в одном ряду с именами И. Ф. Крузенштерна, Ю. Ф. Лисянского, В. М. Головкина, О. Е. Коцебу, Ф. П. Литке.
Еще в кругосветной экспедиции И. Ф. Крузенштерна двадцатипятилетний офицер Ф. Ф. Беллинсгаузен обратил на себя внимание как искусный картограф и астроном. А М. П. Лазарев, отправляясь в антарктические воды, уже был автором важного географического открытия. Плавая в 1814 году в Тихом океане на корабле «Суворов», он открыл острова Суворова. Описание же плавания «Востока» и «Мирного», составленное после завершения экспедиции, оказалось серьезным научным трудом. Собранные русскими моряками научные материалы дали возможность составить самое первое впечатление об Антарктиде. Океанографические исследования, проведенные во время плавания, тоже значительно обогатили науку; Ф. Ф. Беллинсгаузен, например, впервые выдвинул гипотезу о причинах морских течений, о происхождении тихоокеанских коралловых островов...
Отличные моряки, вдумчивые исследователи, люди, для которых важнее всего был их долг перед родиной, — такими они были. Это доказывает и вся их дальнейшая жизнь — после того, как был открыт ледяной материк и они стали известны всему миру. Непрерывные плавания и походы, боевая морская служба... Позже, в 1839 году, Фаддея Фаддеевича Беллинсгаузена ожидал пост главного командира Кронштадтского порта, откуда столько раз до этого он уходил в плавания. При нем были усовершенствованы укрепления Кронштадта. Старинная база Балтийского флота стала неприступной твердынью, охраняющей с моря русскую столицу. А Михаил Петрович Лазарев стал командующим Черноморским флотом. При нем была произведена его полная перестройка, корабли были перевооружены, стали быстроходнее, ма-невреннее. Он был сторонником создания сильного парового флота, но техническая отсталость царской Росси-и не позволила в ту пору решить эту задачу. И он же стал воспитателем таких талантливых русских флотоводцев, как П. С. Нахимов, В. А. Корнилов, Г. И. Бутаков, В. И. Истомин...
А вдобавок ко всему, это были на удивление скромные люди. Совершив важнейшее географическое открытие, они с огромной осторожностью писали о нем в своих отчетах. Открытие в любой науке, в том числе и в географии, требует всесторонней проверки, подтверждения. В науке нельзя опережать события, настоящие исследователи, какими по праву можно назвать Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева, хорошо это знали.
Что ж, их открытие выдержало проверку. Вопреки убеждению Джеймса Кука, что твердая земля за Южным полярным кругом, даже если она и существует, никогда не будет исследована и не принесет человечеству никакой практической пользы, Антарктида сегодня нужна очень многим людям. На многих научных станциях трудятся ученые самых разных специальностей. Без тех знаний, что уж« собраны наукой об Антарктиде, нельзя было бы прогнозировать погоду в глобальных масштабах. А исследования геологов доказали, что в недрах ледяного материка есть богатейшие месторождения полезных ископаемых, и, значит, не за горами их практическая разработка.
Каменный уголь и олово, вольфрам, молибден, медь, свинец, цинк — вот только некоторые из полезных ископаемых, что скрываются под ледяным щитом Антарктиды. Однако, разве только это может дать людям шестой материк? Вот, например, только один из проектов использования его богатств, а их выдвигается в последнее время все больше и больше, — проект использования такого дарового вещества, как... антарктический лед. Ведь айсберги, сползающие в океан с ледяных берегов Антарктиду, представляют собой громадные запасы «законсервированной» пресной воды. И, возможно, когда-нибудь эти глыбы льда будут транспортироваться к берегам жарких засушливых стран, чтобы превратиться там в живительную влагу, которая так необходима полям, лесам, людям, животным.
А вот другой, и не менее интересный проект, свирепые ветры, готовые все смести на своем пути, которыми так славится Антарктида, могут стать источником дешевой электроэнергии, приводя в движение генераторы ветровых электростанций Возможно, Антарктида действительно станет крупнейшим поставщиком электроэнергии? И кто знает, какие еще интересные инженерно-технические решения будут осуществлены со временем во льдах Антарктиды? Здесь открывается широкое поле для поиска, фантазии, смелых экспериментов для исследователей самых разный специальностей.
Освоение материка, открытого Ф. Ф. Беллинсгаузеном и М. П. Лазаревым, продолжается. Они проложили путь к нему. Однако, по скромности, сами не оставили здесь своих имен — позже это сделали другие люди. И сегодня есть шельфовый ледник Беллинсгаузена, море Беллинсгаузена, научная станция «Беллинсгаузен», есть море Лазарева, научная станция «Лазарев», шельфовый ледник Лазарева... Немногим из путешественников выпала такая же удача!
Здесь можно было бы поставить точку. Однако... Однако и после 1821 года Антарктиду все еще продолжали «открывать» Дело в том, что, признавая заслуги русских мореплавателей, некоторые из западных историков не хотели все же отдавать им пальму первенства. Так, например, англичане называли подлинным открывателем Антарктиды британского морского офицера Эдварда Барнсфильда. А некоторые американские исследователе считали, что первым был зверобой из Коннектикута Натаниэль Пальмер. Подойти же столь близко к ледяному материку на таких судах, как шлюпы «Мирный» и «Восток», было, по их мнений, просто невозможно. Возможно, русские ошиблись и вычислениях координат места и видели на самом деле не ледяной материк, а просто ледяные поля.
Но пришло время, когда сторонники этих версий окончательно потеряли все свои и без того шаткие аргументы. Сравнительно недавно советский исследователь, доктор исторических наук М. И Белов обнаружил в Ленинграде подлинную карту экспедиции, самую первую в истории карту антарктического берега, которую составили во время своего плавания Ф ф Беллинсгаузен и М. П. Лазарев. Эта карта окончательно доказала: Антарктиду открыла русская экспедиция.
Судьба карты оказалась удивительной. Она пpoлежала около ста пятидесяти лет в архиве, исследователи не раа обращали на нее внимание, но считали, что карта не имеет отношения к экспедиции Беллинсгаузена и Лазарева, — карта не была подписана ими.
М. И Белов все-таки предположил, что это и есть та самая карта, что стала итогом плавания к Антарктиде Карта попала к экспертам. Они изучили бумагу, на которой она была составлена, чернила, почерки. Экспертиза подтвердила обнаружена подлинная карта, авторы которой Ф Ф Беллинсгаузен и М. П. Лазарев.
Эта карта огромна, она состоит из пятнадцати больших листов. И хотя пожелтели листы за десятилетия, линии, нанесенные на них, оказались в целости и сохранности. И тогда не осталось сомнений: русские моряки действительно видели антарктические берега своими глазами, иначе они не могли бы составить столь подробной их карты.
В «деле» об открытии Южного материка была перевернута самая последняя страница.

«...Оставив нарты у подножия плоской черной скалы, поднимавшейся невысоко над снегом, все пятеро поднялись на самый гребень и остановились в двух шагах от края огромного обрыва, которым оканчивался этот снеговой склон...»
Имена путешественников, о которых идет речь, знакомы, без сомнения, очень многим читателям. Ведь и в эту самую минуту кто-то наверняка перелистывает страницы научно-фантастического романа «Земля Санникова», написанного замечательным ученым, академиком В. А, Обручевым, впервые или заново следя за приключениями Горюнова, Ордина, Костякова, Горохова и Никифорова, отправившихся в экспедицию на поиски большого острова, расположенного севернее Новосибирского архипелага. Вот каким они увидели этот остров — продолжим цитату:
«Вместо сплошного снега и льда, которые нужно было ожидать на такой высоте, почти в тысячу метров над уровнем моря, под широтой в 79 или 80°, путешественники увидели перед собой картину пробудившейся весенней природы, хотя была только половина апреля, когда и под Якутском, на 15—17° южнее, весна еле намечается первым таянием снега.
Вниз от края обрыва мрачные черные уступы, на которых белел снег, уходили в глубь огромной долины, расстилавшейся на север до горизонта. На дне ее зеленели обширные лужайки, разделенные площадями под кустарниками, или леса, уже чуть подернувшегося зеленью первых листочков. В разных местах среди лужаек сверкали зеркала больших или малых озерков, соединенных серебристыми лентами ручьев, то скрывавшихся в чаще кустов, то появлявшихся на лужайках. Над более далекими озерами клубился белый туман — они словно дымились. На запад!, за этой зеленой долиной, поднималась чуть ли не отвесной стеной высокая горная цепь, гребень которой был разрезан на остроконечные вершины, подобные зубьям исполинской пилы; на них полосами и пятнами лежал снег, тогда как ниже на обрыве его почти не было. Солнце уже опустилось за эту цепь, и вся долина погрузилась в вечернюю тень.
Цепь гор уходила на север за горизонт, скрываясь в тумане, покрывавшем отдаленную часть долины. Туда же, на север, насколько можно было видеть, тянулась и гряда, на гребне которой стояли наблюдатели и которая была ниже противоположной. На юге и та и другая как будто соединялись, совершенно замыкая долину с этой стороны...»
Теплой, согретой подземным теплом вулкана, обетованной, чудесной землей нарисовала Землю Санникова фантазия автора захватывающего романа. Она населила ее племенем онкилонов, будто бы ушедших когда-то с материка и, совершив длинный, трудный путь по льдам, обосновавшихся на новой родине. Здесь будто бы водились самые разные животные, богата и разнообразна была и флора острова... Воистину, такую чудесную землю стоило искать, терпя на пути лишения и стужу — награда впереди была прекрасна!
Фантазия, вымысел... Но ведь в существование Земли Санникова, как знают читатели увлекательного романа, верили когда-то реально. Писатель построил сюжет своего произведения, отталкиваясь от подлинной легенды-гипотезы.
Остров вечной молодости и Эльдорадо, страна семи городов, остров Бразил, остров Святого Брандана, загадочная Южная земля... Вот и подошло к концу путешествие вслед за географической легендой. Герои книги, увлеченные манящим вымыслом, предположением, уходили в самые разные края. Они открывали громадные, неизвестные прежде земли на территории Америки, исследовали океаны. Белых пятен на карте мира — мы проследили за этим — оставалось с течением времени все меньше, они отступали все дальше к высоким широтам, которые покорены человеком уже сравнительно недавно, в начале XX века. К началу нашего века и относится последнее из путешествий за легендой. И вновь героем его стал русский исследователь, наш соотечественник. Теперь и само имя его стало легендой.
...«Четверг 21 июня 1900 г. Кронштадт, борт «Зари», 11 часов вечера. Сегодня в 2 часа пополудни мы снялись с якоря в Петербурге у семнадцатой линии на Неве, где стояли у набережной 22 дня. Многие глубоко запечатлевшиеся в памяти образы и нахлынувшие за последние недели воспоминания так нагромоздились друг на друга, что мне не удается еще привести в ясность свои впечатления. Во всяком случае, достоверно то, что положено начало экспедиции, которой я так долго добивался. Начало ли? Правильное ли это слово? Когда же именно было положено начало? Было ли это в 1886 году, когда я видел Землю Сан-, никова, было ли это в 1893 году, когда, находясь на Новосибирских островах, я мысленно представил себе возможность достигнуть с острова Котельного Земли Санникова быстрым переходом на собачьих нартах? Было ли это после опубликования моего плана в 1896 году или же начало было положено, когда я прошлой весной передал президенту Академии наук свой отчет о плавании на «Ермаке»? Что считать началом? Как бы то ни было, фактически экспедиция началась сегодня, 21 июня 1900 года, в теплый ясный летний день, когда мы снялись с якоря и капитан Коломийцев вывел с большим мастерством «Зарю» без помощи буксира из устья Невы мимо множества судов и когда мы взяли курс на Кронштадт. Из наших глаз мало-помалу исчезали друзья, собравшиеся на набережной и на окружавших «Зарю» пароходах и лодках. Они долго еще посылали нам вслед прощальные приветствия и кричали «ура»...»
Так описывает в своем дневнике начало экспедиции на поиски Земли Санникова замечательный русский исследователь Эдуард Васильевич Толь.
Человек исключительно одаренный, отличавшийся большой широтой научных интересов, энциклопедическими познаниями — таким был Толль. И еще — он был увлекающимся и в то же время крайне целеустремленным человеком. Целью его жизни стали поиски Земли Санкикова.
Земли Санникова, будто бы находившейся в Северном Ледовитом океане где-то возле Новосибирских островов.
Наверное, это может показаться удивительным, но это действительно так: в Северном Ледовитом океане тоже искали на протяжении столетий немало легендарных земель, и именно это во многом способствовало многим подлинным географическим открытиям. Здесь снова стоит вспомнить слова Александра Гумбольдта, сказанные им об Эльдорадо: «Попытки завоевать эту легендарную страну принесли пользу географии, как нередко приносят пользу истине ошибки или смелые гипотезы». Эти слова в полной мере можно отнести ко многим из экспедиций в Арктике. Правда, в истории географических открытий, сделанных когда-либо в северных высоких широтах на пути за географической легендой, больше было ошибок, чем смелых гипотез. И первая из таких ошибок относится еще к XVII веку.

Мы не так уж много знаем о «служилом человеке» Михаиле Стадухине, но географическая легенда, связанная с его именем, прожила больше ста лет. В 1641 году он вышел с несколькими спутниками из Якутска к верховьям Индигирки, а потом на небольшом судне — коче — спустился по реке к океану и прошел вдоль его берега до устья другой реки — Колымы. Это было время великих географических открытий в Сибири, которые одно за другим делали русские землепроходцы; открытие Колымы и стало той строкой, чти внес в летопись открытий Михаил Стадухин. А во время плавания в океане — его коч шел, близко держась берега,— землепроходец видел на севере, tio левую руку, «горы снежные и пади и ручьи знатны все». Что это была за земля? Стадухин не сомневался, что видел южный берег какого-то громадного острова, который начинается где-то возле устья реки Лены и тянется далеко на восток, за Колыму. Вот такое свидетельство Михаила Стадухина донесла до нас история: «Идучи от Лены от Святого Носу и к Яне реке, и от Яны к Собачьей, Индигирка тож, и от Индигирки к Ковыме реке (Колыма.— В. М.) едучи, и горазд тот остров в виду». О том, что это за земля, Стадухин расспрашивал местных жителей. Они подтверждали: в океане действительно есть остров, до которого, когда океан покрывается льдом, можно на оленях дойти всего за один день...
Так и появилась географическая легенда о «великом острове» в Северном Ледовитом океане, расположенном против берегов Восточной Сибири. В существование этой обширной земли верили и многие десятилетия спустя после плавания Стадухина, однако в основе этой географической легенды лежало лишь то обстоятельство, что реально существующие небольшие острова, расположенные против устьев восточно-сибирских рек, и соединенные между собой ледяными полями, невольно показались землепроходцу одной громадной сушей. А свидетельства местных жителей? Что ж, здесь не было ошибки: они действительно посещали эти разрозненные острова, охотясь на песцов и нерпу.
Прошло более ста лет, и географы заговорили о другой гипотетической земле, получившей название «Земли Андреева». Весной 1763 года сержант Степан Андреев, вышедший из Анадыря, на собачьих упряжках объехал Медвежьи острова, известные русским уже с середины XVII века, и дал их беглое описание. С одного из островов сержант заметил на севере темное пятно, которое посчитал какой-то землей. Год спустя Андреев специально отправился на поиски, этой земли и 22 апреля увидел «остров весьма не мал... низменной, одним концом на восток, а другим на запад, а в длину так, например, быть имеет верст восемьдесят».
Так появилась на картах гипотетическая «Земля Андреева» Однако, уже через пять лет ее существование было подвергнуто сомнению.
Давайте посмотрим на современную карту. В группе островов Медвежьих можно найти острова Пушкарева, Леонтьева, Лысова. Вот имена людей — прапорщиков-топографов, — что отправились вместе с небольшим отрядом специально на поиски увиденной Андреевым земли, которую сам он так и не сумел достичь Весной 1769 года исследователи переправились из Нижне-Крлымска на собаках на Медвежьи острова и впервые детально обследовали этот маленький архипелаг. Позже, отправившись с самого восточного из Медвежьих островов, они проехали по льдам несколько сот километров на северо-восток, но не нашли никаких следов виденной Андреевым земли. Год спустя они продолжили поиски, но столь же безрезультатно Вероятно, Земля Андреева была лишь громадной ледяной глыбой, которая издали могла показаться островом...
Шли годы, десятилетия. На карту высоких широг наносились новые острова, уточнялись очертания их берегов. Но вместе с тем появлялись, однако, и новые географические легенды. Такой легендой, также просуществовавшей больше ста лет, стала Земля Санникова.
Еще в начале XIX века русский промышленник Яков Санников будто бы увидел к юго-западу от острова Котельного — одного из Новосибирских островов — большую землю. Однако сам он не побывал на ней, потому что путь преграждали большие полыньи, остающиеся открытыми в течение почти всего года.
Санников действительно открыл ряд островов в Северном Ледовитом океане — Столбовой, Фаддеевский, Новая Сибирь. Никто не усомнился в том, что Земля Санникова тоже существует на деле. Однако никому так и не удавалось достичь ее. Толль решил, что первым на эту землю ступит именно он.
Нет, на этом каменистом, покрытом снегом и льдами клочке земли нельзя было ожидать встречи 9 редкими животными, не росли там, без всякого сомнения, и разнообразные растения, вряд ли она была населена. Но ведь эта земля еще не была изучена, описана, еще ни разу на нее не ступала нога человека — именно в этом и состояла ее притягательность для исследователя начала XX века. Географические легенды тоже изменились с течением времени... И хотя во время прежних своих полярных экспедиций,— в 1885—1886 годах и в 1893 году, Эдуард Васильевич Толль проводил самые разнообразные исследования — геологические, метеорологические, ботанические, географические, Земля Санникова стала для него всеобъемлющим символом поиска.
Эдуард Васильевич Толль окончил один из старейших российских университетов — Юрьевский (ныне Тартуский). Первое путешествие совершил — это кажется довольно неожиданным для будущего полярного исследователя — по Средиземному морю: сопровождал в научной поездке своего бывшего учителя зоологии профессора М. Брауна. Во время этого путешествия Толль изучал фауну Средиземного моря, знакомился с геологическим строением некоторых островов. А в 1885 году, спустя три года после путешествия в теплые средиземноморские края, Э. В. Толль принял участие в большой полярной экспедиции, организованной Российской Академией наук для «исследования прибрежья Ледовитого моря в Восточной Сибири, преимущественно от Лены по Яне, Индигирке, Алазее и Колыме и пр , в особенности больших островов, лежащих в не слишком большом расстоянии от этого берега и получивших название Новой Сибири...» Это было путешествие, определившее всю его дальнейшую жизнь. Во время его, в 1886 году, он впервые увидел издали ту самую землю, которую когда-то увидел и описал промышленник Яков Санников. Это случилось 13 августа. «Горизонт совершенно ясный,— записал в своем дневнике Э. В. Толль.— Вскоре после того, как мы снялись с устья реки Могур-урях, в направлении на северо-запад 14—18° ясно увидели контуры четырех гор, которые на востоке соединялись с низменной землей Таким образом сообщение Санникова подтвердилось полностью. Мы вправе, следовательно, нанести в соответствующем месте на карту пунктирную линию и надписать на ней: Земля Санникова...»
Земля Санникова... Как предположил Толль, она, очевидно была сложена из базальтов, точно так же, как и некоторые другие острова Новосибирского архипелага, например остров Беннетта. Она отстояла, по его мнению, от уже исследованных островов на 150—200 километров к северу.
Семь лет спустя состоялась вторая экспедиция Э. В. Толля в высокие широты, теперь он сам был ее руководителем. Основной целью были раскопки тела мамонта, обнаруженного на побережье Восточно-Сибирского моря. Кроме того, проводились и инструментальные наблюдения, определялись астрономические пункты — это позволило во многом исправить и уточнить географические карты того времени...
Эти путешествия были для Толля временем, когда окончательно происходило его становление не только, как ученого, но как человека, личности. Характер его становился тверже, решительнее. Свое мнение, свои убеждения он готов был отстаивать в любых инстанциях. Это показали, например, события, предшествующие началу второй экспедиции.
Хотя Толль был назначен ее руководителем, специальная комиссия, созданная Российской Академией наук для разработки плана экспедиции, предложила инструкции, которые во многом ограничивали деятельность ученого. Вот выдержка из документа, подтверждающая это: «При этом комиссия считает своей обязанностью подтвердить, что разыскание и тщательная раскопка трупа мамонта есть первоначальная и главнейшая цель экспедиции. Академия, следовательно, ожидает от Вас особенных стараний для успешного выполнения этой основной задачи экспедиции и не изъявляет согласия на ускорение или упрощение работ по раскопке мамонта ради уделения большего времени исследованию реки Анабары, включенного в программу экспедиции лишь на случай, если заявленные трупы не оправдают ожиданий...»
Толль, однако, проявил твердость. Экспедиция, на его взгляд, могла принести более разнообразные и важные результаты, чем только раскопки тела мамонта, и он оказался прав, добившись более широких полномочий. Раскопки останков мамонта оказались не очень интересными: были обнаружены лишь небольшие остатки кожи ископаемого животного, покрытые шерстью, части ног да нижняя челюсть. Зато другие результаты экспедиции, продолжавшейся год и два дня, были значительно важнее.
Маршрут Толля пролег от верховьев реки Яны до северного берега острова Котельного, а затем — до Хатангской губы. Экспедиция произвела 4200 километров маршрутной съемки. Первым из исследователей Эдуард Васильевич Толль дал описание плоскогорья между реками Анабар и Попигай. На карте остались предложенные Толл'ем географические названия — хребет Прончищева и хребет Чекановского. Экспедиция вела подробный метеорологический журнал. Собраны были немалые палеонтологические материалы, которые впервые позволили получить представление о геологическом строении района Анабара и Хатанги. А к этому надо добавить и собранные экспедицией весьма обширные ботанические, зоологические, этнографические коллекции...
Большая серебряная медаль имени Н. М. Пржевальского — вот награда, которую получил Эдуард Васильевич Толль от русского географического общества, высоко оценившего результаты его путешествия. Да и Академия наук, прежде желавшая ограничить его самостоятельность, наградила ученого денежной премией. Имя исследователя стало известным он участвует в работе Международного геологического конгресса в Цюрихе, Русское географическое общество командирует его в Норвегию для приветствия от имени Общества знаменитого путешественника Фритьофа Нансена на устраиваемых в его честь торжествах.
Время, проведенное в Норвегии, Толль использовал для новых исследований: он изучал ледники покровного типа, характерные для Скандинавии. Вернувшись в Россию, ученый оставил службу в Академии наук и переехал в Юрьев, где начал писать большой научный очерк о геологии Новосибирских островов и работу о важнейших задачах исследования полярных стран. Это был широкий и развернутый план дальнейшего научного наступления на Арктику, руководство к действию для исследователей самых разных специальностей.
В эти годы, оказавшиеся весьма плодотворными, ученый проводил и разнообразные исследования в Прибалтике: изучал, например, развитие древних ледниковых отложений и колебания уровня Балтийского моря в послетретичный период...
Позже Толль плавал на первом русском ледоколе «Ермак», построенном по предложению другого замечательного русского ученого — адмирала С. О. Макарова, ставшего ему близким другом.
И не переставал мечтать о том времени, когда он сможет отправиться еще в одну экспедицию — специально снаряженную для того, чтобы достичь Землю Санникова.
21 июня 1900 года началась эта экспедиция на шхуне «Заря». Академия наук России, наконец, сочла возможным выделить средства на поиски предполагаемой суши к северу от Новосибирских островов.
Несколько ученых разных специальностей и небольшой экипаж «Зари» — таков был состав экспедиции. В путь отправились исследователи — энтузиасты, люди, похожие на своего руководителя. Маленькое судно отошло от Васильевского острова — оно стояло неподалеку от того места, где высится памятник первому русскому путешественнику вокруг света — И. Ф. Крузенштерну. Словно бы сам великий мореплаватель провожал Э. В. Толля в его экспедицию.
Толль верил в успех. Этой непоколебимой верой было пронизано все его выступление на общем собрании Российской Академии наук, состоявшемся незадолго до начала экспедиции; ученый подробно рассказывал на нем о своих планах. И, как свидетельствуют современники, ему удалось заразить этой твердой верой все собрание, даже тех людей, которые привыкли всегда и во всем сомневаться, а таких в любые времена достаточно среди ученых. Твердо, уверенно, он один за другим приводил многочисленные научные факты, которые, казалось, действительно неопровержимо свидетельствовали: да, Земля Санникова существует на самом деле, усомниться в этом невозможно.
Давайте вспомним эти факты; ведь уверенность Толля была основана не только на том, что он сам в 1886 году увидел на горизонте «контуры четырех гор, которые на востоке соединялись с низменной землей».
Сообщение Якова Санникова о том, что он видел землю, подтверждалось и открытием американского капитана Де-Лонга. На своем судне «Жаннета» он открыл севернее Новосибирских островов остров Беннета — он получил такое название в честь американского газетного «короля», финансировавшего экспедицию,— а ведь Санников в свое время тоже видел этот остров!
Факты, подтверждающие существование Земли Санникова, принесло, по Мнению Толля, и арктическое путешествие на судне «Фрам» Фритьофа Нансена, совершенное в 1893—1896 годах. В районе 78° северной широты и около 140° восточной долготы Нансен видел стаю бекасов; как считал норвежский исследователь, это служило бесспорным доказательством того, что где-то рядом есть неизвестная суша. Да и само направление движения «Фрама» вмерзшего в лед и дрейфующего вместе с ним, казалось, тоже свидетельствовало: поблизости должен быть остров. Существование Земли Санникова подтверждалось, наконец, и геологическим строением Новосибирских островов — породы, слагающие их, должны были и севернее образовывать выступы, поднимающиеся над уровнем моря...
Эту веру, оптимизм своего руководителя разделяли и участники экспедиции, и экипаж «Зари». Дневниковые записи Толля, которые он делал почти каждый день, хорошо это показывают. Вот как, например, исследователь описывает встречу на «Заре» нового, 1901 года:
«Театральное представление прошло довольно удачно... После продолжительного антракта был показан новогодний апофеоз. В полутьме перед нами стоял сгорбленный трясущийся старик на дрожащих ногах с ниспадающими седыми волосами.- Он опирался на посох. Это был старый год. Обращаясь к зрителям, он произнес несколько слов слабеющим голосом. При его последних словах часы ударили двенадцать, тогда старец пригнулся к земле и исчез со сцены. В это время на заднем плане обрисовалась ярко освещенная магнием молодая сильная фигура, художественно задрапированная в светлый флагдук, с голубой, украшенной звездами короной на голове. В руках у нее был транспарант, на котором светились пламенно-алые буквы двух слов: «Земля Санникова!» Более осмысленного воплощения наших стремлений в новом году вряд ли можно было себе представить. Пока я обдумывал несколько слов признательности, раздался голос Бирули (один из ученых экспедиции.- В. М.): «Спасибо, спасибо!» Не успев подготовить красивую речь, я поднял бокал рому за здоровье нашей прекрасной команды и сказал только, что она показала своей серьезной работой высокую сознательность при выполнении задач экспедиции, а своей веселой игрой и остроумием сократила всем нам зимнюю ночь».
Экспедиция продолжалась. И, наверное, Толль и не подозревал о том, что она окажется для него последней...
Первая зимовка «Зари» прошла у полуострова Таймыр. Затем судно перешло к острову Котельному — одному из островов Новосибирского архипелага. Здесь экспедиция провела вторую зимовку. Подойти к Земле Санникова из-за льдов было невозможно. Тогда Э. В. Толль принял решение: вместе с ученым Ф. Г Зее-бергом и двумя местными жителями-промышленниками он отправится к земле, которая так его манила, на нартах, а там, где путь преградят полыньи, на байдарках. Прежде всего четверо отважных людей должны были переправиться на остров Беннетта, затем к Земле Санникова. По намеченному плану некоторое время спустя, когда позволят льды, «Заря» должна была подойти к острову Беннетта и взять на борт четверых путешественников, которые, если удастся, уже должны были побывать на Земле Санникова и вернуться назад.
Цель, к которой так стремился Толль, была близка. Он деятельно готовился к предстоящему путешествию. В эти дни в его дневнике появляются такие строки:
«Среда 21 мая. Остро ощущаю правоту слов Гете: «Юг хранит много сокровищ! Но одно сокровище севера влечет непреодолимо к себе, словно сильный магнит».
Итак, бесповоротно решено — только через ту «неведомую гавань» на Беннете бежит мой путь на родину!
Покину «Зарю» спокойно. Только бы мне достигнуть цели! Если за нами придет «Заря», то наша яхта быстро помчится с попутным ветром обратно на юг, после того как на севере будут обретены сокровища науки; если же «Заря» не придет и мы останемся зимовать, то приложим с Зеебергом все силы к тому, чтобы как можно лучше использовать этот год!
...Чтение научных книг пробуждает во мне с каждым днем все больше соблазна к исследованию острова Беннета.
Период восточных ветров как будто закончился. Возможно, что в связи с этим полынья плотнее сомкнется, но тогда при гребле нам будет дуть встречный ветер. Если же полынья станет шире, у нас будет попутный ветер, тоже хорошо!
Понедельник 26 мая. ...Как туго натянутые струны напряжены мои нервы перед этим прыжком через полыньи и горы, через торосы и моря для того, чтобы через шесть месяцев вернуться обратно на родину! Завтра надо приняться за приготовления с удвоенной силой, так как днем снег заметно тает Не позже конца этой недели надо трогаться в путь.
Понедельник 2 июня. Все еще здесь. Бесконечно много дела перед отъездом...»
В этот же день, 2 июня 1902 года, Толль передал подробную инструкцию капитану «Зари»
«Что касается указаний относительно Вашей задачи снять меня с партией с острова Беннета, то напомню только известное Вам правило, что всегда следует хранить свободу действия судна в окружающих его льдах, так как потеря свободы движения судна лишает Вас возможности исполнить эту задачу Предел времени, когда Вы можете отказаться от дальнейших стараний снять меня с острова Беннета, определяется тем моментом, когда на «Заре» будет израсходован весь запас топлива для машины до 15 т угля.
Представляя себе приблизительно ту же картину, которую мы видели в прошлом году, именно пояс непроницаемого льда около 14 миль, окружающий южный конец острова Беннета, Вы, приставая к границе пака, отправите партию нескольких опытных и смелых людей к мысу Эмма. Если обстоятельства дозволят, то было бы желательно с ними же отправить некоторое количество консервов для устройства депо для будущих экспедиций.
На чертеже Де-Лонга восточный мыс на южной оконечности острова назван мысом Эмма. По его указанию, берег здесь скалистый и настолько узок, что американцы с трудом разбили здесь свои палатки поэтому и керн (груда камней, под которой была спрятана записка, свидетельствовавшая о пребывании на острове участников экспедиции на «Жаннете».— В. М.) экспедиции «Жаннеты» поставлен восточнее мыса Эмма. Там, вероятно, и будет наш знак, который укажет людям, в каком направлении нас искать. Около этого пункта одна часть нашей партии с 7 до 21 августа будет наблюдать за условленными сигналами.
Если поиски наших следов приведут к отрицательным результатам или Вы вследствие неимения более 15 т угля будете принуждены взять обратный курс, не сняв меня с партией, то Вы с этим количеством угля дойдете на «Заре» по меньшей мере до острова Котельного, а идя частью под парусами, быть может, и до Сибирского материка.
...Если летом нынешнего года лед около Новосибирских островов и между ними и островом Беннета совсем не исчезнет и не даст, таким образом, плавать «Заре», то предлагаю Вам оставить судно в этой гавани и вернуться со всем экипажем судна зимним путем на материк, следуя известному маршруту с острова Котельного на Ляховские острова. В таком случае Вы возьмете с собой только все документы экспедиции и важнейшие инструменты, оставив здесь остальной инвентарь судна и все коллекции. В этом же случае я постараюсь вернуться до наступления морозов к Новосибирским островам , затем зимним путем на материк.
Во всяком случае твердо верю в счастливое и благополучное окончание экспедиции...»
На следующий день, 3 июня 1902 года, Толль передал питану пакет, на котором была такая надпись: «Открыть в случае гибели экспедиционного судна и возвращения экипажа на материк или в случае моей смерти».
В последней телеграмме домой исследователь написал:
«Сегодня отправляюсь к острову Беннета. Все благополучно. Прошу тебя не беспокоиться, если «Заря» нас оттуда не снимет. Я надеюсь до зимы вернуться на Новую Сибирь и зимой на материк, а если нужно, перезимую на Беннете; нам одни птицы дадут годовой запас мясного провианта. В последнем случае вернусь с Беннета в мае будущего года на Новую Сибирь и летним путем по тундре со Святого Носа до Булуна, так что в сентябре буду в Якутске...»
Толль покинул «Зарю» вечером 5 июня. Его спутниками были астроном экспедиции Ф. Г. Зееберг и промышленники-якуты Николай Дьяконов и Василий Горохов.
...К горизонту протянулась по снегу тонкая ниточка следа: собачьи упряжки уносили на нартах четырех отважных путешественников, имевших при себе, кроме снаряжения и инструментов, запас продовольствия на два месяца.
Дневник, который вел ученый, остался на «Заре». Позже он был доставлен в Петербург и передан в Академию наук. Благодаря этому документу, сегодня мы почти во всех подробностях знаем о том, как проходило последнее путешествие Эдуарда Васильевича Толля. Правда, о том,- что происходило после 5 июня 1902 года известно гораздо меньше. И совсем ничего мы не знаем о том, какими были последние дни четырех отважных людей, решивших во что бы то ни стало достичь Землю Сан-никова.
«Первая половина торжественного заседания ученого общества, посвященного сообщениям членов экспедиции, снаряженной для поисков пропавшего без вести барона Толля и его спутников, подходило к концу. На кафедре, у стены, украшенной большими портретами сановных покровителей и председателей общества, находился морской офицер, совершивший смелое плавание в вельботе через Ледовитое море с Новосибирских островов на остров Беннета, на который высадился барон Толль, оттуда не вернувшийся. Мужественное лицо докладчика, обветренное полярными непогодами, оставалось в полутени зеленого абажюра лампы, освещавшей рукопись его доклада на кафедре и его флотский мундир с золотыми пуговицами и орденами.
За длинным столом перед кафедрой, покрытым зеленым сукном, заседали члены Совета общества — все видные ученые и известные путешественники, проживавшие в северной столице. В середине сидел председатель. Закрыв глаза, он, казалось дремал под журчание голоса докладчика. Небольшой зал был переполнен.
Докладчик уже описал ход спасательной экспедиции, трудный путь с тяжелым вельботом, поставленным на нарты, через торосы полярных льдов от материка на Новосибирские острова, летовку на берегу Котельного острова в ожидании вскрытия моря, борьбу со льдами при плавании вдоль берегов и отважный переезд через море к острову Беннета. Он охарактеризовал этот угрюмый остров, скованный льдами целый год, и описал находку избушки Толля, оставленных им вещей и документа с описанием острова, заканчивавшегося словами: «Отправляемся сегодня на юг; провизии имеем на пятнадцать—двадцать дней. Все здоровы».
— Итак,— провозгласил докладчик, повысив голос,— барон Толль, астроном Зееберг и промышленники Василий Горохов и Николай Дьяконов покинули остров Беннета и пустились по льду на юг к Новосибирским островам. Но на последние они не прибыли,— наши поиски не обнаружили никаких следов. Куда же девались смелые путешественники? Нет никакого сомнения, что они погибли в пути. В конце октября в этих широтах дня уже нет, только два-три часа около полудня тянутся сумерки. Морозы доходят до сорока градусов; часты свирепые пурги. Но море еще не замерзло и богато полыньями. Путешественники, очевидно, попали во время пурги на полынью, едва затянувшуюся льдом, и провалились. Или погибли, выбившись из сил, от голода и холода в борьбе с торосами, потому что собак у них не было и они сами тащили нарты, нагруженные байдарками и всем имуществом. Или наконец, пытаясь переплыть на утлых байдарках в полярную ночь через незамерзшее море, они потонули во время бури. Так или иначе, но они нашли вечный покой на дне Ледовитого моря, а Земли Санникова, которую Толль искал так долго и тщетно, не существует.
Докладчик сошел с кафедры. Слушатели были охвачены жутким впечатлением от заключительных слов доклада. Вдруг из задних рядов раздался громкий возглас:
— А все-таки она существует!
В зале произошло волнение. Послышались вопросы:
— Кто это? Что это за чудак?..
Председатель обвел публику строгим взглядом, встряхнул колокольчик и, когда зал затих, сказал:
— Предлагаю общему собранию членов общества и гостям почтить вставанием память погибших отважных путешественников: барона Толля, астронома Зееберга, промышленников Горохова и Дьяконова, положивших свою, жизнь на поприще науки.
Все поднялись с мест.
— Объявляю перерыв на четверть часа.
Сидевшие вблизи дверей быстро устремились к выходу. Члены Совета обступили докладчика, а один из них, тучный академик Шенк, известный исследователь, организатор и советчик экспедиции барона Толля, стал протискиваться к задним рядам. Среди шума сдвигаемых стульев и говора толпы раздался его громкий голос:
— Я прошу лицо, которое так уверено в существовании Земли Санникова, поговорить со мной...
Это — вновь цитата из романа Владимира Афанасьевича Обручева. Герои его нашли Землю Санникова, доказали, что Толль был прав, веря в существование острова, к которому так стремился. Действительность же оказалась иной... Но вот, рассказывая о поисках Толля, догадках о его судьбе, автор романа не отступил от истины.
«Заря» не смогла подойти к острову Беннета в назначенное время из-за ледовых условий, хотя капитан шхуны делал героические усилия, совершая одну попытку за другой. Наконец, когда были перегружены последние запасы угля из трюма в бункерные ямы, выяснилось, что осталось всего около девяти тонн топлива. К тому же, этот уголь, поднятый с самого дна трюма, оказался некачественным: он был сильно измельчен и смешан со льдом замерзшей трюмной воды. Угля такого качества для суточного движения судна требовалось больше четырех тонн; таким образом, оставшихся девяти тонн хватило бы лишь на два дня.
Скрепя сердце, капитан был вынужден отказаться от дальнейших попыток снять Толля и других исследователей с острова Беннета. К тому же истек назначенный самим Толлем срок — «Заря» должна была подойти к острову до 3 сентября. Наконец, капитан вскрыл пакет, врученный ему Толлем, с надписью: «Открыть в случае гибели экспедиционного судна и возвращения без меня экипажа на материк или в случае моей смерти». Предписание, оставленное Толлем, оказалось следующим:
«Поручая Вам вести весь личный состав Русской полярной экспедиции, ученый персонал и команду судна экспедиции на яхте «Заря» или другим, указанным мною в инструкции от 19 мая, путем до сибирского берега и дальше на родину,— я передаю Вам в целях единодушного исполнения этой задачи, на тот случай, если Вам не удастся снять меня с острова Беннета, или на случай моей смерти, все права начальника экспедиции...»
«Заря» повернула на юг. День спустя она встала на якорь возле одного из островов в бухте Тикси. А еще через несколько дней к острову подошел пароход «Лена», и немедленно началась перегрузка на него обширного научного материала, собранного за два года экспедицией Толля. Потом, поднявшись на пароходе по Лене, участники экспедиции добрались до Якутска.
В декабре 1902 года они вернулись в Петербург, откуда два года назад началось их путешествие на поиски Земли Санникова.
Теперь некоторым из них предстояла новая экспедиция в те же места. На этот раз — спасательная.
Положение, в котором оказались Э. В. Толль и его спутники, встревожило Академию наук. Его друзья, в том числе и адмирал С. О. Макаров, тоже были всерьез обеспокоены. С. О. Макаров объявил, что готов сам немедленно идти на поиски Толля на своем ледоколе «Ермак». Однако, флотское командование относилось с недоверием к возможности работы ледокола в тяжелых ледовых условиях. Макаров продолжал настаивать; он написал специальную работу, которая должна была убедить всех скептиков в том, что ледокол «Ермак» способен форсировать тяжелые арктические льды — разве не доказали это прошлые плавания первого русского ледокола? Но адмиралу-ученому так и не суждено было отправиться на поиски своего друга. Специально созданная Комиссия по снаряжению Русской полярной экспедиции, несмотря на все доводы, все же заключила, что для выполнения спасательных работ ледокол Макарова не подходит: как считали члены Комиссии, судно имеет слишком большую осадку и к тому же состав его команды чересчур велик, если экспедиции придется провести вынужденную зимовку.
Принятый план был другим: спасательная экспедиция должна была добраться до острова Беннета на вельботе с яхты «Заря», которая все еще оставалась в бухте Тикси. Как считали в ту пору, Толль и его спутники вынуждены были зазимовать на острове Беннета, и что спасти их будет не так уж трудно...
15 августа 1903 года вельбот с несколькими членами спасательной экспедиции вышел в открытое море и взял курс на мыс Эмма острова Беннета.
Переход оказался сравнительно легким и быстрым. Море было открытым, льда не было. Уже через день, 17 августа, вельбот подошел к южному берегу острова Беннета, и перед участниками экспедиции открылась живописная картина. В море спускались с высокой земли два ледника. У берега плавали сверкающие на солнце айсберги. Над берегом и прибрежной морской гладью носились сотни птиц, на льдинах можно было увидеть черные пятна тюленей.
Следы экспедиции Толля найдены были почти сразу же, едва только вельбот подошел к берегу: один из участников экспедиции багром поднял лежащий на прибрежной отмели блестящий предмет, который оказался крышкой от алюминиевого котелка. Однако, согласно условию, Толль должен был оставить сведения об экспедиции на мысе Эмма. И на следующий день, после первой ночевки на острове, несколько человек отправились к этому условленному месту...
Еще не дойдя до мыса, члены спасательной экспедиции нашли две стоянки Толля. На них были обнаружены следы костров, рубленые бревна плавника, служившего топливом А на мысе Эмма сразу же были найдены документы: в груде камней сложенных рукой человека, лежала бутылка с тремя записками.
«21 июля благополучно доплыли на байдарах. Отправимся сегодня по восточному берегу к северу Одна па; -ия из нас постарается к 7 августа быть на этом месте 25 тс i 1902 г, остров Беннета, мыс Эмма Толль»
Вторая записка оказалась более пространной Она была оза главлена — «Для ищущих нас» — и содержала подробный план острова Беннета Наконец, третья записка, которая была подпи сана Зеебергом, содержала такой текст
«Нам оказалось более удобным выстроить дом на месте указанном на этом листке Там находятся документы. 23 октября 1902 года.»
Разгадка судьбы, постигшей Толля и его спутников, была совсем рядом, близко. Едва дав себе короткий отдых, люди, искавшие следы отважного исследователя, поспешили к месту, указанному в третьей записке..
И здесь, на низком, отлогом берегу, сделаны были самые важные, самые обширные находки. Находки, которые все объяснили, и, увы, не принесли радости.
Прямо на берегу нашли два песцовых капкана и четыре ящика, в которых лежали собранные Толлем геологические коллекции. Неподалеку находился небольшой домик; до половины он был заполнен снегом, который смерзся, превратившись в твердую ледяную глыбу. На грубых дощатых полках найдены были анемометр, ящик с мелкими геологическими образцами, жестянка с патронами, морской альманах, незаполненные записные книжки, банки из-под пороха и консервов, отвертка, несколько пустых склянок. Когда же попробовали расколоть лед, заполнивший избушку, из-под груды камней появился на свет обшитый парусиной ящик, в котором лежал еще один документ. Это был краткий отчет Толля, составленный на двух языках и адресованный на имя президента Российской Академии наук. С волнением участники спасательной экспедиции прочитали:
«В сопровождении астронома Ф. Г. Зееберга и двух промышленников... Николая Дьяконова и Василия Горохова, я отправился 5 июня из зимней гавани «Заря» (губы Нерпичьей острова Котельного). Мы шли по северным берегам острова Котельного и Фаддеевского к мысу Высокому острова Новой Сибири. 13 июля взяли курс на остров Беннета. Лед был в довольно разрушенном состоянии. 25 июля в расстоянии 3 миль от мыса Высокого лед был окончательно разломан ветром. Приготовляясь к плаванию на байдарах, мы убили здесь последних собак. Отсюда нас несло на льдине нашего лагеря в течение 4 и ½ суток 48 миль по курсу. Заметив затем удаление нашей льдины на 10 миль к югу, оставили ее 31 июля. Проплыв благополучно на двух байдарах оставшиеся 23 мили до острова Беннета, 3 августа высадились у мыса Эмма.
По съемке астронома Зееберга, определившего здесь сверх того, как и по пути, магнитные элементы всего в 10 пунктах, остров Беннета — не больше 200 квадратных км. Остров Беннета представляет плоскогорье не выше 1500 футов (457 м). По геологическому строению остров Беннета является продолжением Средне-Сибирского плоскогорья, сложенного и здесь из древнейших осадочных пород (кембрийских), прорезанных извержениями базальтов. Местами сохранились под потоками базальтов флецы бурого угля с остатками древней растительности именно хвойных. В долинах острова изредка лежат вымытые кости мамонтов и других четвертичных животных.
Ныне живущим обитателем острова Беннета, кроме белого медведя и временного гостя моржа, оказался олень: стадо в 30 голов водилось на скалистых пастбищах острова. Мы питались его мясом и шили себе необходимую для зимнего обратного пути обувь и одежду. Следующие птицы жили на этом острове: 2 вида гаг, один вид куликов, снегирь, 5 видов чаек и между ними розовая. Пролетными птицами явились: орел, летевший с юга на север, сокол — с севера на юг и гуси, пролетевшие стаей с севера на юг. Вследствие туманов земли, откуда прилетали птицы, так же не было видно, как и во время прошлой навигации,— Земли Санникова.
Мы оставили здесь следующие инструменты: круг Пистора и Мартенса с горизонтом, инклинатор Краузе, анемометр, фотографический аппарат «Нора» и некоторые др.
Отправимся сегодня на юг. Провизии имеем на 14—20 дней. Все здоровы. Э. Толль. Губа Павла Кеппена острова Беннета, 26 X—8 XI 1902 г.»
Можно было понять из этого документа: Толль не утратил веры в существование Земли Санникова, однако так и не сумел из-за туманов разглядеть ее с острова Беннета. И еще — когда уже кончались запасы продовольствия, Толль и его спутники приняли решение пробиваться по льдам на юг...
Разбив сплошную груду льда, до половины заполнившую избушку Толля, участники спасательной экспедиции действительно нашли на ее полу испорченный фотоаппарат, некоторые инструменты и ящик с нетронутыми фотографическими кассетами. Ничего больше обнаружить не удалось и, захватив документы и собранные Толлем геологические образцы, спасательная партия вернулась к тому месту, где стоял вельбот.
Экспедиции пришлось быстро покинуть остров Беннета: ухудшающаяся погода не позволила бы благополучно проделать обратный путь на хрупком вельботе, и к тому же начал иссякать запас провизии и патронов. И, установив на острове памятный столб с датами пребывания здесь Толля, люди, нашедшие его след, вернулись на остров Новая Сибирь.
Что могло заставить Толля решиться на столь рискованный шаг, как переход по морскому льду в полярную ночь? Ведь сам он, как это видно из инструкций, отданных капитану «Зари», из последней телеграммы жене, намеревался, если «Заря» не придет на остров Беннета в назначенный срок, остаться здесь на зимовку. На острове Беннета нетрудно было состарить обширный запас продовольствия на зиму: здесь были и птицы, и олени. Но, очевидно, Толль был уверен в том, что яхта обязательно придет на остров, а потом, когда выяснилось, что надежды на это больше нет, заниматься промыслом было уже поздно: птицы улетели, олени ушли от преследования на лед...
И, по сути, трагическая судьба, постигшая Э. В. Толля и трех его спутников, была уже выяснена. Отчаянный поход во мгле черной полярной ночи, с самыми скудными запасами еды, почти наверняка должен был привести путешественников не к обжитым людьми местам, где можно было ждать помощи, а к трагической гибели.
В этой главе приведено много документов — отрывки из дневника Толля, его инструкции, записки, найденные спасательной экспедицией. Осталось вспомнить еще один. 22 ноября 1904 года состоялось заседание Комиссии Российской Академии наук, участники которого вынуждены были определить:
«1. В связи с тем, что море между Новосибирским архипелагом и островом Беннета, куда Толль выступил с «Зари» 5 июня 1902 г., вероятно никогда не замерзает, его партии предстояло передвигаться на каяках, на которые невозможно грузить необходимое снаряжение. Как видно из донесения Толля, 13 июля, отъехав всего 5,5 км от берега Новой Сибири, партия была вынуждена перебить всех собак и плыть дальше на льдине, а потом на каяках. На остров Беннета путешественники прибыли 3 августа с минимальным запасом пищи, одежды, охотничьих принадлежностей и многих необходимых инструментов. Первое время партия питалась мясом оленей, из шкур которых шила себе обувь и одежду, но вскоре распуганное оленье стадо, очевидно, ушло с острова площадью в 200 кв. км на береговой припай, где и погибло. Спустя три месяца партия, лишенная запасов продовольствия выступила по окончании исследования острова на юг в разгар арктической ночи с запасом продовольствия на 14—20 дней, но не имея смены одежды на случай ее промокания и не имея горючего для приготовления пищи, а главное — для получения пресной воды.
2. Из записей метеорологического журнала А. А. Бялыницкого-Бирули, который он вел 200 км южнее — на острове Новой Сибири — видно, что в 1902 г. температура к 9 сентября упала до — 21° и до времени ухода Э. В. Толля с острова Беннета (8 ноября) неизменно колебалась между —18 и —25°. При таких низких температурах на пространстве между островом Беннета и Новосибирским архипелагом нагромождаются высокие труднопреодолимые торосы. Затянутые льдом и предательски запорошенные снегом промежутки между торосами во мраке полярной ночи становятся еще опаснее, чем при путешествии в светлое время года. Обширные полыньи, покрытые тонким слоем ледяных кристаллов, совершенно не видны в густом тумане. При движении по полынье байдарка покрывается толстым слоем льда, а двухлопастные весла, обмерзая, превращаются в тяжелые ледяные глыбы. Кроме того, ледяное «сало» спрессовывается перед носовой частью байдарки и еще более затрудняет движение и обмерзшая байдарка легко переворачивается. При таких обстоятельствах трещина во льду шириной всего лишь в 40 м представляла непреодолимое препятствие для перехода партии.
3. Принимая во внимание, что со дня ухода партии с острова Беннета, 8 ноября 1902 г., протекло уже с лишком два года — время вполне достаточное для выхода кого-либо из членов партии к местам населенным и слишком продолжительное для того, чтобы при указанных выше условиях снаряжения кто-либо из них мог просуществовать на льду или в местах пустынных,— комиссия пришла к убеждению, что всех членов партии нужно считать погибшими».
Все же, несмотря на такой документ, Комиссия назначила премию за «отыскание всей партии или части ее» и другую премию, меньших размеров, «за первое указание несомненных следов ее».
...Эти премии так никогда и никому не были присуждены.
Нет, онкилоны никогда не существовали, как не было и Эльдорадо. Да и самой Земли Санникова, как это совершенно точно известно теперь, никогда не было, как не было страны семи городов. Землю Санникова напрасно искали впоследствии, уже в советское время, и ледокольные и воздушные экспедиции. Как считают теперь ученые, скорее всего она была лишь огромной ледяной горой, просуществовавшей века и наконец исчезнувшей — в Северном Ледовитом океане были и другие такие призрачные острова, правда меньшего размера... Так что же, напрасными оказались поиски Э. В. Толля, напрасной была сама цель, к которой он так стремился многие годы?
Нет, конечно! Ведь экспедиции Толля дали огромный научный материал. Были во многом уточнены географические карты, экспедиция на «Заре» проводила океанографические и астрономические исследования, проложила путь в этот район Арктики многим другим людям. И по праву рассказ о поисках Земли Санникова подводит черту под историей путешествий, совершенных вслед за географической легендой, географическим вымыслом, но добавивших к сумме знаний о Земле новые, иной раз драгоценные крупицы.
А сам герой этих поисков, замечательный русский ученый Эдуард Васильевич Толль, оказался, несмотря на трагический исход своей последней экспедиции, едва ли не счастливее всех тех людей, о которых мы рассказывали во время нашего путешествия за легендой. Наверное, не будет в этом преувеличения: судьбу его выбрали бы многие другие исследователи, ведь он сам стал географической легендой. Легендой, которая многих вдохновила на другие трудные маршруты.













