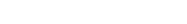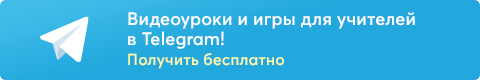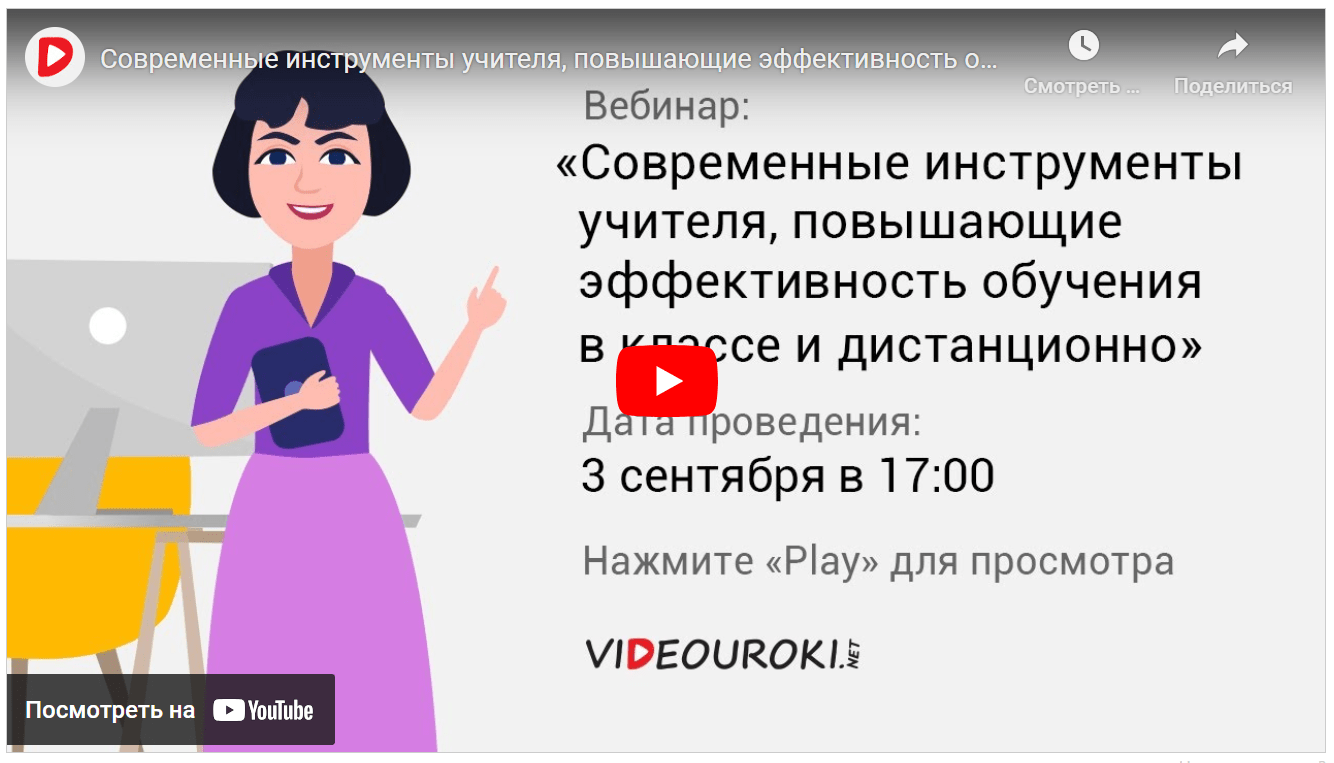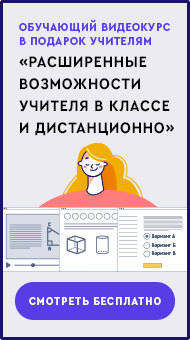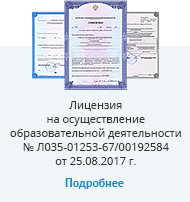СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ
Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно
Скидки до 50 % на комплекты
только до
Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой
Организационный момент
Проверка знаний
Объяснение материала
Закрепление изученного
Итоги урока

Александр Николаевич Афанасьев Мифы древних славян
Русская мифология – это совершенно особый и удивительный мир. Сейчас заметно повышается интерес к родной культуре наших предков – ведам, язычеству, обычаям, праздникам древних славян и языческой культуре с культом почитания бога Солнца и других. Обо всем этом вы сможете прочитать в книге, которую мы представляем вашему вниманию.
Как был сотворен белый свет и возникли славянские народы, откуда «есть пошла земля Русская»; как поклонялись богам, умилостивляли лесных и водяных духов, почитали языческих богов и святых, совершали семейные обряды и справляли праздники? На эти вопросы вы найдете ответы в нашей книге.
Также в книге представлен весь пантеон древних славянских богов – от бога золота и богатства Велеса до бога Солнца Ярилы. Удивительные картины художника и знатока древней славянской мифологии Андрея Гусельникова подарят вам незабываемые впечатления от знакомства с древними богами наших предков.
Просмотр содержимого документа
«Александр Николаевич Афанасьев Мифы древних славян»

Текст предоставлен издательством http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=8883040&lfrom=202213444
«Мифы древних славян / А. Н. Афанасьев.»: РИПОЛ; Москва; 2014
ISBN 978‑5‑386‑07753‑2
Аннотация
Русская мифология – это совершенно особый и удивительный мир. Сейчас заметно повышается интерес к родной культуре наших предков – ведам, язычеству, обычаям, праздникам древних славян и языческой культуре с культом почитания бога Солнца и других. Обо всем этом вы сможете прочитать в книге, которую мы представляем вашему вниманию.
Как был сотворен белый свет и возникли славянские народы, откуда «есть пошла земля Русская»; как поклонялись богам, умилостивляли лесных и водяных духов, почитали языческих богов и святых, совершали семейные обряды и справляли праздники? На эти вопросы вы найдете ответы в нашей книге.
Также в книге представлен весь пантеон древних славянских богов – от бога золота и богатства Велеса до бога Солнца Ярилы. Удивительные картины художника и знатока древней славянской мифологии Андрея Гусельникова подарят вам незабываемые впечатления от знакомства с древними богами наших предков.
© Оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2014
Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.
©Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес (www.litres.ru)
Богатый и, можно сказать, единственный источник разнообразных мифических представлений есть живое слово человеческое, с его метафорическими и созвучными выражениями. Чтобы показать, как необходимо и естественно создаются мифы (басни), надо обратиться к истории языка. В жизни языка, относительно его организма, наука различает два различных периода: период его образования, постепенного сложения (развития форм) и период упадка и расчленения (превращений).
Всякий язык начинается с образования корней или тех основных звуков, в которых первобытный человек обозначал свои впечатления, производимые на него предметами и явлениями природы. Возникавшее понятие пластически обрисовывалось словом как верным и метким эпитетом. Еще до сих пор в наших областных наречиях и в памятниках устной народной словесности слышится та образность выражений, которая показывает, что слово для простолюдина не всегда есть только знак, указывающий на известное понятие, но что в то же время оно живописует самые характеристические оттенки предмета и яркие, картинные особенности явления. Приведем примеры: зыбун – неокреплый грунт земли на болоте, пробежь – проточная вода, леи (от глагола лить) – проливные дожди, сеногной – мелкий, но продолжительный дождь, листодер – осенний ветр, поползуха – мятель, которая стелется низко по земле, одран – тощая лошадь, лизун – коровий язык, куроцап – ястреб, каркун – ворон, холодянка – лягушка, полоз – змей, изъедуха – злобный человек, и проч.; особенно богаты подобными речениями народные загадки: мигай – глаз, сморкало, сопай и нюх – нос, лепетайло – язык, зевало и ядало – рот, грабилки и махалы – руки, понура – свинья, лепета – собака, живулечка – дитя и многие другие, в которых находим прямое, для всех очевидное указание на источник представления. Так как различные предметы и явления легко могут быть сходны некоторыми своими признаками и в этом отношении производят на чувства одинаковое впечатление, то естественно, что человек стал сближать их в своих представлениях и придавать им одно и то же название или, по крайней мере, названия, производные от одного корня. Предмет обрисовывался с разных сторон и только во множестве синонимических выражений получал свое полное определение. Но должно заметить, что каждый из этих синонимов, обозначая известное качество одного предмета, в то же самое время мог служить и для обозначения подобного же качества многих других предметов и таким образом связывать их между собою. Здесь‑то именно кроется тот богатый родник метафорических выражений, чувствительных к самым тонким оттенкам физических явлений, который поражает нас своею силою и обилием в языках древнейшего образования и который впоследствии, под влиянием дальнейшего развития племен, постепенно иссякает. В обыкновенных санскритских словарях находится пять названий для руки, 11 – для света, 15 – для облака, 20 – для месяца, 26 – для змеи, 35 – для огня, 37 – для солнца и т. д.
Теперь представим, какое смешение понятий, какая путаница представлений должны были произойти при забвении коренного значения слов; а такое забвение рано или поздно, но непременно постигает народ. Более и более удаляясь от первоначальных впечатлений и стараясь удовлетворить вновь возникающим умственным потребностям, народ обнаруживает стремление обратить созданный им язык в твердо установившееся и послушное орудие для передачи собственных мыслей. А это становится возможным только тогда, когда самый слух утрачивает свою излишнюю чуткость к произносимым звукам, когда силою долговременного употребления, силою привычки слово теряет наконец свой исконный живописующий характер и с высоты поэтического, картинного изображения нисходит на степень абстрактного наименования – делается ничем более, как фонетическим знаком для указания на известный предмет или явление, в его полном объеме, без исключительного отношения к тому или другому признаку. Большая часть названий, данных народом под наитием художественного творчества, основывалась на весьма смелых метафорах. Но как скоро были порваны те исходные нити, к которым они были прикреплены изначала, метафоры эти потеряли свой поэтический смысл и стали приниматься за простые, непереносные выражения и в таком виде переходили от одного поколения к другому. Понятные для отцов, повторяемые по привычке детьми, они явились совершенно неразгаданными для внуков. Сверх того, переживая века, дробясь по местностям, подвергаясь различным географическим и историческим влияниям, народ и не в состоянии был уберечь язык свой во всей неприкосновенности и полноте его начального богатства: старели и вымирали прежде употребительные выражения, отживали как грамматические формы, одни звуки заменялись другими родственными, старым словам придавалось новое значение. Вследствие таких вековых утрат языка, превращения звуков и подновления понятий, лежавших в словах, исходный смысл древних речений становился все темнее и загадочнее, и начинался неизбежный процесс мифических обольщений, которые тем крепче опутывали ум человека, что действовали на него неотразимыми убеждениями родного слова. Светила небесные уже не только в переносном, поэтическом смысле именуются «очами неба», но в самом деле представляются народному уму под этим живым образом, и отсюда возникают мифы о тысячеглазом, неусыпном ночном страже Аргусе и одноглазом божестве солнца; извивистая молния является огненным змеем, быстролетные ветры наделяются крыльями, владыка летних гроз – огненными стрелами. Смотря на громоносную тучу, народ уже не усматривал в ней Перуновой колесницы, хотя и продолжал рассказывать о воздушных поездах бога‑громовника и верил, что у него действительно есть чудесная колесница. Там, где для одного естественного явления существовали два, три и более названий, каждое из этих имен давало обыкновенно повод к созданию особенного, отдельного мифического лица, и обо всех этих лицах повторялись совершенно тождественные истории – так, например, у греков рядом с Фебом находим Гелиоса.
Ничто так не мешает правильному объяснению мифов, как стремление систематизировать, желание подвести разнородные предания и поверья под отвлеченную философскую мерку, чем по преимуществу страдали прежние, ныне уже отжившие методы мифотолкования. Не имея прочных опор, руководясь только собственною, ничем не сдержанною догадкою, ученые, под влиянием присущей человеку потребности уловить в бессвязных и загадочных фактах сокровенный смысл и порядок, объясняли мифы каждый по своему личному разумению; одна система сменяла другую, каждое новое философское учение рождало и новое толкование старинных сказаний, и все эти системы, все эти толкования так же быстро падали, как и возникали. Миф есть древнейшая поэзия, и, как свободны и разнообразны могут быть поэтические воззрения народа на мир, так же свободны и разнообразны и создания его фантазии.
Следя за происхождением мифов, за их исходным, первоначальным значением, исследователь постоянно должен иметь в виду и их дальнейшую судьбу. В историческом развитии своем мифы подвергаются значительной переработке. Каждое явление природы, при богатстве старинных метафорических обозначений, могло изображаться в чрезвычайно разнообразных формах; формы эти не везде одинаково удерживались в народной памяти: в разных ветвях населения выказывалось преимущественное сочувствие к тому или другому сказанию, которое и хранилось как святыня, тогда как другие сказания забывались и вымирали. Что было забываемо одною отраслью племени, то могло уцелеть у другой, и наоборот, что продолжало жить там, то могло утратиться здесь. Те поэтические образы, в каких рисовала народная фантазия могучие стихии и их влияние на природу, почти исключительно были заимствуемы из того, что окружало человека, что по тому самому было для него и ближе и доступнее; из собственной житейской обстановки брал он свои наглядные уподобления и заставлял божественные существа творить то же на небе, что делал сам на земле. Но как скоро утрачено было настоящее значение метафорического языка, старинные мифы стали пониматься буквально, и боги мало‑помалу унизились до человеческих нужд, забот и увлечений и с высоты воздушных пространств стали низводиться на землю, на это широкое поприще народных подвигов и занятий. Шумные битвы их во время грозы сменились участием в людских войнах; ковка молниеносных стрел, весенний выгон дождевых облаков, уподобляемых дойным коровам, борозды, проводимые в тучах громами и вихрями, и рассыпание плодоносного семени = дождя заставили видеть в них кузнецов, пастухов и пахарей; облачные сады и горы и дождевые потоки, вблизи которых обитали небесные боги и творили свои славные деяния, были приняты за обыкновенные земные леса, скалы и источники, и к этим последним прикрепляются народом его древние мифические сказания.
Каждая отдельная часть племени привязывает мифы к своим ближайшим урочищам и чрез то налагает на них местный отпечаток. Низведенные на землю, поставленные в условия человеческого быта, воинственные боги утрачивают свою недоступность, нисходят на степень героев и смешиваются с давно усопшими историческими личностями. Миф и история сливаются в народном сознании; события, о которых повествует последняя, вставляются в рамки, созданные первым; поэтическое предание получает историческую окраску, и мифический узел затягивается еще крепче.
С развитием народной жизни, когда в отдельных ветвях населения обнаруживается стремление сплотиться воедино, необходимо возникают государственные центры, которые вместе с тем делаются и средоточиями духовной жизни; сюда‑то приносится все разнообразие мифических сказаний, выработанных в различных местностях; несходства и противоречия их бросаются в глаза, и рождается естественное желание примирить все замеченные несогласия. Принимая указания мифов за свидетельства о действительной жизни богов и их творческой деятельности и стараясь по возможности устранить все сомнительное, они из многих однородных редакций выбирают одну, которая наиболее соответствует требованиям современной нравственности и логики; избранные предания они приводят в хронологическую последовательность и связывают их в стройное учение о происхождении мира, его кончине и судьбах богов. Так возникает канон, устрояющий царство бессмертных и определяющий узаконенную форму верований. Между богами установляется иерархический порядок; они делятся на высших и низших; самое общество их организуется по образцу человеческого, государственного союза, и во главе его становится верховный владыка с полною царственною властию.
Итак, зерно, из которого вырастает мифическое сказание, кроется в первозданном слове; там, следовательно, и ключ в разгадке басни, но чтобы воспользоваться им, необходимо пособие сравнительной филологии. Так называемые индоевропейские языки, к отделу которых принадлежат и наречия славянские, суть только разнообразные видоизменения одного древнейшего языка, который был для них тем же, чем позднее для наречий романских был язык латинский, с тою, однако ж, разницей, что в такую раннюю эпоху не было литературы, чтобы сохранить нам какие‑нибудь остатки этого праязыка. Племя, которое говорило на этом древнейшем языке, называло себя ариями, и от него‑то, как многоплодные отрасли от родоначального ствола, произошли народы, населяющие почти всю Европу и значительную часть Азии. Каждый из новообразовавшихся языков, развиваясь исторически, многое терял из своих первичных богатств, но многое и удерживал, как залог своего родства с прочими арийскими языками, как живое свидетельство их былого единства.
Хотя наука и далека еще от тех окончательных выводов, на которые имеет несомненное право, тем не менее, сделано много. Тщательный разбор слов, происхождение которых относится к арийскому периоду, свидетельствует, что племя, гением которого они созданы, обладало языком вполне образовавшимся и чрезвычайно богатым, что оно вело жизнь наполовину пастушескую, кочевую, наполовину земледельческую, оседлую, что у него были прочные семейные и общественные связи и известная степень культуры: оно умело строить села, города, пролагать дороги, делать лодки, приготовлять хлеб и опьяняющие напитки, знало употребление металлов и оружия, знакомо было с некоторыми ремеслами; из зверей – бык, корова, лошадь, овца, свинья и собака, из птиц – гусь, петух и курица уже были одомашнены. Большая часть мифических представлений индоевропейских народов восходит к отдаленному времени ариев; выделяясь из общей массы родоначального племени и расселяясь по дальним землям, народы, вместе с богато выработанным словом, уносили с собой и самые воззрения и верования.
Летописные свидетельства о дохристианском быте славян слишком незначительны, и, ограничиваясь ими, мы никогда не узнали бы родной старины, тогда как указанные источники дают возможность начертить довольно полную и верную ее картину. Поэтому считаем небесполезным предпослать несколько кратких заметок о памятниках народной литературы, свидетельствами которых придется нам постоянно пользоваться.
1. Загадка. Народные загадки сохранили для нас обломки старинного метафорического языка. Вся трудность и вся сущность загадки именно в том и заключается, что один предмет она старается изобразить чрез посредство другого, какой‑нибудь стороною аналогического с первым. Кажущееся бессмыслие многих загадок удивляет нас только потому, что мы не постигаем, что мог найти народ сходного между различными предметами, по‑видимому столь непохожими друг на друга; но как скоро поймем это уловленное народом сходство, то не будет ни странности, ни бессмыслия. Приведем несколько примеров: «черненька собачка, свернувшись, лежит: ни лает, ни кусает, а в дом не пускает» (замок); «лежит баран – не столько шерсти на нем, сколько ран» (колода, на которой дрова рубят), «в хлеву у быка копна на рогах, а хвост на дворе у бабы в руках» (ухват с горшком); «сивая кобыла по полю ходила, к нам пришла – по рукам пошла» (сито); «сквозь лошадь и корову свиньи лен волокут» (тачать сапоги).
Так как происхождение загадок тесно связано с образованием метафорического языка, то понятно, какой важный материал представляют они для наследований мифологических, и особенно те из них, которые наименее доступны непосредственному пониманию, а требуют для своего разъяснения ученого анализа. В них запечатлел народ свои старинные воззрения на мир божий: смелые вопросы, заданные пытливым умом человека о могучих силах природы, выразились именно в этой форме. Такое близкое отношение загадки к мифу придало ей значение таинственного ведения, священной мудрости, доступной преимущественно существам божественным. У греков задает загадки чудовищный сфинкс; в скандинавской Эдде боги и великаны состязаются в мудрости, задавая друг другу загадки мифического содержания, и побежденный должен платить своей головою. Славянские предания загадыванье загадок приписывают Бабе‑яге, русалкам и вилам; как лужицкая полудница наказывает смертию того, кто не сумеет отвечать на ее мудреные вопросы, так и наши русалки готовы защекотать всякого, кто не разрешит заданной ими загадки. Ответы древних оракулов, поучения кельтских друидов, предсказания вещих людей обыкновенно облекались в этот таинственный язык и в кратких изречениях ходили в народе, как выражения высшего разума и правдивого взгляда на жизнь и природу. Хитрое припирание загадками составляет любимый эпический прием у всех младенческих народов; на нем основаны многие произведения старинной книжной литературы, народные сказки, песни и знаменитый стих о Голубиной книге, исполненный любопытных космогонических преданий.
2. Пословицы, поговорки, присловья, прибаутки мало представляют осязательных намеков на языческие верования; но они важны как выразительные, меткие, по самой форме своей наименее подверженные искажению образцы устной народной речи и как памятники издавна сложившихся воззрений на жизнь и ее условия. Пословицы и поговорки сливаются со всеми другими краткими изречениями народной опытности или суеверия, как‑то: клятвами, приметами, истолкованиями сновидений и врачебными наставлениями. Эти отрывочные, нередко утратившие всякий смысл изречения примыкают к общей сумме стародавних преданий и в связи с ними служат необходимым пособием при объяснении различных мифов.
Примета всегда указывает на какое‑нибудь соотношение, большею частию уже непонятное для народа, между двумя явлениями мира физического или нравственного, из которых одно служит предвестием другого, непосредственно за ним следующего, долженствующего сбыться в скором времени. Главным образом приметы распадаются на два разряда:
а) во‑первых, приметы, выведенные из действительных наблюдений. По самому характеру первоначального быта пастушеско‑земледельческого, человек всецело отдавался матери‑природе, от которой зависело все его благосостояние, все средства его жизни. Понятно, с каким усиленным вниманием должен был он следить за ее разнообразными явлениями, с какою неустанною заботливостью должен был всматриваться в движение небесных светил, их блеск и потухание, в цвет зари и облаков, прислушиваться к ударам грома и дуновению ветров, замечать вскрытие рек, распускание и цветение деревьев, прилет и отлет птиц, и проч. и проч. Не зная естественных законов, народ не мог понять, почему известные причины вызывают всегда известные последствия; он видел только, что между различными явлениями и предметами существует какая‑то таинственная близость, и результаты своих наблюдений, своей впечатлительности выразил в тех кратких изречениях, которые так незаметно переходят в пословицы и так легко удерживаются памятью. Приметы эти более или менее верны, смотря по степени верности самых наблюдений, и многие из них превосходно обрисовывают быт поселянина. Приведем несколько примеров: если в то время, когда пашут землю, подымается пыль и садится на плечи пахаря, то надо ожидать урожайного года, т. е. земля рыхла и зерну будет привольно в мягком ложе. Частые северные сияния предвещают морозы; луна бледна – к дождю, светла – к хорошей погоде, красновата – к ветру; огонь в печи красен – к морозу, бледен – к оттепели; если дым стелется по земле, то зимою будет оттепель, летом – дождь, а если подымается вверх столбом – это знак ясной погоды летом и мороза зимою: большая или меньшая яркость северных сияний, цвет луны и огня и направление дыма определяются степенью сухости и влажности воздуха, отчего зависят также и ясная погода или ненастье, морозы или оттепель, на том же основании падение туманов на землю сулит непогоду, а туманы, подымающиеся кверху, предвещают вёдро. Если зажженная лучина трещит и мечет искры – ожидай ненастья, т. е. воздух влажен и дерево отсырело;
b) но, сверх того, есть множество примет суеверных, в основании которых лежит не опыт, а мифическое представление, так как в глазах язычника – под влиянием старинных метафорических выражений – все получало свой особенный, сокровенный смысл. Между этими приметами, на которые наталкивали человека его верования и самый язык, и приметами, порожденными знакомством с природою, таится самая тесная связь. Древнейшее язычество состояло в обожании природы, и первые познания об ней человека были вместе и его религией; поэтому действительные наблюдения часто до того сливаются в народных приметах с мифическими воззрениями, что довольно трудно определить, что именно следует признать здесь за первоначальный источник. Многие приметы, например, вызваны, по‑видимому, наблюдением над нравами, привычками и свойствами домашних и других животных. Народы пастушеские и звероловные, обращаясь постоянно с миром животных, не могли не обратить внимания на эти признаки и должны были составить из них для себя практические приметы. Но с другой стороны, если взять в соображение ту важную роль, какую играют в мифологии зооморфические олицетворения светил, бури, ветров и громовых туч, то сам собою возникает вопрос: не явились ли означенные приметы плодом этих баснословных представлений? О некоторых приметах, соединяемых с птицами и зверями, положительно можно сказать, что они нимало не соответствуют настоящим привычкам и свойствам животных, а между тем легко объясняются из мифических сближений, порожденных старинным метафорическим языком; так, например, рыжая корова, идущая вечером впереди стада, предвещает ясную погоду на следующий день, а черная – ненастье.
В важных случаях жизни, когда народ или отдельные лица нуждались в указаниях свыше, вещие люди приступали к религиозным обрядам: возжигали огонь, творили молитвы и возлияния, приносили жертву и по ее внутренностям, по виду и голосу жертвенного животного, по пламени огня и по направлению дыма заключали о будущем или выводили посвященных богам животных и делали заключения по их поступи, ржанию или мычанию; точно так же полет нарочно выпущенных священных птиц, их крик, принятие и непринятие корма служили предвестиями успеха или неудачи, счастия или беды. Совершалось и множество других обрядов, с целью вызвать таинственные знамения грядущих событий. Подобно тому как старинное метафорическое выражение обратилось в загадку, так эти религиозные обряды перешли в народные гадания и ворожбу. Сюда же относим мы и сновидения: это та же примета, только усмотренная не наяву, а во сне; метафорический язык загадок, примет и сновидений один и тот же. Сон был олицетворяем язычниками, как существо божественное, и все виденное во сне почиталось внушением самих богов, намеком на что‑то неведомое, чему суждено сбыться. Поэтому сны нужно разгадывать, т. е. выражения метафорические переводить на простой, общепонятный язык. Чтобы нагляднее показать то важное влияние, какое имели на создание примет, гаданий, снотолкований и вообще поверий язык и наклонность народного ума во всем находить аналогию, мы приведем несколько примеров.
Не должно кормить ребенка рыбою, прежде нежели минет ему год; в противном случае он долго не станет говорить: так как рыба нема, то суеверие связало с рыбною пищею представление о долгой немоте ребенка.
Не должно есть с ножа, чтобы не сделаться злым – по связи понятий убийства, резни и кровопролития с острым ножом.
Если при весеннем разливе лед не тронется с места, а упадет на дно реки или озера, то год будет тяжелый; от тяжести потонувшего льда поселяне заключают о тяжелом влиянии грядущего лета: будет или неурожай, бескормица, или большая смертность в стадах, или другая беда. Вообще падение сулит несчастие, так как слово «падать», кроме своего обыкновенного значения, употребляется еще в смысле умереть: падеж скота, падаль. Если упадет со стены образ – это служит знаком, что кто‑нибудь умрет в доме.
На святой неделе стелят на лавку полотенце, на которое ставятся принесенные из церкви образа; по окончании обычного молитвословия хозяйка просит священника вскинуть это полотенце на крышу избы, чтобы лен родился долгий (высокий); если полотенце не скатится с крыши, то лен уродится хороший. В Германии, при посеве льна, хозяйка взлезает на стол и прыгает на пол: «So hoch sie niedersprang, so hoch sollte der Flachs wachsen». У литовцев на празднике, после уборки хлеба, рослая девушка становилась на скамью на одной ноге и, поднявши левую руку вверх, призывала бога Вайсганта: «Возрасти нам такой же длинный лен, как высока я теперь, чтоб мы не ходили голые!» За недобрую примету почиталось, если бы она пошатнулась при этом обряде.
В случае пореза обмакивают белую ветошку в кровь и просушивают у печки: как высыхает тряпица, так засохнет, т. е. затянется, и самая рана. Сушить ветошку надо слегка, не на сильном огне, а то рана еще пуще разболится. В былое время даже врачи не советовали тотчас после кровопускания ставить кровь на печку или лежанку, думая, что от этого может усилиться в больном внутренний жар, воспаление.
Когда невеста моется перед свадьбою в бане и будут в печи головешки, то не следует бить их кочергою, не то молодой муж будет бить свою суженую. Для пояснения этой приметы прибавим, что пламя очага издревле принималось за эмблему домашнего быта и семейного счастия. Подруги раздевают невесту, моют и парят ее, избегая всякого шума и приговаривая: «Как тихо моется раба Божия (такая‑то), так да будет тиха ее жизнь замужняя!» В Литве думают, что вымытые детские пеленки не должно катать на скалке, а потихоньку перетирать в руках, чтобы не мучили ребенка желудочные боли.
Два человека столкнутся нечаянно головами – знак, что им жить вместе, думать заодно (Воронежская губерния). Принимая часть за целое, народные приметы соединяют с волосами представление о голове: не должно остриженных волос жечь или кидать зря, как попало – от этого приключается головная боль. Крестьяне собирают свои остриженные волоса, свертывают вместе и затыкают под стреху или в тын. Чьи волоса унесет птица в свое гнездо, у того будет колтун, т. е. волоса на голове собьются так же плотно, как в птичьем гнезде. Вместе с тем волоса сделались эмблемою мысли, думы и самого характера человека.
Нога, которая приближает человека к предмету его желаний, обувь, которою он при этом ступает, и след, оставляемый им на дороге, играют весьма значительную роль в народной символике. Понятиями движения, поступи, следования определялись все нравственные действия человека; мы привыкли называть эти действия поступками, привыкли говорить: войти в сделку, вступить в договор, следовать советам старших, т. е. как бы идти по их следам; отец ведет за собою детей, муж – жену, которая древле даже называлась водимою, и, смотря по тому, как они шествуют за своими вожатыми, составляется приговор о их поведении; нарушение уставов называем проступком, преступлением, потому что соединяем с ним идею совращения с настоящей дороги и переступания законных границ: кто не следует общепринятым обычаям, тот человек беспутный, непутевый, заблуждающийся; сбившись с дороги, он осужден блуждать по сторонам, идти не прямым, а окольным путем. Выражение «перейти кому дорогу» до сих пор употребляется в смысле: повредить чьему‑либо успеху, заградить путь к достижению задуманной цели. Отсюда примета, что тому, кто отправляется из дому, не должно переходить дороги; если же это случится, то не жди добра. Может быть, здесь кроется основа поверья, по которому перекрестки (там, где одна дорога пересекает другую) почитаются за места опасные, за постоянные сборища нечистых духов. В тот день, когда уезжает кто‑нибудь из родичей, поселяне не метут избы, чтобы не замести ему следа, по которому бы мог он снова воротиться под родную кровлю. Как метель и вихри, заметая проложенные следы и ломая поставленные вехи, заставляют плутать дорожных людей, так стали думать, что, уничтожая в дому следы отъехавшего родича, можно помешать его возврату. По стародавнему верованию, колдун может творить чары «на след»; «повредить или уничтожить след» означало метафорически: отнять у человека возможность движения, сбить его с ног, заставить слечь в постель.
И на Руси, и в Германии чара эта совершается одинаково: колдун снимает широким ножом след своего противника, т. е. вырезывает землю или дерн, на котором стояла его нога, и вырезанный ком сжигает в печи или вешает в дымовой трубе: как сохнет дерн и земля, так высохнет = исчахнет и тот несчастный, на чей след творится чара; лошадь, по немецкому поверью, может охрометь, если воткнуть гвоздь в ее свежий след. Литовцы вынутый след зарывали на кладбище и верили, что человек ради этого должен умереть в скором времени, т. е. отправиться по своему следу в жилище усопших. На Руси мать завязывает дочери глаза, водит ее взад и вперед по избе и затем пускает идти, куда хочет. Если случай приведет девушку в большой угол или к дверям – это служит знаком близкого замужества, а если к печке – то оставаться ей дома, под защитою родного очага. Большой угол потому предвещает свадьбу, что там стоят иконы и оттуда достается образ, которым благословляют жениха и невесту. Сваха, являясь с предложением к родителям невесты, старается усесться на лавку так, чтобы половица из‑под ее ног шла прямо к двери, – думают, что это содействует успеху дела, что родители согласятся выдать невесту. Кто, выходя из дому, зацепится в дверях или споткнется на пороге, о том думают, что его что‑то задерживает, притягивает к этому дому, и потому ожидают его скорого возврата. Любопытна еще следующая примета: перед поездом к венцу невеста, желающая, чтобы сестры ее поскорее вышли замуж, должна потянуть за скатерть, которою покрыт стол. Метафорический язык уподобляет дорогу разостланному холсту; еще доныне говорится: полотно дороги. Когда кто‑нибудь из членов семейства уезжает из дому, то остающиеся на месте махают ему платками, чтобы «путь ему лежал скатертью» – был бы и ровен, и гладок. «Потянуть скатерть» означает, следовательно, потянуть за собою в дорогу и других родичей. Подобные представления должны были заявить себя и в юридической обстановке быта. По древнегерманскому праву, слуга, переходя во власть нового господина, и невеста, вступающая в брачный союз, обязаны были «in den Schuh des Gebieters treten» – в ознаменование того, что они будут шествовать одною с ним жизненною дорогою, ходить вслед за ним, т. е. покоряться его воле и с нею сообразовать свои поступки. Я. Гримм указывает на обряд, в силу которого кающийся в грехах наступал на правую ногу исповедника, изъявляя тем свою готовность идти по его праведным стопам У нас замечают: кто из молодой четы – жених или невеста – вступит во время венчания прежде на разостланный плат, тот и будет властвовать в доме; здесь как бы решается вопрос, кто из новобрачных за кем будет следовать по жизненному пути. О мужьях, послушных женам, говорится, что они «под башмаком», «под туфлею».
Если чешутся глаза – придется плакать, если лоб – кланяться с приезжим, губы – кушать гостинец, ладонь – считать деньги, ноги – отправляться в дорогу, нос – слышать о новорожденном или покойнике; понятия «слуха» и «чутья» отождествляются в языке: малоросское чую – слышу, наоборот, великорусы говорят: «слышу запах»; у кого горят уши – того где‑нибудь хулят или хвалят, т. е. придется ему услышать о себе худую или хорошую молву.
Вместе с одеждою снимается и самая хворь, и вместе с нею передается она другому. Страдающий куриною слепотою идет на перекресток, садится наземь и притворяется, будто ищет чего‑то. На вопрос прохожего «Что ищешь?» должно отвечать: «Что найду, то тебе отдам!» – и при этих словах утереть глаза рукою и махнуть на любопытного; этого достаточно, чтобы болезнь оставила одного и перешла на другого.
Если мертвец лежит с открытыми глазами, если гроб для покойника сделан велик, если западет могила, т. е. образуется в ней яма, – все эти приметы служат предвещанием, что вскоре еще кто‑нибудь умрет в семье. Об открытых глазах покойника думают, что они высматривают, кого бы увести с собой на тот свет, и потому на Руси и в Литве закрывают умершему веки и накладывают на них медные монеты; гроб велик – значит, есть еще место для другого покойника, а яма в могиле – знак, что она требует новой жертвы; крестьяне, как только заметят, что могила запала, тотчас же засыпают ее снова и заравнивают.
Если муж бьет жену, то надо положить под мертвеца осколок того орудия, которым он дрался, и тогда он сделается кротким (Калужская губерния): злоба его скончается. Если муж распутен, то жена должна взять с какой‑нибудь могилы щепоть земли, всыпать ее в напиток и попотчевать мужа: распутство в нем замрет навсегда. Кто прикасался к мертвому, тот не должен сеять: зерно замрет в его руках и не даст всходов. Мыло, которым обмывали покойника, называется у знахарей мертвым; этим мылом они очерчивают у человека, пораженного сибирскою язвою, больные места; натирают им шнуры, из которых делаются петли для ловли зайцев; намазывают капканы, приготовляемые на волков и других зверей. Смысл тот, что действием «мертвого мыла» сибирская язва замирает = уничтожается, а петли и капканы приобретают мертвящую силу: попавшийся зверь уже не вырвется!
3. Заговоры суть обломки древних языческих молитв и заклинаний и потому представляют один из наиболее важных и интересных материалов для исследователя доисторической старины. В них встречаем мы много странного, загадочного, необъяснимого с первого взгляда, что близорукие любители народности привыкли принимать за бесполезный хлам, но что при более серьезной критике оказывается отголосками поэтических воззрений глубочайшей древности. Они непригодны для забавы и, как памятники вещего, чародейного слова, вмещают в себе страшную силу, которую не следует пытать без крайней нужды, иначе наживешь беду. Заговоры поэтому вышли из общего употребления и составили предмет тайного ведения знахарей, колдунов, лекарок и ворожеек; к ним и обращается народ в тех случаях, когда необходимо прибегнуть к помощи старинных заклятий. Могучая сила заговоров заключается именно в известных эпических выражениях, в издревле узаконенных формулах; как скоро позабыты или изменены формулы – заклятие недействительно.
4. Из отдела народных лирических песен для исследователя старины особенно важны обрядовые, названные так потому, что ими сопровождаются семейные и праздничные обряды. Это песни свадебные, похоронные заплачки и причитания, колядки, веснянки, троицкие, купальские и т. п. Они служат необходимым пояснением различных церемоний и игрищ, совершаемых в том или другом случае, и сохраняют любопытные указания на старинные верования и давно отживший быт. Основа их – древнее мифическое сказание, и если станем ближе в них всматриваться и сличать их вариации, живущие там и здесь у народов родственных, то непременно убедимся, что влияние христианства и дальнейшей исторической жизни коснулось только имен и обстановки, а не самого содержания: вместо мифических героев подставлены исторические личности или святые угодники, вместо демонических сил – названия враждебных народов да в некоторых местах прибавлены позднейшие бытовые черты.
Неразлучным товарищем эпической песни были у славян гусли, до сих пор составляющие необходимую принадлежность почти каждого дома в гористых местах Сербии, Боснии, Герцеговины и Черногорья; у малороссиян для этого служит бандура. Старинные поэтические сказания возглашались под звуки музыкальных инструментов; размер стихов и напев постоянно оставались неизменными, а чуткость уха, любовь к мелодии заставляли дорожить каждым словом.
Народные эпические герои – прежде чем низошли до человека, его страстей, горя и радостей, прежде чем явились в исторической обстановке – были олицетворениями стихийных сил природы; отсюда объясняются и те громадные размеры, и та сверхъестественная сила, которые придаются им в былинах и сказках; и в этом нет ничего странного, антихудожественного: поэтический образ создавался фантазией согласно с громадностью и могуществом естественных явлений и надолго удерживал за собою их существенные признаки. Воспевая подвиги богатырей, народный эпос рассказывает, как единым взмахом меча‑кладенца побивают они несчетные рати и как за единый дух выпивают чару зелена вина – в полтора ведра. Видеть в этих подробностях апофеозу грубого насилия и пьянства может только тот, кто не потрудился вникнуть в мифические основы сказаний, живописующих перед нами борьбу бога‑громовника с демоническими силами дожденосных туч. Как в Ведах Индра, а в Эдде Тор, богатыри наши поражают враждебные рати несокрушимым мечом‑молнией и не в меру упиваются дождем, который метафорически назывался медом и вином. На древние мифические основы сказаний и у славян, как у всех других народов, историческая жизнь накладывает свое клеймо.
Народные духовные песни, известные на Руси под именем стихов, могут дать полезные указания для разъяснения мифов, так как мотивы христианские более или менее сливаются в них с древнеязыческими. Откуда бы ни были принесены к нам апокрифические сочинения – из Византии или Болгарии, – суеверные подробности, примешанные ими к библейским сказаниям, большею частию коренятся в глубочайшей древности, в воззрениях арийского племени, и потому должны были найти для себя родственный отголосок в преданиях нашего народа. Этим объясняется и то особенное сочувствие, какое издавна питал народ к статьям «отреченным»: они были для него доступнее, ближе, не шли вразрез с его верованиями и действовали на его воображение знакомыми ему образами. Из числа духовных песен, сбереженных русским народом, наиболее важное значение принадлежит стиху о Голубиной книге, в котором что ни строка – то драгоценный намек на древнее мифическое представление. Некоторые из преданий, занесенных в означенный стих, встречаются в старинных болгарских рукописях апокрифического характера, появившихся на Руси после принятия христианства; не заключать отсюда, что предания эти чужды были русским славянам и проникли к ним только чрез посредство литературных памятников, было бы грубою ошибкою. Суеверные сказания, передаваемые стихом о Голубиной книге, составляют общее достояние всех индоевропейских народов, находят свое оправдание в истории языка и совершенно совпадают с древнейшими мифами индусов и с показаниями Эдды – свидетельство в высшей степени знаменательное! Происхождение их, очевидно, относится к арийскому периоду, и рукописные памятники могли только подновить в русском народе его старинные воспоминания. Самая форма, в какой передается содержание стиха – форма вопросов или загадок, требующих разрешения, – отзывается значительною давностью.
5. До последнего времени существовал несколько странный взгляд на народные сказки. Правда, их охотно собирали, пользовались некоторыми сообщаемыми ими подробностями, как свидетельством о древнейших верованиях, ценили живой и меткий их язык, искренность и простоту эстетического чувства; но в то же время в основе сказочных повествований и в их чудесной обстановке видели праздную игру ума и произвол фантазии, увлека ющейся за пределы вероятности и действительности. Сказка – складка, песня – быль, говорила старая пословица, стараясь провести резкую границу между эпосом сказочным и эпосом историческим. Извращая действительный смысл этой пословицы, принимали сказку за чистую ложь, за поэтический обман, имеющий единою целью занять свободный досуг небывалыми и невозможными вымыслами. Что творится произволом ничем не сдержанной фантазии, то не в состоянии произвести такого полного согласия и не могло бы уцелеть в такой свежести; творчество не остановилось бы на скучном повторении одних и тех же чудес, а стало бы выдумывать новые. Доказательством служат все искусственные подделки под народные рассказы, подделки, в которых чудесное близко граничит с нелепицей и бессмыслием. И к чему народ стал бы беречь, как драгоценное наследие старины, то, в чем сам бы видел только вздорную забаву?
Итак, сказка не пустая складка; в ней, как и вообще во всех созданиях целого народа, не могло быть и в самом деле нет ни нарочно сочиненной лжи, ни намеренного уклонения от действительного мира. Точно так же старинная песня не всегда быль; она, как уже замечено выше, большею частию переносит сказочные предания на историческую почву, связывает их с известными событиями народной жизни и прославившимися личностями и чрез то вставляет стародавнее содержание в новую рамку и придает ему значение действительно прожитой былины. Сказка же чужда всего исторического; предметом ее повествований был не человек, не его общественные тревоги и подвиги, а разнообразные явления всей обоготворенной природы. Оттого она не знает ни определенного места, ни хронологии; действие совершается в некое время – в тридевятом царстве, в тридесятом государстве; герои ее лишены личных, исключительно им принадлежащих характеристических признаков и похожи один на другого как две капли воды. Чудесное сказки есть чудесное могучих сил природы; в собственном смысле оно нисколько не выходит за пределы естественности, и если поражает нас своею невероятностью, то единственно потому, что мы утратили непосредственную связь с древними преданиями и их живое понимание.
Как народная песня, так и сказка не раз обращалась к христианским представлениям и отсюда почерпала материал для новой обстановки своих древних повествований. Заимствование событий и лиц из библейской истории, самый взгляд, выработавшийся под влиянием священных книг и отчасти отразившийся в народных произведениях, придали этим последним интерес более высокий, духовный; песня обратилась в стих, сказка – в легенду. Разумеется, и в стихах, и в легендах заимствованный материал передается далеко не в должной чистоте. Это, во‑первых, потому, что источниками, из которых брал народ данные для своих легендарных сказаний, были по преимуществу сочинения апокрифические, составлявшие его любимое чтение; а во‑вторых, – потому, что новые христианские черты, налагаемые на старое, давно созданное содержание, должны были подчиняться требованиям народной фантазии и согласоваться с преданьями и поверьями, уцелевшими от эпохи доисторической.
Языческие представления имеют свою историю; они создаются не вдруг, а постепенно – вместе с поступательным движением народной жизни, с медленным усвоением уму и памяти внешних явлений природы. Отделив себя от остального мира, человек увидел всю свою слабость и ничтожность пред тою неодолимою силою, которая заставляла его испытывать свет и мрак, жар и холод, наделяла его насущною пищею или карала голодом, посылала ему и беды и радости. Природа являлась то нежною матерью, готовою вскормить земных обитателей своею грудью, то злою мачехой, которая вместо хлеба подает твердый камень, и в обоих случаях всесильною властительницею, требующею полного и безотчетного подчинения. Поставленный в совершенную зависимость от внешних влияний, человек признал ее за высочайшую волю за нечто божественное и повергся перед нею с смиренным младенческим благоговением.
Всякое явление, созерцаемое в природе, делалось понятным и доступным человеку только чрез сближение с своими собственными ощущениями и действиями, и как эти последние были выражением его воли, то отсюда он естественно должен был заключить о бытии другой воли (подобной – человеческой), кроющейся в силах природы. Иной образ мышления, который мог бы указать ему в природе те бездушные стихии, какие мы видим в ней, был невозможен, ибо требует для себя уже готового отвлеченного языка, который бы не властвовал над фантазией, а был бы покорным орудием в устах человека.
На сущность мысли наших доисторических предков язык оказывал чарующее влияние; для них достаточно было, следуя замеченному сходству явлений, сказать: «буря воет», «солнце восходит», как тотчас же возникали в мыслях и те орудия, при посредстве которых совершаются подобные действия человеком и другими животными. Следовательно, при самом начале творческого создания языка силам природы уже придавался личный характер. Чтобы лишить природу ее живого, одушевленного характера, чтобы в быстронесущихся облаках видеть одни туманные испарения, а в разящей молнии – электрические искры, нужно насилие ума над самим собою, необходима привычка к рефлексии, а следовательно, до известной степени искусственное образование. Потому‑то и дитя и простолюдин не способны к отвлеченному созерцанию, мыслят и выражаются в наглядных пластических образах. Ушибется ли ребенок о какую‑нибудь вещь, в уме его тотчас же возникает убеждение, что она нанесла ему удар, и он готов отплатить ей тем же; катящийся с пригорка камень кажется ему убегающим, журчание ручья, шелест листьев, плеск волны – их говором.
Человек невольно переносил на божественные стихии формы своего собственного тела или знакомых ему животных, разумеется, формы более совершенные, идеальные, соответственно действительному могуществу стихий. Понятно, что в воззрениях древнейшего народа не могло быть и не было строгого различия между побуждениями и свойствами человеческими и приписанными остальной природе; в его мифах и сказаниях вся природа является исполненною разумной жизни, наделенною высшими духовными дарами: умом, чувством и словом; к ней обращается он и с своими радостями, и с своим горем и страданиями и всегда находит сочувственный отзыв. В шепоте древесных листьев, свисте ветра, плеске волн, шуме водопада, треске распадающихся скал, жужжании насекомых, крике и пении птиц, реве и мычании животных – в каждом звуке, раздающемся в природе, поселяне думают слышать таинственный разговор, выражения страданий или угроз, смысл которых доступен только чародейному знанию вещих людей.
Противоположность света и тьмы, тепла и холода, весенней жизни и зимнего омертвения – вот что особенно должно было поразить наблюдающий ум человека. Чудная, роскошная жизнь природы, громко звучащая в миллионах разнообразных голосов и стремительно развивающаяся в бесчисленных формах, обусловливается силою света и тепла; без нее все замирает. Подобно другим народам, наши праотцы обоготворили небо, полагая там ее вечное царство, ибо с неба падают солнечные лучи, оттуда блистают и луна и звезды и проливается плодотворящий дождь. В большей части языков слова, означающие небо, в то же время служат и названиями бога. В наших заговорах слышатся такие молитвенные обращения: «ты, Небо, слышишь! ты, Небо, видишь!» Во всех религиях небо – жилище божества, его седалище, престол, а земля – подножие. Галицкая пословица говорит: «Знает (или: бачить) Бог с неба, що кому треба»; а русские поговорки утверждают, что «до Бога высоко» и «который Бог замочит (дождем), тот и высушит (солнцем)»; в народной песне встречаем следующее выражение: «А ему як богови, що живе высоко на небе!» Народная фантазия, создавшая для разнообразных явлений, связанных с небом, различные поэтические олицетворения, представляла их и в едином, нераздельном образе. Варуна, божество неба, по индийским преданиям, устрояет свет и времена, выводит в путь солнце и звезды; солнце – его глаз, а ветер, колеблющий воздух, – его дыхание. По литовскому преданию, божество это олицетворялось в женском образе королевы Каралуни. Каралуни – богиня света, юная, прекрасная дева; голову ее венчает солнце; она носит плащ, усеянный звездами и застегнутый на правом плече месяцем; утренняя заря – ее улыбка, дождь – ее слезы, падающие на землю алмазами. По указаниям, сохраненным для нас в высшей степени любопытным стихом о Голубиной книге, такое воззрение, общее всем индоевропейским народам, не чуждо и славянам: солнце красное (читаем в этом стихе) от лица божьего, млад светел месяц от грудей божиих, звезды частые от риз божиих, зори белые от очей господних, ночи темные от опашня Всевышнего, ветры буйные от его дыхания, громы от его глаголов, дробен дождик и росы от его слез. По другим свидетельствам, светила суть очи небесного божества, молнии – его огненные стрелы, оружие, которым оно разит демонов, облака и тучи – его кудри или облекающая его одежда. Народ до сих пор повторяет, что «небо – нетленная риза господня».
У славян отец‑Небо получил название Сварога: он верховный владыка Вселенной, родоначальник прочих светлых богов, прабог. Подмечая различные проявления элемента тепла и света, анализируя их, ум человеческий должен был раздробить блестящее, светлое небо и присущие ему атрибуты на отдельные божественные силы. Такое деление, вносимое познающею способностью, не противоречило поэтическому чувству, которое стремится облекать все в живые образы. Дело ума поэтически выразилось в естественной форме рождения новых богов от Сварога. В Ипатьевской летописи находим вставку из греческой хроники Малалы, где Гелиос переводится Дажьбогом: «…и после (после Сварога) царствовал сын его именем Солнце, его же наричють Дажьбог… Солнце‑царь, сын Сварогов, еже есть Дажьбог, бе бо мужь силен». Дажьбог, упоминаемый Нестором, Словом о полку и другими памятниками в числе славянских богов, есть, следовательно, солнце, сын неба, подобно тому как Аполлон почитался сыном Зевса; сербская песня называет солнце – чадом божиим. Слово «дажь» есть прилагательное от даг (готск. dags, нем., tag, санскр. ahan вместо dahan) – день, свет, родственного с санскр. корнем dah – жечь и литовск. глаголом degu – горю. Другой сын Сварога‑неба был огонь = молния (Агни=Индра), о котором выражается неизвестный христолюбец: «Погневи молятся, зовут его Сварожичем». На новых богов, рожденных отцом‑Небом, переносятся его различные атрибуты и признаки; вместе с этим им присвояется и владычество над миром; Сварог, по древнему сказанию, предается покою, предоставляя творчество и управление вселенною своим детям.
Обожание солнца славянами засвидетельствовано многими преданиями и памятниками. Исчезающее вечером, как бы одолеваемое рукою смерти, оно постоянно каждое утро снова является во всем блеске и торжественном величии, что и возбудило мысль о солнце как о существе неувядаемом, бессмертном, божественном. Как светило вечно чистое, ослепительное в своем сиянии, пробуждающее земную жизнь, солнце почиталось божеством благим, милосердым; имя его сделалось синонимом счастия. Галицкая поговорка: «И в мое оконце засветить сонце» («Колись и на нас сонечко гляне»), русская: «Взойдет солнце и к нам на двор» (вар. «Прийдет солнышко и к нашим окошечкам»), польская: «Bedzie i przed naszemi wrotami sfonce», сербская: «Doh’lie сунце и пред наша врата», хорватские: «Razswetii se sonce i na wratich mojich», «Sonce moje schaja» имеют значение: будет и на нашей стороне счастье! Напротив: «Sonce mi je pomerknelo» (хорват.), «pomirklo mu je sunce» (хорват.) значит: померкло, закатилось мое счастье. Отсюда объясняется мифическая связь солнца с судьбою, в руках которой людское счастье. Солнце – творец урожаев, податель пищи и потому покровитель всех бедных и сирых. Детское причитание, обращенное к солнцу, молит:
Солнушко‑ведрушко!
Выглянь в окошечко.
Твои детки плачут,
Есть‑пить просят.
В народных сказках к солнцу, месяцу и звездам обращаются герои в трудных случаях жизни, и божество дня, сострадая несчастию, помогает им. Вместе с этим солнце является и карателем всякого зла, т. е. по первоначальному воззрению – карателем нечистой силы мрака и холода, а потом и нравственного зла – неправды и нечестия. С этою стороною мифического представления слилась мысль о вредоносном влиянии жаров, производящих засуху, истребляющих жатвы и влекущих за собою неурожай и моры. Губительное действие зноя приписывалось гневу раздраженного божества, наказующего смертных своими огненными стрелами = жгучими лучами. Выражение «воспылать гневом» указывает, что чувство это уподоблялось пламени. Самые названия солнца, указывающие на понятия огня, горения, порождали в уме мысль о его разрушительных свойствах: как в разведенном пламени видели пожирание горючих материалов всеистребляющим огнем (слова «гореть» и «жрать» мифологически тождественны), так нередко и солнце в народных преданиях представляется готовым пожрать тех сказочных странников, которые приходят к нему с вопросами.
В русском простонародье есть любопытное сказание о том, как некогда божество наказало за непочтение к солнцу. Это было давно, у Бога еще не было солнца на небе, и люди жили в потемках. Но вот, когда Бог выпустил из‑за пазухи солнце, дались все диву, смотрят на солнышко и ума не приложат… А пуще бабы – повынесли они решета, давай набирать света, чтобы внести в хаты да там посветить: хаты еще без окон строились. Поднимут решето к солнцу, оно будто и наберется света полным‑полно, через край льется, а только что в хату – и нет ничего! А божье солнышко все выше да выше подымается, уже припекать стало. Вздурели бабы, сильно притомились за работой, хоть света и не добыли, а тут еще солнце жжет – и вышло такое окаянство: начали на солнце плевать! Бог прогневался и превратил нечестивых в камень.
Ночные светила: месяц и звезды, как обитатели небесного свода и представители священной для язычника светоносной стихии, были почитаемы в особенных божественных образах. Увидевши молодой месяц, простолюдины наши до сих пор крестятся и сопровождают этот обряд различными причитаньями на счастье и здоровье; у германцев же было в обычае преклонять колена и обнажать головы перед новорожденным месяцем. Наравне с солнцем, в заговорах находим частые обращения и к звездам и к месяцу: «Месяц ты красный! звезды вы ясныя! солнышко ты привольное! сойдите и уймите раба божьего (от запоя)»; «Месяц, ты месяц! сними мою зубную скорбь» и проч. Обоготворение светил и ожидание от них даров плодородия, ниспосылаемого небом, влекли простодушных пахарей и пастухов древнейшей эпохи к усиленным наблюдениям за ними.
Русские поселяне узнают время ночи по течению звезд, преимущественно по Большой Медведице, и создали себе много разных замечаний о погоде и урожаях по сиянию звезд и месяца: яркий свет их сулит плодородие. У германцев был обычай: отходя вечером ко сну, посылать прощальный привет звездам, с чем согласно новогреческое обыкновение: исправлять перед сном молитву не прежде, как взойдет вечерняя звезда.
В одном из русских заговоров читаем: «Встахом заутра и помолихсе Господу Богу и дьннице».
И у нас, и у немцев простолюдины, завидев падающую звезду, творят молитву, будучи убеждены, что всякое желание, высказанное в то короткое время, пока звезда катится, непременно исполнится. Кометы причислялись также к звездам и назывались хвостатыми звездами или зирками с метлою. Таким образом, на основании различных уподоблений световой полосы, отбрасываемой ядром кометы, язык придает ей хвост, метлу или бороду. Редкое явление комет заставило непривычный к ним народ соединять с этими хвостатыми звездами мысль о божественном предвещании грядущих бед за людские грехи и о призыве смертных к покаянию.
Солнце и Месяц были представляемы в родственной связи – или как сестра и брат, или как супруги. Форма полумесяца невольно наводила фантазию на думу о рассеченном его лике; в наших областных наречиях умаляющийся после полнолуния месяц называется перекрой (от кроить – резать). Беспрестанные изменения, замечаемые в объеме месяца, породили мысль об его изменчивом характере, о непостоянстве и неверности в любви этого обоготворенного светила, так как и нарушение супружеских обетов выражается словом «измена». В ярко‑багряном диске восходящего солнца видели пламенеющий гневом лик небесной царицы; чистота солнечного блеска возбуждала представление о девственной чистоте богини, выступающей на небо в пурпуровой одежде зари и в сияющем венце лучей, как богато убранная невеста. В славянских преданиях мы находим черты, вполне соответствующие литовскому сказанию. Олицетворяя солнце в женском образе, русское поверье говорит, что в декабре месяце, при повороте на лето, оно наряжается в праздничный сарафан и кокошник и едет в теплые страны; а на Иванов день (24 июня) Солнце выезжает из своего чертога на встречу к своему супругу Месяцу, пляшет и рассыпает по небу огненные лучи: этот день полного развития творческих сил летней природы представляется как бы днем брачного союза между Солнцем и Месяцем.
По народному поверью, Солнце и Месяц с первых морозных дней (с началом зимы, убивающей земное плодородие и, так сказать, расторгающей брачный союз солнца) расходятся в разные стороны и с той поры не встречаются друг с другом до самой весны; Солнце не знает, где живет и что делает Месяц, а он ничего не ведает про Солнце. Весною же они встречаются и долго рассказывают друг другу о своем житье‑бытье, где были, что видели и что делали. При этой встрече случается, что у них доходит до ссоры, которая всегда оканчивается землетрясением; наши поселяне называют Месяц гордым, задорным и обвиняют его, как зачинщика ссоры. Встречи между Солнцем и Месяцем бывают поэтому и добрые и худые: первые обозначаются ясными, светлыми днями, а последние – туманными и пасмурными. Заметим, что в весенних грозах, сопровождающих возврат солнца из дальних странствований в царстве зимы, воображению древнейших народов рисовались, с одной стороны, брачное торжество природы, поливаемой семенем дождя, а с другой – ссоры и битвы враждующих богов; в громовых раскатах, потрясающих землю, слышались то клики свадебного веселья, то воинственные призывы и брань.
Как по литовскому, так и по славянским преданиям от божественной четы Солнца и Месяца родились звезды. Малорусские колядки, изображая небесный свод великим чертогом или храмом, называют видимые на нем светила: месяц – домовладыкою, солнце – его женою, а звезды – их детками.
Солнце постоянно совершает свои обороты: озаряя землю днем, оставляет ее ночью во мраке; согревая весною и летом, покидает ее во власть холоду в осенние и зимние месяцы. Где же бывает оно ночью? – спрашивал себя древний человек, куда скрываются его животворные лучи в зимнюю половину года? Фантазия творит для него священное жилище, где божество это успокоивается после дневных трудов и где скрывает свою благодатную силу зимою. По общеславянским преданиям, сходным с литовскими и немецкими, благотворное светило дня, красное Солнце, обитает на востоке – в стране вечного лета и плодородия, откуда разносятся весною семена по всей земле; там высится его золотой дворец, оттуда выезжает оно поутру на своей светозарной колеснице, запряженной белыми, огнедышащими лошадьми, и совершает свой обычный путь по небесному своду. Подобно грекам, сербы представляют Солнце молодым и красивым юнаком; по их сказаниям, царь‑Солнце живет в солнечном царстве, восседает на златотканом, пурпуровом престоле, а подле него стоят две девы – Зоря Утренняя и Зоря Вечерняя, семь судей (планеты) и семь вестников, лета ющих по свету в образе «хвостатых звезд»; тут же и лысый дядя его – старый Месяц. В наших сказках царь‑Солнце владеет двенадцатью царствами (указание на двенадцать месяцев в году или на двенадцать знаков зодиака); сам он живет в солнце, а сыновья его – в звездах; всем им прислуживают солнцевы девы, умывают их, убирают и поют им песни.
Заметим, что в свисте ветров и вое бури простодушному язычнику слышались песни духов, а в прихотливом полете облаков и в крутящихся вихрях виделись их пляски и свадебное веселье. Солнцевы девы умывают солнце и расчесывают его золотые кудри (лучи), т. е. разгоняя тучи и проливая дождь, они прочищают лик дневного светила, дают ему ясность. Тот же смысл заключается и в предании, что они метут двор месяца, т. е. разметают вихрем потемняющие его облака. Обладая бессмертным напитком (живою водою дождя), солнцевы девы сами представляются вечно прекрасными и никогда не стареющими.
Зоря олицетворялась у славян в образе богини и называлась сестрою Солнца.
В заговорах, которые обыкновенно произносятся на восток – при восходе солнца, ее называют красною девицею: «Зоря‑Зоряница, красная девица, полунощница» (т. е. рано пробуждающаяся, предшествующая дневному рассвету). Подобно богине‑Солнцу, она восседает на золотом стуле, расстилает по небу свою нетленную розовую фату или ризу, и в заговорах доселе сохраняются обращенные к ней мольбы, чтоб она покрыла своею фатою от волшебных чар и враждебных покушений. Как утренние солнечные лучи прогоняют нечистую силу мрака, ночи, так верили, что богиня Зоря может прогнать всякое зло, и наделяли ее тем же победоносным оружием (огненными стрелами), с каким выступает на небо светило дня; вместе с этим ей приписывается и та творческая, плодородящая сила, какая разливается на природу восходящим солнцем. Крестьяне выставляют семена, назначенные для посева, на три утренние зори, чтобы они дали хороший урожай. Согласно с наглядным, ежедневно повторяющимся указанием природы, миф знает двух божественных сестер – Зорю Утреннюю и Зорю Вечернюю; одна предшествует восходу солнца, другая провожает его вечером на покой, и обе таким образом постоянно находятся при светлом божестве дня и прислуживают ему. Утренняя Зоря выводит на небесный свод его белых коней, а Вечерняя принимает их, когда оно, совершивши свой дневной поезд, скрывается на западе.
Та же творческая, плодородящая сила, какую созерцал язычник в ярких лучах летнего солнца, виделась ему и в летних грозах, проливающих благодатный дождь на жаждущую землю, освежающих воздух от удушливого зноя и дающих нивам урожай. Множество разнообразных поверий, преданий и обрядов несомненно свидетельствует о древнейшем поклонении славян небесным громам и молниям. Торжественно‑могучее явление грозы, несущейся в воздушных пространствах, олицетворялось ими в божественном образе Перуна‑Сварожича, сына прабога Неба; молнии были его оружие – меч и стрелы, радуга – его лук, тучи – одежда или борода и кудри, гром – далеко звучащее слово, глагол божий, раздающийся свыше, ветры и бури – дыхание, дожди – оплодотворяющее семя. Как творец небесного пламени, рождаемого в громах, Перун признается и богом земного огня, принесенного им с небес в дар смертным; как владыка дождевых облаков, издревле уподоблявшихся водным источникам, получает название бога морей и рек, а как верховный распорядитель вихрей и бурь, сопровождающих грозу, – название бога ветров (см. ниже). Эти различные названия придавались ему первоначально, как его характеристические эпитеты, но с течением времени обратились в имена собственные; с затемнением древнейших воззрений они распались в сознании народном на отдельные божеские лица, и единый владыка грозы раздробился на богов грома и молний (Перун), огня (Сварожич), воды (Морской царь) и ветров (Стрибог). Вместе с низведением мифических представлений и сказаний о небесном пламени молний на земной огонь, о дождевых потоках на земные источники само собой возникло обожание домашнего очага, рек, озер и студенцов.
В таких образах поклонялся славянин всесозидающим силам природы, которые для живого существа суть благо, добро и красота. Человеку естественно чувствовать привязанность к жизни и страх к смерти. Обоготворив, как благое, все связанное с плодородием, развитием, он должен был инстинктивно, с тревожною боязнию отступить от всего, что казалось ему противным творческому делу жизни. С закатом дневного светила на западе как бы приостанавливается вечная деятельность природы, молчаливая ночь охватывает мир, облекая его в свои темные покровы, и все погружается в крепкий сон – знамение навсегда усыпляющей смерти; с помрачением ярких лучей солнца зимними туманами и облаками начинаются стужи и морозы, небо перестает блистать молниями и посылать дожди, земная жизнь замирает и человек осуждается на тяжелые труды: он должен строить жилище, селиться у домашнего очага, заготовлять пищу и теплую одежду. У первобытных племен сложилось убеждение, что мрак и холод, враждебные божествам света и тепла, творятся другою могучею силою – нечистою, злою и разрушительною. Так возник дуализм в религиозных верованиях; вначале он истекал не из нравственных требований духа человеческого, а из чисто физических условий и их различного воздействия на живые организмы; человек не имел другой мерки, кроме самого себя, своих собственных выгод и невыгод. Нравственные основы вырабатываются позднее и прикрепляются уже к готовым положениям дуализма, порожденного древнейшим воззрением на природу. Таким образом, отдаленные предки наши, круг понимания которых необходимо ограничивался внешнею, материальною стороною, все разнообразие естественных явлений разделили на две противоположные силы.
Слова, означающие свет, блеск и тепло, вместе с тем послужили и для выражения понятий блага, счастия, красоты, здоровья, богатства и плодородия; напротив, слова, означающие мрак и холод, объемлют собою понятия зла, несчастия, безобразия, болезни, нищеты и неурожая. Прилагательное белый (Бел‑бог) собственно значит: светлый, ясный. В заговорах упоминается бел‑горюч камень алатырь; колесницу Солнца возили белые кони. Согласно с этим древним значением, с корнем бел = бил соединяется идея плодородия. Опираясь на приведенные указания языка, приходим к заключению, что Белбог должен быть тождествен с Све(я)товитом, богом дневного и весеннего (= ясного) неба; без сомнения, первоначально это были только фонетически различные, но существенно равносильные прозвания одного и того же божества. В дальнейшем ходе развития за Световитом удержано древнейшее представление владыки неба, который не только блистает солнечным светом, но и творит весенние грозы, сражаясь с темными тучами; а с именем Белбога, кажется, по преимуществу сочеталось понятие дневного света = солнца. Солнце уподоблялось блестящему венцу, короне на главе небесного бога; оно называлось царем, властителем света и дня, и подобно тому как впоследствии в народном эпосе «красное солнышко» служило предикатом князю Владимиру, так в договоре Олега упоминаются светлые князи и в народе доселе говорится: белый царь, т. е. от небесного владыки эпитет переносится на земного.
Красный первоначально означало: светлый, яркий, блестящий, огненный; прилагательное это стоит в родстве с словами: крес – огонь, кресины – время летнего поворота солнца, кресник – июнь месяц, когда этот поворот совершается. Как постоянный эпитет, подновляющий коренной смысл слов, принятых за названия небесных светил и солнечного сияния, прилагательное это употребляется в следующих эпических выражениях: красное солнце, красная зоря, красный день (ясный, солнечный день называется также украсливым, хорошая погода – украсливая), красный месяц, красная весна, красное лето, Красная горка – весенний праздник, в поучении Мономаха «красный свет»; светлая, с большими окнами изба называется красною (= светлицею) и окно со стеклами, в отличие от волокового, слывет красным. В Ярославской губернии красить употребляется в смысле: светить, сиять: «По‑глядзи‑тко ты в восточную сторонушку, не красит ли красное солнышко?» От понятия о свете слово «красный» перешло к означению яркой краски, точно так, как прилагательное жаркий употребляется в областном языке в смысле: оранжевый, а в Пермской губернии ягода клюква, ради ее красного цвета, называется жаравихой. Восходящее солнце, озаряя своими лучами мир, дает возможность созерцать все его великолепие; теплые дни, приводимые весенним солнцем, согревают землю и наряжают ее, словно невесту, роскошными цветами и зеленью. Естественно, что с представлениями света и солнца должна была сочетаться идея красоты: прекрасный, красовитый, красовитушко – приветствие милому, любимому человеку; сравни: сугрево – тихая, теплая погода и сугревушка – ласкательное название, даваемое женщине.
Слово «чистый» однозначительно с «светлым» и также совмещает в себе понятия небесного сияния и святости: небо чистое, небо прочищается, чисть – то же, что ясень (вёдро): «На небе такая чисть!» чистое злато и серебро (сравни: красное золото), Пречистая Дева; очищение было религиозным обрядом, состоявшим в прыгании чрез зажженные костры, в окуривании и омовении ключевой водою: огонь – символ небесной молнии, вода – символ дождя. Как весенняя гроза выводит из‑за туч и туманов яркое солнце, прочищает небо, так действием огня и воды прогоняются от человека темные, враждебные, демонические силы; позднее обряд этот получил значение нравственного очищения от грехов (чистилище, очистительная молитва и присяга, чистота душевная). С отрицанием не – нечистый есть название дьявола; нечистая сила – сила мрака, холода и всего враждебного человеку; подобно тому и слово «черный», противоположность которого «белому» так резко запечатлелась в предании о Черно‑боге и Белбоге, употребляется как эпитет злых духов. В заговорах упоминаются «черные духи, нелюдимые» и творятся заклятия «от черных божиих людей»; а Густинская летопись приводит показания старинных кудесников: «Наши бози живут в безднах, видом черни, крилаты, з хвостами, летают под небо слушающе ваших богов». За темнотою до сих пор удерживается в простонародье представление чего‑то таинственно страшного; обычная заметка «Не к ночи будь сказано» есть род заклятия, чтобы неосторожно сказанное вечером слово не вызвало какой беды; темною комнатой старые няни пугают детей; нечистые духи разгуливают по ночам и во мраке творят людям и животным зло, солнечных же лучей они боятся и тотчас разбегаются при утреннем рассвете. Темное царство демонов (=ад) представлялось на западе – там, где заходит солнце, где потухают его светлые лучи. Так как мрак скрывает все под своей непроницаемой пеленою, то злому духу приписываются свойства и названия укрывателя, таителя, хищника.
С светлыми, белыми божествами славянин чувствовал свое родство, ибо от них ниспосылаются дары плодородия, которыми поддерживается существование всего живого на земле; народ называет хлеб даром божиим; наше жито одного корня с словами: живот (жизнь) и Жива – богиня весны. Напротив, с темною силою природы, с черными божествами было соединяемо все старое, безобразное, лукавое и злое; они враждебны жизни и ее нравственным основам. Черная душа означает человека бесчестного, криводушного; мрась – негодяй; черный день – день бедствия, несчастия.
Краледворская рукопись сравнивает Смерть с ночью и зимою. Здесь кроется, между прочим, основание той тесной связи, в какую поставила народная фантазия болезни, особенно повальные, с нечистою силою, почему она олицетворяет их в безобразных, уродливых формах и почему простолюдины до сих пор почитают недуги испорченностию, насланною при содействии злых духов, а животных, родившихся с каким‑нибудь физическим недостатком, – порождением той же демонической силы. Все чары, при совершении которых призываются злые духи, и собирание волшебных зелий, на пагубу людей и животных, совершаются в полночь. Ненавистница жизни, исконный враг праведных светлых богов, нечистая сила, по русскому поверью, не знает семейных уз, этих единственных форм, которые у племен патриархальных поддерживали и воспитывали нравственные отношения; она блуждает по свету, не имея мирного пристанища. Понятно, почему Чернобог отождествлялся с дьяволом; с именем его народные верования славян должны были сочетать представления ночи, зимы и потемняющих небо туч, с которыми сражается молниеносный Перун.
Между богами света и тьмы, тепла и холода происходит вечная, нескончаемая борьба за владычество над миром. День и Ночь представлялись первобытным народам высшими, бессмертными существами, как День – первоначально верховное божество света = солнце, с которым слово это тождественно и по названию, так Ночь – божество мрака.
В самой природе рассвет дня сопровождается свежим веянием утреннего ветра, прохладным колебанием воздуха, и это обыкновенное явление принималось поэтически настроенною фантазиею древнего народа за шум при разрыве наложенных ночною богиней уз и за шелест шагов бога дня, шествующего по воздушным пространствам. Сбросив с себя путы, День разрывал темный покров Ночи и гнал ее с неба.
Подобно тому как дневной свет и жар, ночная тьма и прохлада определялись суточным движением солнца, так летняя ясность и теплота, зимние туманы, помрачающие небо, и всемертвящие морозы – годовым его движением. Как с утром соединялось представление о пробуждающемся солнце, о благотворной росе, падающей на нивы, поля и дубравы, о воскресающей повсюду деятельности, так с весною связывалась мысль о воскресении согревающей силы солнца, о появлении грозовых туч, проливающих на землю дождь, о восстании природы от зимнего сна: земля наряжается в зелень и цветы, из далеких стран прилетают птицы, мир насекомых наполняет воздух и животные, подверженные спячке, встают из своих нор. С другой стороны, и во время ясного летнего дня собирающиеся на небо тучи вдруг помрачают солнечный свет и как бы превращают день в ночь, и пока не будут разбиты могучим оружием гневного Перуна – задерживают в своих затворах золотые лучи солнца и драгоценную влагу дождевых ливней. Эти аналогические признаки, запечатленные в языке родственными названиями (сличи сумерки, мрак ночной и морок – облако, туман, тьма ночная, темень – тучи, туман и мн. др.), послужили к сближению и даже отождествлению в мифических представлениях всех означенных явлений. Весеннее просветление солнца и явление его из‑за мрачных туч стали уподобляться утреннему рассвету, весна и богиня летних гроз – утренней зоре или восходящей деве солнца, а зима и тучи – темной ночи; та же борьба, какую созерцал человек в ежедневной смене дня и ночи, виделась ему и в смене лета и зимы, и в громозвучных ударах Перуна, умолкающих на зиму и снова раздающихся с приходом весны.
В июне месяце, в пору самого полного развития творческой деятельности природы, солнце, следуя непременному закону судеб, поворачивает на зимний путь, дни постепенно умаляются, а ночи увеличиваются; власть царственного светила мало‑помалу ослабевает и уступает зиме. В ноябре зима уже «встает на ноги», нечистая сила выходит из пропастей ада и своим появлением производит холода, метели и вьюги: земля застывает, воды оковываются льдами, и жизнь замирает. Но в декабре, когда, по‑видимому, зима совсем победила, солнце «поворачивает на лето», и с этого времени сила его снова нарождается, дни начинают прибывать, а ночи умаляться. Как бы чувствуя возрастающее могущество врага, зима истощает все свои губительные средства на борьбу с приближающимся летом: настают трескучие морозы, страшные для садов и озимых посевов, умножаются простудные болезни и падежи скота. Вот почему накануне Крещения простолюдины на всех окнах и дверях выжигают огнем (или чертят мелом) кресты, чтобы нечистые духи не имели доступа к их дворам; в некоторых местах носят при этом два пирога, что, может быть, намекает на древнейшее жертвоприношение. Перед Рождеством крестьяне до сих пор потчуют мороз киселем, с просьбою не касаться их засеянных полей. Тщетно зима напрягает усилия; в свое время является весна, воды сбрасывают ледяные оковы, воздух наполняется живительной теплотою, согретая солнечными лучами земля получает дар производительности и возрожденная природа предстает в чудном великолепии летних уборов, пока новый поворот солнца не отдаст ее снова во власть злой зимы. Возврат весны сопровождается грозами; в их торжественных знамениях всего ярче представлялись фантазии те небесные битвы, в какие вступало божество весны, дарующее ясные дни, плодородие и новую жизнь, с демонами стужи и мрака.
В черных тучах признавали нечистую силу, затемняющую ясный лик солнца и задерживающую дожди; подобно ночи, туча в поэтических сказаниях народа есть эмблема печали, горя и вражды. В Томской губернии, ожидая несчастия, говорят: «Господи! пронеси тучу мороком»; когда кого‑нибудь постигают бедствия, белорусы выражаются в такой эпической форме: «Собралися тучки в кучки!», а на Украине: «Як хмара на нас спала!» В раскатах грома слышались древнему человеку удары, наносимые Перуном демонам‑тучам, в молниях виделся блеск его несокрушимой палицы и летучих стрел, в шуме бури – воинственные клики сражающихся. По русскому поверью, черти бьются на кулачки в полночь, т. е. нечистая сила выступает на борьбу во мраке туч, подобных черной ночи. Бог‑громовник разит ее своими огненными стрелами и, торжествуя победу, возжигает светильник солнца, погашенный лукавыми демонами (туманами и облаками). Оба явления: сияние летнего солнца и блеск молнии – возбуждали так много сходных, одинаковых впечатлений, что необходимо должны были сливаться в мифических представлениях.
Солнце растит нивы, от него столько же зависят урожаи, как и от дождей, изливаемых владыкою молний; засуха, истребляющая нивы, столько же приписывалась жарким лучам солнца, как и Перуну, скрывающему дождевые облака; значение божества карающего равно прилагается и к дневному светилу, которое своими лучами, словно стрелами, прогоняет ночь и туманы, и к громовнику, поражающему мрачные тучи; поэтические выражения об утреннем рассвете, как о треске разрываемых божеством дня цепей, нашли соответствующее себе представление – в звуках громовых ударов, разбивающих зимние. Тесная связь весеннего солнца с грозою выразилась в том родстве, в какое поставил его миф в отношении к облачным нимфам, известным у литовско‑славянского племени под именем солнцевых дочерей и сестер.
В противоположность дневному светилу, месяц – представитель ночи, а так как ночь принималась за метафорическое название темных, грозовых туч, то на него были перенесены атрибуты бога‑громовника. При весенней встрече своей с солнцем он бывает зачинщиком ссоры, которая потрясает землю.
Солнечные и лунные затмения были объясняемы тою же борьбою светлых богов с темными, как и небесные грозы. Эти чрезвычайные, редкие явления, к которым не так легко мог привыкнуть человек, как к ежедневному захождению солнца и к естественной смене годовых времен, постоянно возбуждали тревожное чувство страха: нечистая сила нападала на божественное светило, захватывала его в свою пасть и готовилась пожрать пред очами смущенного язычника. «Погибе, съедаемо солнце!» – вот обычное выражение, с которым старинные летописцы относились к солнечному затмению. В затмениях солнца и луны до самого позднейшего времени видели «недобрые знамения».
Такое двойственное воззрение на природу, в царстве которой действуют и добрые и злые силы, должно было наложить свою неизгладимую печать на все религиозные представления. Поклоняясь стихийным божествам, человек одни и те же явления различал по мере участия их в создании и разрушении мировой жизни, по степени ближайшей или отдаленнейшей связи их с элементами света и тепла. Так опустошительные бури и зимние вьюги почитались порождением нечистой силы = рыщущими по полям бесами, тогда как весенние ветры, пригоняющие дождевые облака и очищающие воздух от вредных испарений, признавались благодатными спутниками Перуна, его помощниками в битвах с злыми духами; из далекой страны вечного лета они приносили на своих крыльях семена плодородия на землю, навевали в сердца юношей и дев горячую любовь и своим дыханием восстановляли здоровье болящих.
Небо, видимое очами смертного, представляется огромным блестящим куполом, обнимающим собою и воды и сушу, круглою прозрачною чашею, опрокинутою над землею. Потому обыкновенно оно называется небесным сводом. По народному воззрению, небо – терем божий, а звезды – очи взирающих оттуда ангелов; эпическая поэзия воспользовалась этими данными и дает прекрасное изображение космоса теремом, а небесных светил – обитающею там семьею.
Округло‑выпуклая форма небесного свода послужила основанием, опираясь на которое доисторическая старина уподобила его с одной стороны черепу человеческой головы, а с другой – высокой блестящей горе.
Дым, застилающий небо, в народной загадке сравнивается с кудрявыми волосами: «мать – гладуха, дочь – красуха, сын – кучерявый» (печь, огонь и дым); а очи, закрытые ресницами и бровями = нахмуренные, русский язык уподобляет небесным светилам, помраченным тучами; сравни хмура и хмара.
Сравнивая небо с горою, народная фантазия породнила эти разнородные понятия и в языке и в мифе. Слово «горе» (малоросс. вгору, болг. згоре) значит: вверх, к небу. В народной загадке, означающей «дым», небо называется горою: «Без ног, без рук на гору дерется».
В разных местностях русской земли крестьяне уверяют, что, обрезывая ногти, не должно кидать их, а напротив – собирать и прятать эти обрезки за пазуху; на том свете они пригодятся: по смерти каждому придется взлезать на высокую крутую гору, столь же гладкую, как яйцо. С помощью сбереженных ногтей это можно будет сделать и удобнее, и скорее. В других местах убеждены, что большие ногти всякому необходимы по смерти для того, чтобы лезть на небо или в Царство Небесное – на Сионскую гору: очевидно, что гора и небо здесь тождественны. Раскольники, между которыми долее и живее сберегаются старинные суеверия, доныне носят в перстнях и ладонках обрезки собственных ногтей и когти филина.
В одном заговоре читаем следующую заклинательную формулу: «Еду на гору высокую, далекую, по облакам и водам, а на горе высокой стоит терем боярский, а во тереме боярском сидит красная девица (= Зоря)… Закрой ты, девица, меня своею фатою от силы вражией, от пищали, от стрел, от борца, от кулачного бойца». Эта высокая гора, на которую надо ехать по облакам и водам (= дождевым источникам), есть небесный свод. Итак, небо представлялось горою. Эта мифическая гора часто упоминается в сказочных преданиях славян и германцев.
В солнце, месяце и звездах древний человек видел сияющие в небесном чертоге драгоценные камни и золотые или серебряные украшения; блеск неба, озаренного яркими лучами солнца, напоминал ему блеск металлов, и финский эпос сообщает предание, что небесный свод был выкован хитрым кузнецом божественной породы. В лубочной сказке «о золотой горе», или «трех царствах: медном, серебряном и золотом», повествуется о том, как царевич, отправляясь в означенные царства, достиг страшно высокой и крутой горы и взлез на нее с помощию железных когтей, прикрепленных к ногам и рукам.
Олицетворяя грозовые явления хищными птицами и зверями, фантазия, сблизившая молнии с острыми стрелами, начинает видеть в этих стрелах железные когти; только, вооруженный такими когтями, сказочный герой (= древний громовник) может взойти на небо и освободить из‑под власти злых демонов чудную красавицу – богиню весны.
Кроме сбережения ногтей, которые должны были помогать усопшему подняться на высокую гору небес, для той же цели, по народному убеждению, могли служить и лестницы. По свидетельству жития князя Константина Муромского, вместе с умершими полагались в могилу сплетенные из ремней лестницы: «…и по мертвых ременные плетения древолазные с ними в землю погребающе». Еще доныне в некоторых уездах родственники умершего, собираясь в сороковой день после его кончины творить поминки, ставят на стол, вместе с блинами и кануном, нарочно сделанную из теста лесенку; а выходя за ворота провожать душу покойника, выносят с собой испеченные лесенки и думают, что по ним душа восходит на небо = в рай. В Воронежской губернии в самый день похорон приготовленная из пшеничного теста и запеченная лестница, величиною в аршин, ставится при выносе гроба, чтобы усопшей душе легче было взойти на небо. В Курской губернии поминальные пироги с маком и медом называются «лестовки». На праздник Вознесения, в память восшествия Спасителя на небо, крестьяне пекут большие продолговатые пироги, верхняя корка которых выкладывается поперек перекладинами: пироги эти называют «лесенки». Их приносят в церковь, и после молебна часть отдают священнику и причту, а другую – нищим. В некоторых деревнях приготовляемые на Вознесение лесенки имеют семь ступеней, что стоит в связи с сказанием о седьми небесах; после обедни крестьяне всходят на колокольню и бросают их оттуда на землю, замечая, как упадет лесенка – вдоль или поперек к церкви, останется цела, надломится или вовсе разобьется, и поэтому делают свои заключения, на какое небо попадут они по смерти. Если все семь ступеней останутся целы – быть в раю, а разобьется лестница вдребезги – это знак великих грехов, заграждающих путь в Царство Небесное.
Рядом с представлениями неба, как блаженной обители богов и праведных, оно было олицетворяемо и в живом божественном образе. Плодотворящая сила солнечных лучей и дождевых ливней, ниспадающих с небесного свода, возбуждает производительность земли, и она, согретая и увлаженная, растит травы, цветы, деревья и дает пищу человеку и животным. Это естественное и для всех наглядное явление послужило источником древнейшего мифа о брачном союзе неба и земли, причем небу придан воздействующий, мужской тип, а земле – воспринимающий, женский. Летнее небо обнимает землю в своих горячих объятиях, как невесту или супругу, рассыпает на нее сокровища своих лучей и вод, и земля становится чреватою и несет плоды; не согретая весенним теплом, не напоенная дождями, она не в силах ничего произвести. В зимнюю пору она каменеет от стужи и делается неплодною; с приходом же весны земля, по народному выражению, «принимается за свой род». «Не земля родит, а небо» – выражается пахарь пословицею, обозначая тем, что без влияния благоприятных условий, посылаемых небом, земля бессильна дать урожай.
Почти во всех языках земле даются имена женского рода. Небо же у древних славян олицетворялось в мужском образе Сварога. Сварог, как олицетворение неба, то озаренного солнечными лучами, то покрытого тучами и блистающего молниями, по указанию наших памятников, признавался отцом солнца и огня. Во мраке туч он возжигал пламя молний и, таким образом, являлся творцом небесного огня; земной же огонь, по древнему преданию, был божественный дар, низведенный на землю в виде молнии; отсюда понятно, почему славянин молился огню, как сыну Сварога. Далее: разбивая громовыми стрелами тучи, Сварог выводил из‑за них ясное солнце, или, выражаясь метафорическим языком древности, возжигал светильник солнца, погашенный демонами тьмы; это картинное, поэтическое представление прилагалось и к утреннему солнцу, выходящему из‑за черных покровов ночи, так как ночной мрак постоянно отождествлялся с потемняющими небо тучами. С восходом солнца, с возжжением его светильника, соединялась мысль о его возрождении, и потому Сварог есть божество, дающее жизнь Солнцу = рождающее Дажьбога.
Теперь мы должны обратить внимание на те немногие места памятников, в которых ученые наши, под влиянием христианских воззрений, думают видеть свидетельство, что, рядом с поклонением божествам стихийным, славяне веровали в единого верховного бога и что в этом веровании высказывается темное сознание о едином истинном Творце Вселенной. Мнение это, в подтверждение которого ссылаются на Прокопия, Гельмольда и договоры первых русских князей с греками, не может быть принято наукою. Прокопий (VI век) выражается, что только одного бога, производителя молнии, почитают они (славяне) единственным владыкою Вселенной. Вслед за этим сказано, что они поклонялись также рекам, нимфам и другим божествам. Что этот бог, творец молнии, не был Перун, доказательством тому приводят известие Гельмольда, который знал Перуна и между тем отличает его от верховного бога богов. «Между различными божествами (говорит он), во власти которых состоят поля и леса, печали и наслаждения, славяне не отрицают и единого бога на небесах, повелевающего прочими. Он самый могущественный, заботится только о небесном; а прочие боги, исполняющие возложенные на них обязанности, происходят от его крови, и чем кто знатнее, тем ближе к этому богу богов».
Почти у всех народов слова, означавшие небо, обратились в нарицательные названия божества; следовательно, наоборот, говоря о боге, древние язычники могли исключительно разуметь верховного представителя и владыку небесного свода. Отсюда само собой вытекает заключение, что «Бог», упоминаемый договорами Игоря и Святослава, есть греческий Зевс, славянский Див или Сварог; именно об этом божестве говорит Гельмольд, приписывая ему владычество над небом; о нем же говорит и Прокопий как о правителе Вселенной и создателе молний. Это бог богов, их родоначальник, или, как доныне называют его славяне, великий (= старейший), старый бог, прабог (сравни: пра‑дед, пра‑щур) = отец‑небо, в отношении к которому все другие стихийные божества представлялись его детьми, прибогами (т. е. младшими, от него происшедшими; сравни: при‑го‑род). От него (= пра‑бога) родились боги солнца, молнии, облаков, ветров, огня и вод (первоначально: дождевых потоков).
В другом месте своей хроники Гельмольд называет богом богов Святовита, бога земли руянской, получившего первенство между всеми славянскими божествами. Свято– или Световит – имя, образовавшееся по той же форме, как и другие названия языческих богов: Поревит, Яровит, Руевит; последний слог составляет суффикс, указывает в Святовите божество, тождественное Диву (div – divinus) и Сварогу: это только различные прозвания одного и того же высочайшего существа. В 1851 году сделался известным ученому миру открытый на Збруче Святовитов истукан, грубой работы, с четырьмя лицами, все, что было посвящено Святовиту арконскому, на этом истукане изображено в рисунке (чертами): на одной стороне бог держит в правой руке рог, на другой – висит у пояса меч, а под ним видно изображение коня с подбрюшником. Четыре головы Святовита, вероятно, обозначали четыре стороны света и поставленные с ними в связи четыре времени года (восток и юг – царство дня, весны, лета; запад и север – царство ночи и зимы); борода – эмблема облаков, застилающих небо, меч – молния, поезды на коне и битвы с вражьими силами – поэтическая картина бурно несущейся грозы; как владыка небесных громов, он выезжает по ночам, т. е. во мраке ночеподобных туч, сражаться с демонами тьмы, разит их молниями и проливает на землю дождь. С этим вместе он необходимо признается и богом плодородия; к нему воссылались мольбы об изобилии плодов земных; по его рогу, наполненному вином (вино = символ дождя), гадали о будущем урожае. Таким образом, у славян, как и у прочих арийских народов, с верховным божеством неба связывались представления ожесточенной борьбы с демонами и благодатного плодородия, разливаемого им по земле; вот почему время зимнего поворота солнца, предвещающее грядущее торжество Святовита над нечистою силою, получило название святок, а весенний праздник пробуждения природы, появления молниеносных облаков и дождевых ливней – название Святой или Светлой недели. Те же самые представления соединяла фантазия и с отдельным олицетворением бога‑громовника (Перуна); так как именно в весенней грозе видел древний человек источник жизни, начало мирового творчества, то понятно, что воинственный громовержец должен был выдвинуться в его сознании вперед и занять первостепенное, почетнейшее место между другими богами. Вместе с главнейшими атрибутами божества неба, на него переносится и понятие о старейшинстве; он является творцом и правителем Вселенной, получает имя деда (см. ниже) и представляется в виде бородатого старца.
Признавая небо и землю супружескою четою, первобытные племена в дожде, падающем с воздушных высот на поля и нивы, должны были увидеть мужское семя, изливаемое небесным богом на свою подругу; воспринимая это семя, оплодотворяясь им, земля чреватеет, порождает из своих недр обильные, роскошные плоды и питает все на ней сущее. Мелкий и частый дождь поселяне называют «севень»; народная песня выражается о дожде, что он или ситечком сеет, или ведром поливает; следовательно, дождевые капли уподобляются хлебным зернам, бросаемым в мать сыру землю на будущий урожай. Слово «семя» означает в нашем языке: и зерно растительного царства, и оплодотворяющие соки человека и животных; с другой стороны, и понятие зерна распространяется отчасти на царство животное, ибо о рыбах говорится, что они «мечут зерно»; жидкой икре дается название «зернистой». При таком воззрении на дождь как на родительское семя понятно, что в молнии, разящей тучи и чрез то низводящей на землю небесные воды, фантазия первобытных народов узнавала мужской детородный член; понятно также, что оплодотворяющая сила неба почти исключительно присвоялась божествам весенних гроз – у германцев Водану и Тору, у славян – Перуну: к ним обращались с молитвами об урожае, в честь их совершались на пашнях и жнивах религиозные обряды, от их непосредственного участия зависели успехи земледелия.
Вместе с представлением весенней грозы в мужском образе бога‑оплодотворителя в ту же незапамятную старину и под тем же влиянием поэтических сравнений и метафорического языка возникло представление о богине облачного неба, которая носит в своей утробе (= тучах) зародыши юной жизни и с которою бог‑громовник вступает в брачный союз в благодатное время весны. Носясь над землею, богиня рассыпает на нее обилие своих даров, поит ее росой и дождями и воспитывает жатвы. Как богиня, творящая земные урожаи, как супруга небесного бога, носителя молний и проливателя дождей, она мало‑помалу слилась в народном сознании с плодородящею матерью‑землею, супругою неба.
На древнем поэтическом языке травы, цветы, кустарники и деревья назывались волосами земли. Признавая землю за существо живое, самодействующее (она родит из своей материнской утробы, пьет дождевую воду, судорожно дрожит при землетрясениях, засыпает зимою и пробуждается с возвратом весны), первобытные племена сравнивали широкие пространства суши с исполинским телом, в твердых скалах и камнях видели ее кости, в водах – кровь, в древесных корнях – жилы, наконец, в травах и растениях – волосы.
С указанными метафорами тесно связывается поверье о зеленых волосах русалок, водяных и леших и тот часто встречаемый в народных сказках мотив, по которому щетка, кинутая героем во время бегства от враждебных преследователей, превращается в лес: из каждого волоска вырастает дерево. Русалки, как водяные нимфы, наделены зелеными косами, подобно римским божествам рек и финскому царю волн (Ahto), которые представлялись с травяными бородами; т. е. зелень, растущая по берегам рек и источников, рассматривалась, как волосы водяных богов и богинь. Доселе уцелел обычай связывать, во время жатвы, пук несрезанных колосьев и оставлять его на ниве в честь древнего бога плодородия; это называется: завивать Волосу бороду.
Богиня земного плодородия, вступающая в брак с богом небесных гроз в счастливое время весны, теряет своего супруга в период холодной зимы и прекращает свои роды. В зимнюю пору и жарким летом, во время засухи = бездождия земля являлась воображению древнего человека печальною вдовою.
Из всего сказанного очевидно, что рядом с поклонением небу должно было возникнуть и утвердиться религиозное почитание земли. Следы этого обоготворения сохранились и у славян. Старинный проповедник восстает против нарицания земли богом. В XIV столетии новгородские стригольники учили каяться в грехах не священнику, а земле, за что константинопольский патриарх их впоследствии жестоко ругал. Но для простого, неразвитого народа, воспитанного на старинных эпических преданиях, земля вовсе не была бездушною; он наделял ее чувствами и волею. Богатыри, поражающие лютых змеев, в ту минуту, когда им грозит опасность быть затопленными кровью чудовища, обращаются к земле с просьбою: «Ой, ты еси мать сыра земля! расступися на четыре стороны и пожри кровь змеиную», – и она расступается и поглощает в себя потоки крови. Староверческие толки: беспоповщина и нетовщина – до позднейшего времени продолжали следовать стригольникам и исповедовали свои грехи, зря на небо или припадая к земле. Старообрядцы перед обедом и ужином, за неимением воды, умывают себе руки землею, следовательно, приписывают ей такую же очистительную силу, как и воде.
Весною, когда земля вступает в брачный союз с небом, поселяне празднуют в ее честь Духов день; они не производят тогда никаких земляных работ, не пашут, не боронят, не роют земли и даже не втыкают кольев, вследствие поверья, что в этот день земля – именинница и потому надо дать ей отдых. Больные лихорадкою отправляются на то место, где, по их мнению, пристала к ним болезнь, посыпают вокруг себя ячменной крупою и, кланяясь на все стороны, говорят: «Прости, сторона мать сыра земля! вот тебе крупиц на кашу» – и уверены, что земля простит их и избавит от лихорадки. «Выздороветь, исцелиться от болезни» на старинном языке выражалось словами: получить от Бога прощение. Иногда выходят больные на перекресток, падают ниц и просят мать сыру землю исцелить их от недуга. В Нижегородской губернии крестьяне, получившие при падении наземь какое‑нибудь повреждение или ушиб, ходят прощаться на то место, где упали, т. е. молить наказующую землю о прощении. В разных сторонах Руси жницы, окончив работу, катаются по ниве, приговаривая: «Нивка‑нивка! отдай мою силку, что я тебя жала, силку роняла». Эта обращенная к земле просьба воротить силу, потраченную на жнитве, напоминает греческое сказание о великанах, которые, падая в пылу битвы, как только прикасались к матери‑земле, тотчас же восставали с новою силою. На вешний Юрьев день также в обычае у наших крестьян кататься по нивам. Земля, смоченная слюною (метафора дождя), признается средством, заживляющим раны; при головной боли берут из родника песку и прикладывают к голове с приговором: «Как здорова земля, так бы моя голова была здорова!» Как всеобщая кормилица, земля есть источник сил и здоровья; она же растит и целебные травы. Тот, кто приступает к собиранию лекарственных зелий и кореньев, должен пасть ничком наземь и молить мать сыру землю, чтоб она благоволила нарвать с себя всякого снадобья.
Чтобы нечистая сила не поселилась в нивах и не выжила с пастбища стад (т. е. не повредила бы тем и другим), хозяева в августе месяце выходят раннею зарею на поля с конопляным маслом и, обращаясь на восток, говорят: «Мать сыра земля! уйми ты всяку гадину нечистую от приворота и лихого дела»; затем выливают на землю часть принесенного масла. Обращаясь на запад, продолжают: «Мать сыра земля! поглоти ты нечистую силу в бездны кипучие, в смолу горючую»; на юг произносят: «Мать сыра земля! утоли ты все ветры полуденные со ненастью, уйми пески сыпучие со мятелью» – и, наконец, на север: «Мать сыра земля! уйми ты ветры полуночные со тучами, содержи (сдержи) морозы со мятелями». За каждым обращением льют масло, а в заключение бросают и самую посудину, в которой оно было принесено.
По свидетельству Дитмара (1018 г.), славянские жрецы, нашептывая какие‑то слова, раскапывали пальцами землю и по встречающимся приметам гадали о будущем. Народные русские сказки упоминают о старинном обычае: произнося клятву, есть землю, чтобы таким действием еще тверже скрепить нерушимость произносимого обета или справедливость даваемого показания. Хроника Дитмара говорит, что славяне при утверждении мирных договоров подавали пучок сорванной травы или клок обрезанных волос; трава, как волосы матери‑земли, и волосы, как метафора травы, употреблялись здесь за символические знамения самой богини – в удостоверение того, что мир будет соблюден свято и границы чужих владений останутся неприкосновенными.
В старину на Руси, вместо обыкновенной присяги, долгое время в спорных делах о земле и межах употреблялся юридически признанный обряд хождения по меже с глыбою земли: один из тяжущихся клал себе на голову кусок земли, вырезанный вместе с растущею на ней травою на самом спорном поле, и шел с ним по тому направлению, где должна была проходить законная граница; показание это принималось за полное доказательство.
От общего представления о Земле народ земледельческий переносит свое религиозное почитание на отдельные родовые участки, подобно тому как культ огня склонился к обоготворению домашнего очага; земля, на которой селился род, которая возделывалась его руками и которая действительно была его кормилицей, становилась ему родною. Уходя на чужбину, древние предки наши брали с собою горсть родной земли и хранили ее как святыню – обычай, доселе соблюдаемый болгарами. К ней тяготели общие интересы родичей; даруя им необходимые средства жизни, она тем самым привязывала их к определенной местности и теснее скрепляла семейный союз.
Солнечный свет дает возможность видеть и различать предметы окружающего нас мира, их формы и краски, а темнота уничтожает эту возможность. Подобно тому зрение позволяет человеку осматривать и распознавать внешнюю природу, а слепота погружает его в вечный мрак; без глаз так же нельзя видеть, как и без света. От того стихия света и глаза, как орудие зрения, в древнейшем языке обозначались тождественными названиями: зреть, взор, зоркий, зорить – присматриваться, наблюдать, прицеливаться, зорька – прицел на ружье, обзариться – промахнуться из ружья, зырить – зорко смотреть, зирять – оглядываться, зирк – глядь, зирок = зрачок, зорный – имеющий хорошее зрение, и зо(а)ря, зирка (малоросс.) – звезда, зирка с метлою – комета, зо(а)рница (зирныця, зарянка) – утренняя или вечерняя звезда, планета Венера; зарница – отдаленная молния = малоросс. блискавиця, которой приписывают влияние на созревание нив и которую потому называют хлебозоркою.
Из такого сродства понятий света и зрения, во‑первых, возникло мифическое представление светил небесных – очами, а во‑вторых, родилось верование в чудесное происхождение и таинственную силу глаз. Представление светил очами равно принадлежит народам и Старого и Нового Света. Первобытные племена обожали в стихиях их живую творческую силу, и как в самой природе различные явления неразрывно связаны между собою и сопутствуют друг другу, так и в мифических представлениях они нередко сливаются в одно целое. Религиозное чувство древнего человека по преимуществу обращалось к весеннему небу, которое являлось его воображению во всем божественном могуществе: одетое грозовыми тучами, оно вещало в громах, разило в молниях, изливало семена плодородия в дожде и, взирая с высоты на дольний мир ясным солнцем, пробуждало природу к новой жизни. Яркие лучи весеннего солнца возвращались миру вместе с дождями и молниями, и вместе с ними похищались на зиму злыми демонами; от того и в народных поэтических сказаниях мифы солнечные и грозовые взаимно переплетаются и спутываются.
Давно когда‑то, повествует сказка, заплутались двое детей в лесу, развели огонь и сели греться. Вдруг послышался страшный треск, и затем показались три великана, вышиной с дерево; у всех трех был один глаз, и они пользовались им по очереди: у каждого великана было во лбу отверстие, куда и вставлялся общий всем глаз. Ловкие дети успели одного из великанов ранить в ногу, а других напугать так, что тот, который держал глаз во лбу, уронил его наземь; мальчик тотчас же подхватил его. Глаз был так велик, что не уложить и в котел, и так прозрачен, что мальчик видел сквозь него все, будто в светлый день, хотя и была темная ночь. Предания об одноглазых великанах составляют общее достояние всех индоевропейских народов, а потому не чужды и славянам.
Стих о Голубиной книге поведает, что зори утренняя и вечерняя, светел месяц и частые звезды зачались от очей божиих, или по другому варианту – что свет у нас светится от господних очей.
В нашем языке окно (уменьш. окошко, оконце), как отверстие, пропускающее свет в избу, лингвистически тождественно с словом «око»; окно, следовательно, есть глаз избы. С восходом солнца‑небо, до той минуты погруженное в ночной мрак, прозревает; на востоке вспыхивает красная зоря, и вслед за нею показывается самое светило. Появляясь на краю горизонта, оно как будто выглядывает в небесное окно, открытое ему богинею Зорею.
У всех народов существует убеждение, что небесные боги взирают с высоты на землю, наблюдают за поступками смертных, судят и наказуют грешников. Из этих данных объясняются сказочные предания: а) о чудесном дворце, из окон которого видна вся Вселенная, а владеет тем дворцом прекрасная царевна (= Солнце), от взоров которой нельзя спрятаться ни в облаках, ни на суше, ни под водами; b) о волшебном зеркальце, которое открывает глазам все – и близкое и далекое, и явное и сокровенное. Там, где в русской сказке завистливая мачеха допрашивает волшебное зеркальце, в подобной же албанской сказке она обращается прямо к солнцу. Народные загадки уподобляют глаза человеческим зеркалам и стеклам: «стоят вилы (ноги), на вилах короб (туловище), на коробе гора (голова), на горе два стекла (или зеркала = глаза)».
В древности зеркала были металлические; а потому мифическое представление солнца зеркалом, известное еще греческим философам, совпадало с уподоблением его золотому щиту. Раскольники уверяют, что в зеркало по ночам смотрится нечистая сила, т. е. во время ночи блестящий щит солнца закрывается демонами мрака. Вероятно, и примета, что разбитое зеркало предвещает несчастие или смерть, указывает на солнечное затмение, когда, по народному воззрению, нечистая сила нападает на это светило и стремится уничтожить его.
Не только с солнцем, но и с месяцем и звездами соединялась мысль о небесных окнах. Небо, по народному выражению, терем божий, а звезды – окна, из которых смотрят ангелы. Связывая это представление с верою в зависимость судьбы человеческой от звезд, поселяне наши утверждают: как только народится человек, то Господь тотчас же велит прорубить в небе окошечко и посадит к нему ангела наблюдать за делами и поступками новорожденного в продолжение всей его жизни; ангел смотрит и записывает в книгу, а людям кажется, что то звезда светится. А когда человек умрет – окно запирается и звезда исчезает = падает с неба.
В народной сказке, замечательной по свежести древнемифических представлений, Иван‑царевич, будучи преследуем злою ведьмою, скачет к теремам Солнцевой сестры (= Зори) и просит укрыть его: «Солнце, Солнце! отвори оконце». Приготовляя с вечера опару для поминальных блинов, крестьянки становятся против месяца и шлют к нему такое воззвание: «Месяц, ты Месяц, золотые твои рожки! выглянь в окошко, подуй на опару».
По преданию русского народа, сам Бог научил человека делать окна. Долго люди не знали, как бы предохранить себя от непогоды и стужи; наконец черт ухитрился и выстроил для них избу: всем бы хороша – и тепло, и уютно, да темно, хоть глаз выколи! Сколько ни возился лукавый, а этому горю не помог. Но явился Господь и прорубил окно; с тех пор люди стали строить избы с окнами. Это один из древнейших мифов, примененный позднее, при забвении метафорического языка, к жилью человека. В грядах зимних облаков нечистая сила созидала свои постройки, помрачающие светлое небо; но весною являлся бог‑громовник, рубил молниями тучи и давал миру свет, или, выражаясь метафорически, прорубал окно в небесном чертоге.
Называя солнце глазом, народ невольно должен был соединить с его закатом мысль о сне, смежающем очи, а с восходом – мысль о пробуждении. У нас это представление выразилось в пословице: «Чем черт не шутит, когда бог спит», т. е. ночью, когда перестает светить солнце и всем овладевает нечистая сила мрака. «С Успеньева дня (15 августа), говорят великорусские крестьяне, солнце засыпается», т. е. ночь удлиняется, а день становится меньше.
Как свет уподоблялся зрению, так, в свою очередь, зрение нередко получало значение света. Из древнеязыческих преданий о создании человека видно, что сродство этих понятий послужило основою весьма знаменательного мифа о происхождении человеческих глаз. По свидетельству старинных славянских и немецких памятников, восходящих до XII столетия, очи человеческие создались от солнца; верование это известно было и древним индусам. Если рукописные свидетельства говорят о происхождении глаз от солнца, то следующие слова одного из записанных мною заговоров приписывают это творческое дело звездам: «Господи Боже, благослови (принять) от синя моря – силу, от сырой земли – резвоты, от частых звезд – зрения, от буйна ветра – храбрости».
Стремительность света, скорый полет птицы и мгновенная передача предметов глазом порождали одно общее понятие о быстроте, и потому как солнце олицетворялось в виде птицы, так и «глаза» народная загадка изображает в такой метафоре: «сидит птица, без крыльев, без хвоста; куда ни взглянет – правду скажет».
В смелой поэтической картине живописует русская сказка ночь, блестящую звездными очами: злая мачеха посылает падчерицу за огнем к Бабе‑яге. Поздним вечером приходит она к избушке ведьмы; вокруг избы – забор, на заборе торчат человеческие черепа, а в тех черепах блестят глаза и озаряют поляну; к утру глаза потухают, а с вечера снова зажигаются и светят во всю ночь. Девушка сняла один череп с горящими очами, вздела его на палку и, освещая перед собою дорогу, пустилась назад. Воротившись домой, она вошла в горницу; а глаза из черепа так и глядят на мачеху и ее родных дочерей, так и жгут огнем: куда ни прятались бедные, глаза везде находили и к утру превратили их в черный уголь.
Такое сближение понятий света и зрения проведено в народной речи до мельчайших подробностей. Так кривого человека, лишившегося одного глаза, называют «полусветье», ибо понятие полного света соединяется с двумя глазами. Наоборот, о солнце, когда оно начинает опускаться к западу, говорят, что оно косится. Кроме того, умаление дневного света, когда заходит солнце или тучи заволакивают небо, уподобляется нахмуренным, полузакрытым очам: а) сумерки (сумрак) – время солнечного заката; морок (обморок) – мгла, туман, облака, паморок (паморока, паморка) – пасмурная погода с мелким дождем, морочный и паморочный – пасмурный, туманный, заморочило – небо покрылось тучами или туманами; и b) мороком – незаметно, невидимо, сумериться – нахмуриваться, надвигать брови на глаза, сумеря – кто смотрит на хмурясь, сердито; подобно тому невыгляд – угрюмый человек.
До сих пор слышится в разговорной речи выражение: смотреть или нахмуриться сентябрем, т. е. смотреть исподлобья, надвинув на глаза брови. Такой суровый взгляд уподобляется сентябрьскому солнцу, отуманенному осенними облаками. Наоборот, о ненастной погоде, предвещающей дождь, говорят: небо хмурится; следовательно, облака и тучи, издревле называемые на метафорическом языке волосами, здесь сравниваются с бровями и ресницами, а солнце – с глазом.
Утрата зрения приравнивается к темным тучам и непроглядной ночи. Вместе с этим, как шумно пролившийся дождь выводит из‑за туч ясное солнце, или, говоря мифическим языком, возвращает способность зрения этому всесветному глазу, и как роса, падающая на утренней зоре, предвещает скорое пробуждение солнца, так думали и верили, что весенний дождь и утренняя роса могут исцелять слепоту очей. Народная русская сказка сообщает нам предание о живой воде, возвращающей слепому царю зрение; в основе этого предания кроется древнейший миф о весеннем дожде, в ливнях которого умывается пробужденный от зимнего сна царь‑Солнце. В другой сказке («О правде и кривде») упоминается гремячий ключ, наделенный чудесною силою восстановлять потерянное зрение. «Гремячими» источниками называются те, которые, по народному поверью, произошли от удара молнии: в первоначальном значении это – дождевые потоки.
В Оренбургской и других губерниях умывают больные глаза водою, взятою из святого колодца; в Калужской и смежных губерниях страдающий глазами идет к роднику, бросает в него копейку как жертву водяному божеству и почерпает в склянку воды, приговаривая: «Как чиста эта вода, так были чисты и мои очи!» Потом достает со дна источника горсть песку, с приговором: «Как здорова эта земля, так были бы здравы и мои очи!» Песок этот прикладывают к больным глазам, а водою промывают их три раза в сутки.
Наши сказки знают могучего старика с огромными бровями и необычайно длинными ресницами; брови и ресницы так густо у него заросли, что совсем затемнили зрение; чтобы он мог взглянуть на мир божий, для этого нужно несколько силачей, которые бы смогли поднять ему брови и ресницы железными вилами. Этот чудный старик напоминает малороссийского вия – мифическое существо, у которого веки опускаются до самой земли, но если поднять их вилами, то уже ничто не утаится от его взоров; слово «вии» означает: ресницы. В таком грандиозном образе народная фантазия рисовала себе бога‑громовника (деда Перуна); из‑под облачных бровей и ресниц мечет он молниеносные взоры и посылает смерть и пожары. Иногда вместо длинных ресниц и бровей, закрывающих глаза громовника, служит ему повязка, т. е. облачный покров. Тождественные представления, созданные фантазией для «ночи» и «грозы», повели к слиянию этих различных явлений природы в области мифа.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Полезное для учителя