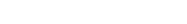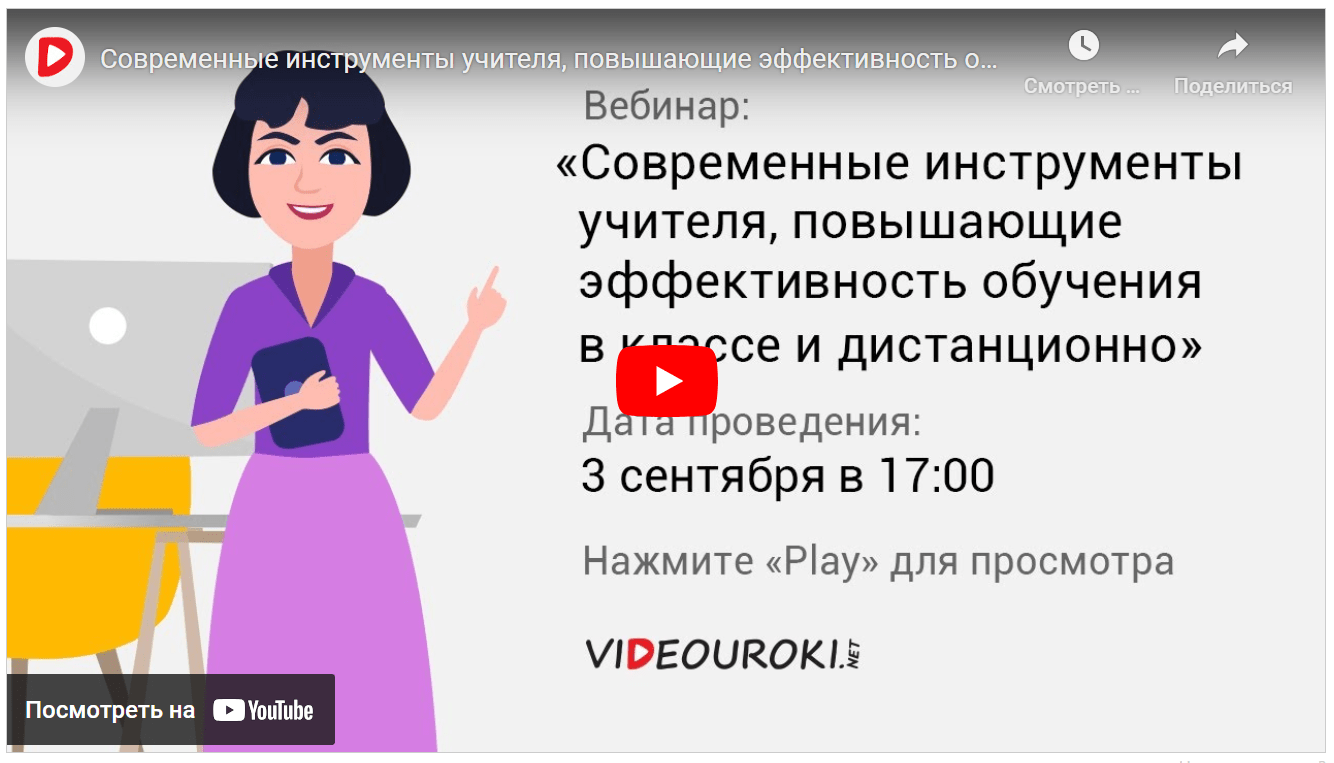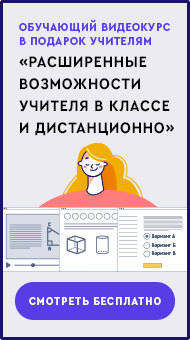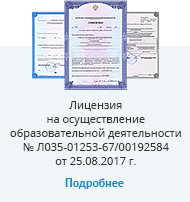Мифологические образы и мотивы в русской литературе 19 века
Введение
Мифологические образы и мотивы имеют место в литературе многих народов. Целью данного спецвопроса является рассмотрение мифологических образов и мотивов в русской литературе 19 века. В связи с этим данный вопрос мною был рассмотрен на примере романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин» (первая половина 19 века) и романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина» (вторая половина 19 века). В данных произведениях, как и во многих других художественных произведениях других авторов, мифологические образы и мотивы помучили своё воплощение в полной мере. Прежде чем обратиться к рассмотрению конкретных художественных произведений, необходимо обратиться к теоретическим исследованиям.
Уже в 20-е годы О.М. Фрейденберг показала на примере античной литературы генезис многих жанров, восходящих к мифу, фольклору: «То, что впоследствии составляет литературные сюжеты и жанры, создаётся именно в тот период, когда нет ещё ни жанров, ни сюжетов. Они складываются из мировоззрения первобытного общества, отлитого в известную морфологическую систему; когда смысл этого мировоззрения исчезает, его структура продолжает функционировать в системе новых осмыслений».
По сути, об этом же сложном процессе «перекодировок» писал и И.А. Ильин: «… первоначальный «помысел», или художественный «заряд», не следует представлять себе в виде сознательной мысли или тем более отвлечённой идеи, посетившей художника. Напротив, обычно поэт не может ни помыслить, ни выговорить своего художественного предмета; если он «мыслит» его, то не умом, а особым сложным актом эстетического чутья; если он «видит» его, то лишь в смутном сне: он может испытывать его воображением любви, или волевым напряжением, или как некий камень, лежащий на сердце, или как радостно зовущую даль».
Ю.М. Лотман отмечает: «Переформулировка основ структуры текста свидетельствует, что он вступил во взаимодействие с неоднородным ему сознанием в ходе генерирования новых смыслов перестроил свою имманентную структуру «Текст в тексте» - это специфическое риторическое построение, при котором различие в закодированности разных частей текста делается выявленным фактором авторского построения и читательского восприятия текста.
Переключение из одной системы семиотического сознания текста в другую на каком-то внутреннем структурном рубеже составляет в этом случае основу генерирования смыслов».
В таком случае и сам творческий акт должен пониматься не как «самовыражение», а как «диалог» писателя с предшествующей традицией. Это может быть и «спор» с традицией, и «преодоление» её, но спор этот носит конструктивный характер и во многом напоминает «агон»: состязание корифея с хором. В этом диалоге-состязании обнаруживаются сверхсмыслы, то, что подчас было непознанным, тайной и для самого писателя.
Так, в 1828 году в черновом наброске «О поэтическом слоге» А.С. Пушкин отмечал: «В зрелой словесности приходит время, когда умы, наскуча однообразными произведениями искусства, ограниченным кругом языка условленного, избранного, обращаются к свежим вымыслам народным и к странному просторечию, сначала презренному».
По сути, в этом черновом наброске он осмысливает не только свой художественный опыт, «магический кристалл», который определил «художественный промысел» «Евгения Онегина», но и всю предыдущую русскую литературу, «проектирует» её будущее развитие. Не случайно Н.В. Гоголь позднее говорил о «страшных гранитах», закладываемых в основы русской литературы, о её особом характере: «Самая речь их (поэтов) будет ближе и родственней нашей русской душе. Ещё в ней слышней выступят наши народные начала Ещё ни в ком не отразилась вполне та многосторонняя, поэтическая полнота ума нашего, которая заключена в наших многоочитых пословицах».
В этом отношении творчество А.С. Пушкина наиболее показательно, так как эти «граниты» закладывал именно он. Опора на фольклорную традицию была связана для него и с «преодолением» поэтики сказки, песни, предания. В этом пересечении «горизонтов», диалектическом споре с традицией и видятся «уроки» Пушкина, парадигма дальнейшего развития русской литературы.
У Л.Н. Толстого мифологические образы в его произведениях воплотились на подсознательном уровне, он воспроизводил их бессознательно, они возникали из глубин коллективного подсознательного, поэтому его роман «Анна Каренина» богато насыщен различными мифологическими образами и мотивами, скрытыми в подтексте этого произведения.
§1. Миф в литературоведении
Литература на протяжении своего развития длительное время использовала традиционные мифы в художественных целях. Мифам свойственно претворение общих представлений в чувственно-конкретной форме, т. е. та самая образность, которая специфична для искусства и которую последнее в известной мере унаследовало от мифологии; древнейшая мифология в качестве некоего синкретического единства заключала в себе зародыши не только религии и древнейших философских представлений, но также искусства, прежде всего – словесного. Художественная форма унаследовала от мифа и конкретно-чувственный способ обобщения, и самый синкретизм.
Что такое мифы? Это понятие имеет множество толкований. Согласно словарю «Мифы народов мира» С.А. Токарева мифы в «школьном» понимании – это прежде всего античные, библейские и другие старинные «сказки» о сотворении мира и человека, а также рассказы о деяниях древних, по преимуществу греческих и римских, богов и героев – поэтические, наивные, нередко причудливые. В «Иллюстрированном энциклопедическом словаре Терра-Лексикон» термин «миф» имеет следующее толкование: миф, 1) повествование о богах, духах, обожествлённых героях и первопредках, возникшие в эпоху первобытнообщинного строя. В мифе переплетены ранние элементы религии, философии, науки и искусства. Мифам разных народов присущи сходные и повторяющиеся темы и мотивы. Наиболее типичны мифы о происхождении мира (космогонические мифы) и человека (антропогонические мифы); о происхождении Солнца (солярные мифы), Луны (лунарные мифы), звёзд (астральные мифы); мифы о животных; календарные мифы и др. Особое место занимают мифы о возникновении ремёсел, а также от установлении определённых социальных институтов, правил, обрядов, обычаев. Для мифа характерна персонификация природы. В первобытном обществе миф – основной способ познания мира, опирающийся на своеобразную логику (тождественность субъекта и объекта, предмета и его обозначения, существа и его имени). 2) Переносное значение понятия «миф» - ложные, некритические, оторванные от действительности состояния сознания, концепции, представления. «Литературная энциклопедия терминов и понятий» А.Н. Николюкина определяет термин «миф» следующим образом: миф (греч. mythos – предание) – древнейшее сказание, являющееся неосознанно-художественным повествованием о важных, часто загадочных для древнего человека природных, физиологических и социальных явлениях, происхождении мира, загадке рождения человека, подвигов богов, царей и героев, об их сражениях и трагедиях. Миф был порождением определённой фазы в развитии человеческого сознания, пытавшегося художественно, в виде персонификации, отразить действительность и объяснить её посредством конкретно-чувственных образов и ассоциаций, перцепций, носящих своеобразно логический характер. Принципиальной особенностью мифа является его синкретизм – слитность, нерасчленённость различных элементов – художественного и аналитического, повествовательного и ритуального.
Обратимся к понятиям образа и мотива.
Художественный образ – одна из основных категорий эстетики, которая характеризует присущий только искусству способ отображения и преобразования действительности. Образом также называется любое явление, творчески воссозданное автором в художественном произведении.
Мотив в литературе, простейшая, неразлагаемая далее смысловая единица в мифе и сказке ("увоз невесты"). Комбинация нескольких мотивов составляет фабулу (сюжет). Мотивы в эпосе разных народов часто сходны. Фольклорные мотивы могут использоваться в более поздние эпохи. В литературе нового времени мотивы простейшие единицы сюжетного развития: динамические, двигающие фабулу, или статические, описательные, но необходимые для сюжета. Значимость мотива зависит не от собственного смысла, а от его роли в художественной конструкции.
Мифологическая основа имеет место во многих произведениях мировой литературы, и русская литература не является исключением. В русской литературе мифологические образы и мотивы встречаются в таких произведениях как «Капитанская дочка» А. С. Пушкина, «Гроза» А.Н. Островского, во всём творчестве Н.В. Гоголя и Ф.М. Достоевского. Исследованием мифопоэтики русской литературы занимались многие известные учёные, такие как Л.А. Ходанен, А. Ханзен-Лёве, В.А. Маслова, Л. Силард (Италия; работы на русском языке), развивающей идеи Вяч. Иванова и Г. Шпета, работы В.Н. Топорова, Б.М. Гаспарова, Е.М. Мелетинского, С.М. Телегина и др. Исследованием теории мифа занимались такие учёные как Дж. Фрэзер, Дж. Кэмпбелл, Р. Грейвс, М. Элиаде, Е.М. Мелетинский, С.М. Телегин и др.
§2. Первая половина 19 века
А.С. Пушкин (1799 – 1837). Мифологические образы и мотивы в романе «Евгений Онегин»
О фольклоризме «Евгения Онегина» написано много: тема эта привлекает и будет привлекать внимание не только литературоведов, но и историков культуры, этнологов, языковедов, фольклористов. В своё время Г.А. Гуковский отмечал: «Идейное построение «Евгения Онегина» основано на сопоставлении, а в первых главах и противопоставлении Онегина и Татьяны, то есть двух типов культуры и морально-психологического склада, обоснованных в свою очередь двумя видами среды, воспитания, культурных и бытовых воздействий и – ещё глубже – двумя видами отношений к национально-народному началу в жизни и культуре».
Далеко не случайно большинство исследователей обращается к особенностям быта семьи Лариных, так сказать, этнографическому аспекту, а на более высоком уровне – образу Татьяны Лариной. Так, О.Н. Гречина пишет: «Как нам кажется, образ Татьяны создавался в ином ключе, чем образ других героев романа. Отличие заключается прежде всего в том, что все «точки зрения» в романе, которые должны в совокупности привести к раскрытию образа, не приближают нас к истинному пониманию Татьяны, а уводят от него. В восприятии других героев романа Татьяна не понята в её духовной сущности, впечатления о ней часто внешние.
Связано это прежде всего с сакральностью, метафизичностью этого образа. О.Н. Гречина обратила внимание на такую выразительную деталь: «И часто целый день одна сидела молча у окна». Казалось бы, это чисто «бытовая» деталь, но в контексте романа она имеет совершенно иной смысл. Не случайно М. Цветаева по поводу некоторых «бытовых» интерпретаций романа иронически отзывалась: «Быт. Нужно же, чтобы люди были как-нибудь одеты».
Во многом эта деталь («девушка у окна») является семантически «заряженной», она идёт от песенной символики и является определяющей в создании образа Татьяны:
Дитя сама, в толпе детей
Играть и прыгать не хотела.
И часто целый день одна
Сидела молча у окна. (V, 61)
Не случайно Ленский характеризует её именно по этой «примете»:
- Скажи: которая Татьяна?
- Да та, которая грустна
И молчалива, как Светлана,
Вошла и села у окна. (V, 74)
Как отмечает А.М. Байбурин, всем действиям у входа / выхода дома (а таковыми являются не только двери, но и окна) «в фольклоре приписывается высокая степень семиотичности». Различают два вида связи дома с внешним миром – регламентированную (осуществляемую посредством входа / выхода через двери) и нерегламентированную (через окно, дымоход и т.д.)
Особое значение окна проявляется в том, что оно связывает жилище / дом не просто с внешним миром, но и с миром космических явлений, таких как солнце, луна, стороны света. Окна непосредственно связаны с иным пространством и временем, что отчётливо проявляется в похоронном обряде. Через окно поддерживается связь с миром мёртвых: «В окошко вывешивают полотенце, по которому должны подниматься в избу или спускаться обратно
Таким образом, можно с уверенностью говорить о том, что Татьяна не просто «девушка у окна» (то есть у неё «статус» невесты), но и обладает особыми знаниями:
Одна, печально под окном
Озарена лучом Дианы,
Татьяна бедная не спит
И в поле тёмное глядит. (V, 118)
Очень трудно представить себе ситуацию, когда в реальном дворянском быту девушка в лунную ночь, одна, отправляется в дом к молодому мужчине. При всей простоте деревенских нравов вряд ли что-либо подобное было возможно, а между тем, «В поле чистом, // Луны при свете серебристом» идёт она к усадьбе Онегина. «Сквозь сумрак лунный» видит впервые его кабинет.
Между тем стоит вспомнить знаменитое пушкинское определение, и всё встанет на свои места:
Татьяна верила преданьям
Простонародной старины.
И снам, и карточным гаданьям,
И предсказаниям луны. (V,125)
Примечательно, что и письмо Онегину она пишет, «смотря на луну». Конечно же, количество примеров можно было бы умножить, однако совершенно ясно: «простонародная старина» таила в себе слишком много такого, что никак не умещалось в рамки «проклятого воспитания». Пушкин эти «рамки» значительно раздвигает, и в кульминационные моменты это космическое знание проявляется в полной мере, стоит вспомнить знаменитую сцену разговора с няней:
- Я влюблена, - шептала снова,
Оставь меня: я влюблена.
И между тем луна сияла
И томным светом озаряла
Татьяны бледные красы,
И распущенны власы
И капли слёз…
…
И всё дремало в тишине
При вдохновительной луне. (V, 83)
Как отмечает В.М. Маркович, принципиальное значение в структуре романа имеет сон Татьяны.
Показательно, что анализируя этот сон, Лотман делает принципиально важный вывод: «Сон Татьяны является центральным для психологической характеристики «русскою душою» героини. Он реалистически мотивирован напряжёнными переживаниями Татьяны после объяснения с Онегиным и специфической атмосферой святок – временем, когда девушки, согласно фольклорным представлениям, в попытках угадать свою судьбу вступают в рискованную и опасную игру с нечистой силой».
По мнению исследователя, «сон – органический сплав сказочных и песенных образов, проникших из святочного и свадебного обрядов». Итак, акцент делается на ритуальность сна, его особой символике. Но при этом следует учитывать и мнение крупнейшего специалиста по мифологии Е.М. Мелетинского: «Мифология воплощала «абсолютное» прошлое рода, племени, человечества. Это прошлое выступало как источник всего субстанционального в настоящем».
Ритуал – это разыгрываемый миф, его игровое воплощение. Поэтому и все явления повседневной жизни возводились к «прасобытиям», к священным деяниям первопредков. Как отмечает Н.Н. Велецкая: «В народном сознании ритуальное действие относилось к бытовой жизни как реальности мистического порядка».
По мнению В.М. Марковича, сон пушкинской героини по существу носит инициационный характер, в нём воссоздаётся акт ритуального приобщения к высшим ценностям, но уже, как и в сказке, индивидуального. Исследователь выделяет в этом сне мифологический аспект, оговаривая при этом, что «здесь нет таких парафраз и реминисценций, которые связывали бы пушкинские образы с какими-то конкретными сюжетами и образами древних мифологий. Воссоздаются скорее некие обобщённые архетипы мифологического мироощущения».
О «структурированности» пушкинских «снов», как мы уже говорили, писал в своё время М. Гершезон: «Весь «Евгений Онегин» - как ряд открытых светлых комнат, по которым мы свободно ходим и разглядываем всё, что в них есть. Но вот в самой середине здания – тайник; дверь заперта, мы смотрим в окно – внутри все загадочные вещи; это сон Татьяны».
Сопоставив три сна (сон Руслана, Марьи Гавриловны – из «Метели», Гринёва), Гершезон пришёл к выводу о том, что все три сна построены по одному плану: «Такое троекратное повторение плана, - отмечает он, - на далёком расстоянии времени (1819 – 1833) несомненно указывает, что он был продуман и сознательно усвоен Пушкиным». По мнению исследователя, во всех трёх снах можно выделить две стадии: во-первых, начальная картина, где на сцене исключительно реальные образы – мысли, чувства, восприятия, непосредственно возникшие из действительности, во-вторых, реальные душевные образы уже поглощены и претворены воображением. Здесь душа творит уже не только формы видения, - она из едва уловимых чувственных восприятий создаёт грандиозные, полные иной существенности образы, а именно, «вторая часть снов носит провидческий характер».
По мнению исследователя, «медведь» - прообраз будущего жениха Татьяны, а переход через реку означает свадьбу». В свадебной обрядовой поэзии, действительно, медведь-пыхтун является символом жениха, что уже давно было замечено А.А. Потебнёй. Но у Пушкина отношение к фольклору гораздо сложнее: он не просто «послушно» следует его образной системе, но спорит с ней, трансформирует её, создаёт нечто принципиально новое.
Как мы помним, медведь кладёт Татьяну на порог лесного дома, причём, по его словам: «Здесь мой кум: // Погрейся у него немножко». В этой связи уместен вопрос: а что это за «жених» такой, почему он «отдаёт» невесту другому? Да и с какой стати Онегин ему «кум»? Как известно, порог – это граница между «своим» (освоенным пространством) и «чужим» (неосвоенным).
В сне Татьяны во главе чудовищ – Онегин, а сам «шалаш убогий» по сути разбойничий дом.
Устойчивой приметой такого дома является отсутствие икон:
Вошли толпой, но поклоняясь,
Икон не замечая;
За стол садятся, не молясь
И шапок не снимая. («Жених»)
С такой же «приметой» разбойничьего дома мы встречаемся и в «Капитанской дочке». В «лесной избушке», «разбойничьем доме» и происходит временная смерть, новое рождение, то есть приобщение к сакральным знаниям. Вот почему свадьба ассоциируется с похоронами:
Опомнилась, глядит Татьяна:
Медведя нет; она в сенях;
За дверью крик и звон стакана,
Как на больших похоронах.
…
И что же видит?.. за столом
Сидят чудовища кругом.
…
Онегин за столом сидит
И в дверь украдкою глядит.
Он знак подаст – и все хохочут,
Он пьёт – все пьют и все кричат; (V, 131)
Итак, Татьяна провидит в Онегине бесовское начало, сон её носит вещий характер, не случайно она видит во сне место будущей дуэли Онегина и Ленского («Вот мельница вприсядку пляшет // И крыльями трещит и машет), да и саму дуэль («… свет блеснул; // И дико он очами водит»).
В идеальном мире, мире гармонии и красоты царствует Татьяна, ибо и имя её означает мироустроительница, госпожа порядка. Тем самым она и подтверждает своё высокое предназначение. И вот здесь мы, пожалуй, подходим к главному: ведь Татьяна Ларина ещё и «неприступная богиня роскошной царственной Невы». В мифологии практически всех народов мира, как известно, есть богини рек, богини источников. Методологически важным в этом отношении для нас является наблюдение В.К. Соколовой: «Вода, в частности река, понимается как преграда, рубеж, разделяющий разные миры или разные этапы жизни, и её при переходе в новое состояние надо было преодолевать».
Автор в «Евгении Онегине» совершил своё путешествие по России задолго до героя, его видение Тавриды (Сурожа и Амастриды) носит сакральный характер: «Вы мне предстали в блеске брачном…», - если его открытие свершилось, если мир открыт духовным очам («Какой во мне проснулся жар! // Какой волшебною тоскою // Стеснялась пламенная грудь!»), то Онегину ещё и предстоит путешествие к «самому себе», и открытие новой Татьяны, «богини царственной Невы».
Но такое открытие предстояло и читателю: эпическое начало, конечно же, есть в романе, но оно далеко не явно, а опосредованно, диалектика отрицания здесь налицо, поэтому искать «эпическое» в Татьяне, её замужестве – значит ломиться в открытую дверь.
В этом отношении весьма поучительна теоретическая посылка Е.М. Мелетинского: «Разумеется, последователи Гегеля правы в том, что в новое время, в условиях буржуазного общества, невозможно создание героической эпопеи и что ведущим повествовательным жанром, стремящимся к решению общеэпических целей, становится роман; правы они и в том, что роман достигает этих целей парадоксальным образом, оставаясь эпосом частной жизни, поскольку глубинные общественные отношения теперь скрыты под поверхностью игры частных интересов».
Не случайно в черновых вариантах «Путешествия Онегина» Пушкин так по-приятельски ироничен по отношению к своему герою: «Наскуча или слыть Мельмотом, // Иль маской щеголять иной // Проснулся раз он патриотом // Дождливой, скучною порой. // Россия, господа, мгновенно // Ему понравилась отменно, // И решено. Уж он влюблён, // Уж Русью только бредит он, // Уж он Европу ненавидит.» (Y, 307).
«Не такова она вовсе, - говорил Достоевский о Татьяне, - у ней в отчаянии и страдальческом сознании, что погибла её жизнь, всё-таки есть нечто твёрдое и незыблемое, на что опирается её душа. Это её воспоминания детства, воспоминания родины, деревенской глуши, в которой началась её смиренная, чистая жизнь, - это «крест и тень ветвей над могилой её бедной няни». О, эти воспоминания и прежние образы только и остались ей, но они-то и спасают её душу от окончательного отчаяния».
Правда, в своей речи Достоевский говорит о Татьяне как реальной, земной женщине (её нелюбовь к мужу он объяснял тем, что это «старик», хотя он ровесник Онегина, его близкий приятель), и, казалось бы, налицо явное противоречие: не следует ли понимать «неприступную богиню царственной Невы» просто как украшающий эпитет. При этом, думается, следует иметь в виду, что речь, как публичное выступление, имеет, конечно же, свои законы, она рассчитана на широкую аудиторию, однако в своих художественных произведениях, ведя свой сакрализованный диалог с Пушкиным, он иной.
«Тихий ласковый обычай», который так привлекает к Татьяне всех окружающих («К ней дамы подвигались ближе; // Старушки улыбались ей; // Мужчины кланялися ниже, // Ловили взор её очей; // Девицы проходили тише…). «Свычай и обычай», как у матушки Гринёва (правда уже в ироническом контексте) является доминантой при характеристике Татьяны Лариной:
Она была нетороплива,
Не холодна, не говорлива,
Без взора наглого для всех,
Без притязаний на успех,
Без этих маленьких ужимок,
Без подражательных затей.
Всё тихо, просто было в ней. (V, 204)
Органическое сочетание величавости и простоты поэтому так поражает Онегина: «Ужели, думает Евгений, - // Ужель она? Нет, точно… Нет… // Как! из глуши степных селений…»
К этому «чудесному превращению» с таким же недоумением, ошеломлённостью не раз будут обращаться и критики, и литературоведы. И с бытовой точки зрения это «чудо» не объяснишь. Но пушкинский образ хранит память иных эпох, иных тысячелетий, и далеко не случайно «параллелью» Татьяне, «царственной неприступной богине царственной Невы», «белой Невы», «белой Богине» является Нина Воронская – «Клеопатра Невы».
Об интересе Пушкина к египетской истории, египетской мифологии написано немало, но в этой связи нужно напомнить: покровительницей Клеопатры считались Селена и Изида, в её корне мы видим изображение коровьих рогов, Луны и змеи. Как «спутница Великой Богини» она имела право выбирать себе временного супруга, что отражало представления о ритуальной сезонной жертве.
И пушкинский идеал включал в себя именно эти представления о «женском начале». Поэтому так трудно Онегину смириться с мыслью, что, в сущности, он не разглядел, да и не мог разглядеть в силу своей душевной слепоты величие в сельской девушке, её право на выбор: «Кто б смел искать девчонки нежной // В сей величавой, в сей небрежной // Законодательнице зал?»
В своей недавней статье Ю.В. Лебедев пишет: «Духовные глаза Онегина» наконец-то приоткрываются: от внешних впечатлений, от мало помогающих ему книг, в которых запечатлелась далёкая от русской почвы чужая мудрость, он обращается к глубинам собственного сердца. И там, в тёмных, не прояснённых для него лабиринтах, начинают блуждать спасительные, манящие огни Вот эти русские глубины дремлющей онегинской души, которые она начинает обнаруживать в себе, как раз и выводят его к Татьяне, которую он не понял, не оценил тогда, и которую тщетно пытается понять сейчас».
Как мы помним, Тезея из Лабиринта выводит нить Ариадны, и перед нами «великая мистерия», не случайно Онегин в момент последнего свидания стоит «как громом поражённый».
«Скитальчество» для русского дворянства началось задолго до Петровских реформ (это и добровольное служение царю – ордынскому хану, а во время Смуты и после неё – подражание польскому двору; при правлении Алексея Михайловича таким светским языком был польский). В послепетровские времена этот разрыв между народными началами и «светским» миропониманием только усилился, и пушкинский «свободный роман» для всей последующей русской литературы стал образцом преодоления такого разрыва.
В нём торжествовали «мир», соборность, да, собственно, об этом и говорил Достоевский в своей знаменитой речи: «Итак, в «Онегине», в этой бессмертной и недосягаемой поэме своей, Пушкин явился великим народным писателем, как до него никогда и никто. Он разом, самым метким, самым прозорливым образом отметил самую глубь нашей сути, нашего верхнего над народом стоящего общества. Отметив тип русского скитальца, скитальца до наших дней и в наши дни, первый увидав его гениальным чутьём своим, с исторической судьбой его и с огромным значением его в нашей грядущей судьбе, рядом с ним поставив тип положительной и бесспорной красоты в лице русской женщины, Пушкин, и, конечно, тоже первый из писателей русских, провёл перед нами в других произведениях этого периода своей деятельности целый ряд положительных прекрасных русских типов, найдя их в народе русском».
§3. Вторая половина 19 века
Л.Н. Толстой (1828 – 1910). Мифологические образы и мотивы в романе «Анна Каренина»
Трудно представить себе писателя, более удалённого от сознательного влечения к мифу и мифотворчеству, чем Л.Н. Толстой, всё раннее творчество которого прошло под знаменем отрицания романтических традиций и мифов. Однако миф часто проявляется в художественном произведении вне зависимости от желания самого писателя. Романы Толстого – прекрасный пример бессознательности, неосознанности мифотворчества, когда миф проявляется не в содержании, а в форме, структуре произведения. Это относится, в частности, к роману «Анна Каренина», который только внешне может быть воспринят как пародия на миф о Елене и Парисе или рассмотрен сквозь оперетту «Прекрасная Елена», на что содержится намёк даже в тексте. Связь этого романа с мифом на самом деле глубинная, не сразу осознаваемая самим писателем.
Одной из особенностей мифологического романа в XIX в. являются диалогические отношения между содержанием, выраженным непосредственно в тексте произведения, и подтекстом, сформированном чаще всего неосознанно и представленном через намёки, отдельные повторяющиеся слова и неуловимые на первый взгляд характеристики. Иногда эти отношения между текстом и подтекстом бывают прямые, проявляются как согласованные, иногда – антагонистические, иногда – в форме параллелизма, когда текст и подтекст развиваются параллельно, самостоятельно, не пересекаясь. Чаще всего подтекст формируется в романе вне осознанного желания автора, бессознательно для него, когда роман и его герои говорят и значат больше, чем этого хотел писатель. В бессознательном подтексте и скрывается тайна мифотворчества и самого мифологического романа. Художественное творчество стремится максимально полно и ярко выразить содержание бессознательного в писателе. Поэтому такое творчество зачастую протекает как бессознательный, спонтанный процесс, не связанный с желанием художника.
Бессознательное в романе Толстого «Анна Каренина» определяется прежде всего бессознательностью его заглавной героини. Анна зачастую действует не по своей воле, а «как будто избыток чего-то переполнял всё её существо, что мимо её воли выражался то в блеске взгляда, то в улыбке»; она и сама понимает, что действует «против воли». Героиня «бессознательно» стремится вызвать любовь Левина, но сама становится «бессмысленно ревнива». Также и Вронский чувствует, что «волны моря бессознательной жизни стали уже сходиться над его головой», и он начинает погружаться в сон, но и наяву герой «совершенно бессознательно хватался то за политику, то за новые книги, то за картины». Следует признать, что «бессознательное» является не просто ключевым словом, но и одним из характерообразующих понятий в этом романе.
Известно, как тщательно работал Толстой над структурой своих произведений. Относительно его творчества можно с уверенностью сказать, что если миф и присутствует, то он содержится именно в форме, а не в самом содержании непосредственно. Миф как форма сознания, как откровение, скрытое в подтексте и явленное в структуре произведения, реализуется и воспринимается читателем исключительно бессознательно. Неустойчивость системы в каждой точке, хаотичность вызывает стремление к жесткой структуре. Упорядоченность формы есть следствие неосознанной тяги к структуризации и стабильности системы. Внутренняя логика материала, как правило, порождает циклическую, круговую конструкцию. В романе «Анна Каренина» круговая композиция связана с традиционной для творчества Толстого темой смерти. В начале произведения Анна, приехав в Москву, становится свидетельницей гибели рабочего под колёсами поезда. Раздавленный поездом сторож – вот первое потрясение Анны в Москве. Сама того не зная, героиня идёт навстречу своей судьбе: «Дурное предзнаменование», - говорит она брату, и с этих слов Анна неосознанно, невольно определяет свой финал. Ощущение судьбы не отпускает героиню: ей неприятно вспоминать о случившемся на вокзале. «Она чувствовала, что в этом было что-то касающееся до неё и такое, чего не должно было быть».
Характерны некоторые важные детали: сторож был задавлен по неосторожности, однако кто-то из прохожих крикнул: «Бросился!». Другой, отвечая на слова об «ужасной смерти», замечает: «Я думаю, напротив, самая лёгкая, мгновенная». Всё это слышит Анна, и эти слова входят в её подсознание, кодируют её поведение, когда в конце романа бессознательно выходит наружу из тайников души и определяет её поведение. В мгновение до самоубийства, «вдруг, вспомнив о раздавленном человеке в день её первой встречи с Вронским, она поняла, что ей надо делать». Реализовав поведенческую модель, закодировавшую её бессознательное, она лишь обрела свою судьбу.
Слово «бросился», ошибочное по отношению к раздавленному поездом рабочему, определило её поступок, оказалось верным по отношению к Анне, когда она «упала под вагон на руки и лёгким движением, как бы готовясь тотчас же встать, опустилась на колена». Судьба настигает Анну. Толстой строит свой роман на повторении одного и того же события (смерть под колёсами поезда) в начале и в конце, как определение и свершение судьбы героини. Однако эти две смерти (рабочего и Анны) усиливаются в середине романа мотивом мнимой или неудавшейся смерти от родильной горячки. Смерть от родов воспринималась бы как закономерный финал – наказание за грех.
Мотив смерти вносит в композицию мифологического романа драматический элемент, а его повторение с усилением в конце циклизует и упорядочивает весь художественный материал. Толстой в стремлении к циклической упорядоченности текста реализует закон последовательного повторения событий (одни и те же герои в одних и тех же ситуациях: Вронский видит задавленного рабочего и погибшую Анну). Ключевые единицы текста несут здесь основную смысловую нагрузку, причём действует закон возрастания смыслового веса к концу произведения.
В романе «Анна Каренина» все ключевые повторяющиеся образы формируют маниакальную мифологию и определены параноидально-критической космологией героини. Главное место среди ключевых образов такого типа занимает «железный мужичок». Этот параноидный образ преследует Анну с того момента, когда в Москве она стала свидетелем гибели сторожа под колёсами поезда. Странный «мужичок» преследует героиню в её видениях и почти всегда связан с железной дорогой или с железом. Анна возвращается в Петербург, она дремлет в вагоне поезда и ей кажется, что какой-то мужик « с длинною талией принялся грызть что-то в стене», при этом « что-то страшно заскрипело и застучало, как будто раздирали кого-то; потом красный огонь ослепил глаза, и потом всё закрылось стеной». Это видение повторилось наяву в конце 7 части романа, когда Анна бросилась под поезд: «Мужичок, приговаривая что-то, работал над железом». Так Анне во сне открывается её реальная судьба: это её тело будет «разодрано» колёсами поезда, а дальнейшее для неё «закрыто стеной». Мужичок – это образ смерти, её предвестник. Именно его Анна видит во сне перед родами, и она уверена, что должна умереть. Она видит, «что этот мужик маленький с взъерошенной бородой и страшный. Я хотела бежать, но он нагнулся над мешком и руками что-то копошится там…». При этом страшный мужик по-французски говорит: «Надо ковать железо, толочь его, мять». Ещё удивительнее то, что в ту же ночь этот мужичок снится и Вронскому: «Мужик-обкладчик, кажется, маленький, грязный, со взъерошенной бородкой, что-то делал нагнувшись и вдруг заговорил по-французски какие-то странные слова. Он живо вспомнил опять мужика и те непонятные французские слова, которые произносил этот мужик, и ужас пробежал холодом по его спине» Таинственный мужик объективируется настолько, что проникает в сны обоих героев, причём он приносит им один и тот же сон – о смерти, о страшной судьбе. Мужичок – странник, путешествующий по снам разных людей, это мистический герой мифологического романа.
Кошмар о мужичке, навязчиво преследующий героиню, вновь посещает её уже перед самоубийством: «Утром страшный кошмар, несколько раз повторявшийся ей в сновидениях ещё до связи с Вронским, представился ей опять и разбудил её. Старичок-мужичок с взлохмаченной бородой что-то делал, нагнувшись над железом, приговаривая бессмысленные французские слова, и она, как и всегда при этом кошмаре (что и составляло его ужас), чувствовала, что мужичок этот не обращает на неё внимания, но делает это какое-то страшное дело в железе над нею, что-то страшное делает над ней. И она проснулась в холодном поту». Он безучастен по отношению к ей, совершает над ней какое-то дело, не обращая внимания на неё, как и самого его поезд раздавил «безучастно», «не обратив на него внимания». Поезд, ставший судьбой для сторожа, раздавивший его – это образ судьбы.
Образцом безучастной судьбы становится мужичок для Анны. В конце концов страшный мужик полностью материализуется, за несколько минут до смерти Анна видит его уже наяву: « Испачканный уродливый мужик в фуражке, из-под которой торчали спутанные волосы, прошёл мимо этого окна, нагибаясь к колёсам вагона. «Что-то знакомое в этом безобразном мужике», - подумала Анна. И, вспомнив свой сон, она, дрожа от страха, отошла к противоположной двери».
Странно, что в романе образ мужика перекликается с медведицей и медвежьей охотой. Так, в голове Вронского перемешались се образы, виденные им, и «связались с представлением об Анне и мужике-обкладчике, который играл важную роль на медвежьей охоте», и сразу вслед за этим он видит сон о маленьком мужичке с взъерошенной бородкой, говорившем по-французски. Старик-обкладчик в сне Вронского – это и есть старик, преследующий (обкладывающийся, охотящийся) Анну, а медведица, на которую он охотится, - это и есть сама героиня.
Старичок и медведь – это образное выражение бессознательного обоих героев, их тени, «тёмные стороны» их души. Тень – носитель бессознательного, всего апофатического и трансцендентного, что, будучи непознаваемым для человека, вызывает в нём страх. Тень – это то, что в силу своей мистичности нарушает стабильную жизнь человека и затемняет «светлое» сознание. Поэтому тень часто проявляется в образе животного, карлика, страшного старика, бродяги, фигуры, наделённой низким статусом. Тень – это тёмная половина человеческой души, которую он проецирует вовне. Встреча с Тенью (Анны или Вронского с мужичком) – это прежде всего болезненная встреча с самим собой, настоящим и устрашающим, со своей судьбой.
С образами тени и смерти в романе связаны образы света и жизни. Героиня едет в Петербург, и служанка держит на коленях красный мешочек; в конце романа, когда Анна едет на вокзал, в руках у неё «маленький красный мешочек», который она затем кладёт в вагоне на диван. Именно красный мешочек, который Анна принялась снимать с руки, задержал её при первой попытке самоубийства, но затем она откинула «красный мешочек» и упала под вагон. Это и есть тот самый мешок, в котором копался страшный мужик из её сна. Красный мешочек, который она отбрасывает перед самоубийством, - это образ её сердца, её жизни, которую она «отбрасывает» от себя. То, что ей удаётся сделать это только со второго раза, означает, что героиня, хотя и бессознательно, всё ещё цепляется за жизнь.
Также очень важен и образ горящей свечи. Анна лежит в постели при свете догоравшей свечи и думает о смерти, затем она ставит новую свечу «вместо той, которая догорела и потухла», и направление её мыслей меняется: «Нет, всё – только жить». Далее она вспоминает «впечатления мрака при потухшей свече и страшного сна».
Писатель довольно банально соединяет образы потухшей свечи и смерти. На вокзале Анна думает, «отчего же не потушить свечу, когда смотреть больше нечего, когда гадко смотреть на всё это?». Жизнь героини прерывается с этим образом: её свеча «вспыхнула более ярким, чем когда-нибудь, светом, осветила ей всё то, что прежде было во мраке, затрещала, стала меркнуть и навсегда потухла». Горящая свеча – это личная жизнь человека, его душа. Погасшая свеча – распространённый образ смерти. Вспыхивая на мгновение, она освещает тайны души и жизни, в которых Анна запуталась, рассеивает тьму бессознательного, открывая тайны вечность и Абсолюта.
Не случайно, что рядом с образом свечи появляется образ «исполненной тревог, обманов, горя и зла» книги, которую Анна читала. Образ книги – один из ключевых в романе, и без него нельзя проникнуть в тайну образа главной героини. Анна любит читать, выписывает всё, о чём с похвалой писали газеты и журналы, но при этом её чтение особого рода. Анна не просто читает книгу, она хочет погрузиться в неё, отождествляя себя с героями романа. «Анна Аркадьевна читала и понимала, но ей неприятно было читать, то есть следить за отражением жизни других людей. Ей слишком самой хотелось жить. Читала ли она, как героиня романа ухаживала за больным, ей хотелось ходить неслышными шагами по комнате больного; читала ли она о том, как член парламента говорил речь, ей хотелось говорить эту речь; читала ли она о том, как леди Мери ехала верхом за стаей и дразнила невестку и удивляла всех своей смелостью, ей хотелось это делать самой».
Следует отметить, что все перечисленные образы (страшный мужик, железо, струна, медведица, свеча, красный мешочек, книга) появляются не раздельно, но постоянно вместе, соединено, на одних страницах, в одном ряду. Они взаимно определяют друг друга, формируя единую для них мифологию – роман об Анне Карениной.
Гибель Анны имеет катартический смысл для самого писателя. Толстой – это не только Лёвин (так называл своего героя сам автор), но также и Анна. Когда писатель-мужчина создаёт в своих произведениях героинь-женщин, воспроизводит женские характеры и типы, то следует учитывать, что он вовсе не показывает истинные женские характеры. Но на самом деле образы женщин в творчестве мужчины – это отражение бессознательной мужской женственности, женского элемента души писателя-мужчины. Именно как проявление женственного в мужском их и следует изучать.
В Анне Толстой бессознательно раскрывает свои страсти, всё «греховное», что подавлялось им в себе и не могло быть выражено в Левине - положительном герое. Прежде всего, это панический ужас Толстого перед Эросом и его страх смерти. Убивая Анну – тёмную душу Толстого, его Тень, его бессознательное, Толстой снимает собственный страх смерти и Эроса, поэтому он делает это, по словам Л. Шестова «с радостью и торжеством». Толстой выбирает между спасением Анны и своим спасением и убивает героиню, чтобы пережить катарсис. В этом заключается главный миф романа «Анна Каренина».
Заключение
Активное использование мифологических образов и мотивов характерно для литературы как первой половины 19 века, так и для второй половины 19 века. В данном спецвопросе мной был рассмотрен данный вопрос на примере романов А.С. Пушкина («Евгений Онегин») и Л.Н. Толстого («Анна Каренина»). Так, в романе «Евгений Онегин» в качестве мифологических образов и мотивов представлены: окно, девушка у окна (статус невесты), луна, сон, носящий инициационный характер, медведь, вода (Татьяня – «богиня царственной Невы»). Данными проблемами в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин» занимались такие учёные, как Г.А. Гуковский, О.Н. Гречина, А. М. Байбурин, В.М. Маркович, Е.М. Мелетинсий, Н.Н. Велецкая, М. Гершезон, А.А. Потебня, В.К. Соколова, Ю.В. Лебедев.
В свою очередь, в романе Л.Н. Толстого «Анна Каренина» встречаются следующие мифологические образы и мотивы: бессознательное, страшный мужик (символ смерти Анны), железо, струна, медведь, красный мешочек (сердце героини, её стремление и тяга к жизни), потухшая свеча (символ смерти), книга («книга» жизни и трагической судьбы героини). Изучением данных проблем в романе Л.Н. Толстого занимался В.А. Смирнов.
Таким образом, разобрав романы, написанные как в первой, так и во второй половине 19 века, можно сделать вывод о том, что мифологические образы и мотивы широко использовались авторами в своих произведениях и список этих образов и мотивов достаточно объёмен и обширен. Каждый образ и мотив в произведении имеет достаточно широкий контекст истолкования. Разработкой данной проблемы в отечественном литературоведении занимались видные российские учёные.
Список литературы
1. Беглов В.А. Вокруг характера: Монография. - Стерлитамак: Стерлитамак. гос. пед. академия им. Зайнаб Биишевой, 2008. - 202 с.
2. Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. 3-е изд., репринтное. - М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2000. - 497 с.
3. Николюкин А.Н. Литературная энциклопедия терминов и понятий / под ред. А.Н. Николюкина. Институт научн. информации по общественным наукам РАН. - М.: НПК «Интелвак», 2001.
4.Смирнов В.А. Литература и фольклорная традиция: вопросы поэтики (Архетип женского начала в русской литературе XIX – начала ХХ века). Пушкин, Лермонтов, Достоевский. Бунин. – Иваново – 2001. 233 с.
5.Телегин С.М. Русский мифологический роман. – М.: Компания Спутник +, 2008. – 352 с.
6.Терра-Лекскон: Иллюстрированный энциклопедический словарь. - М.: ТЕРРА, 1998. - 672 с.
7. Токарев С.А. Мифы народов мира. Энциклопедия: в 2-х т. / Гл. ред. С.А. Токарев. - М.: НИ «Большая Российская энциклопедия», 1998. - Т.1. А-К. - 672 с.
10