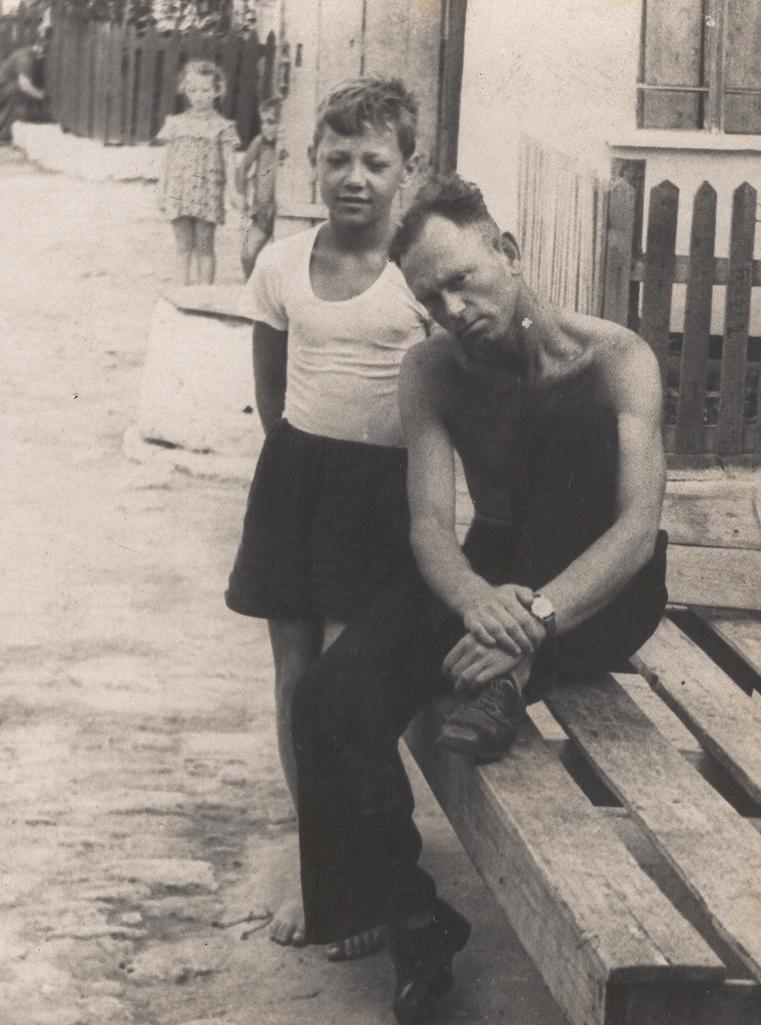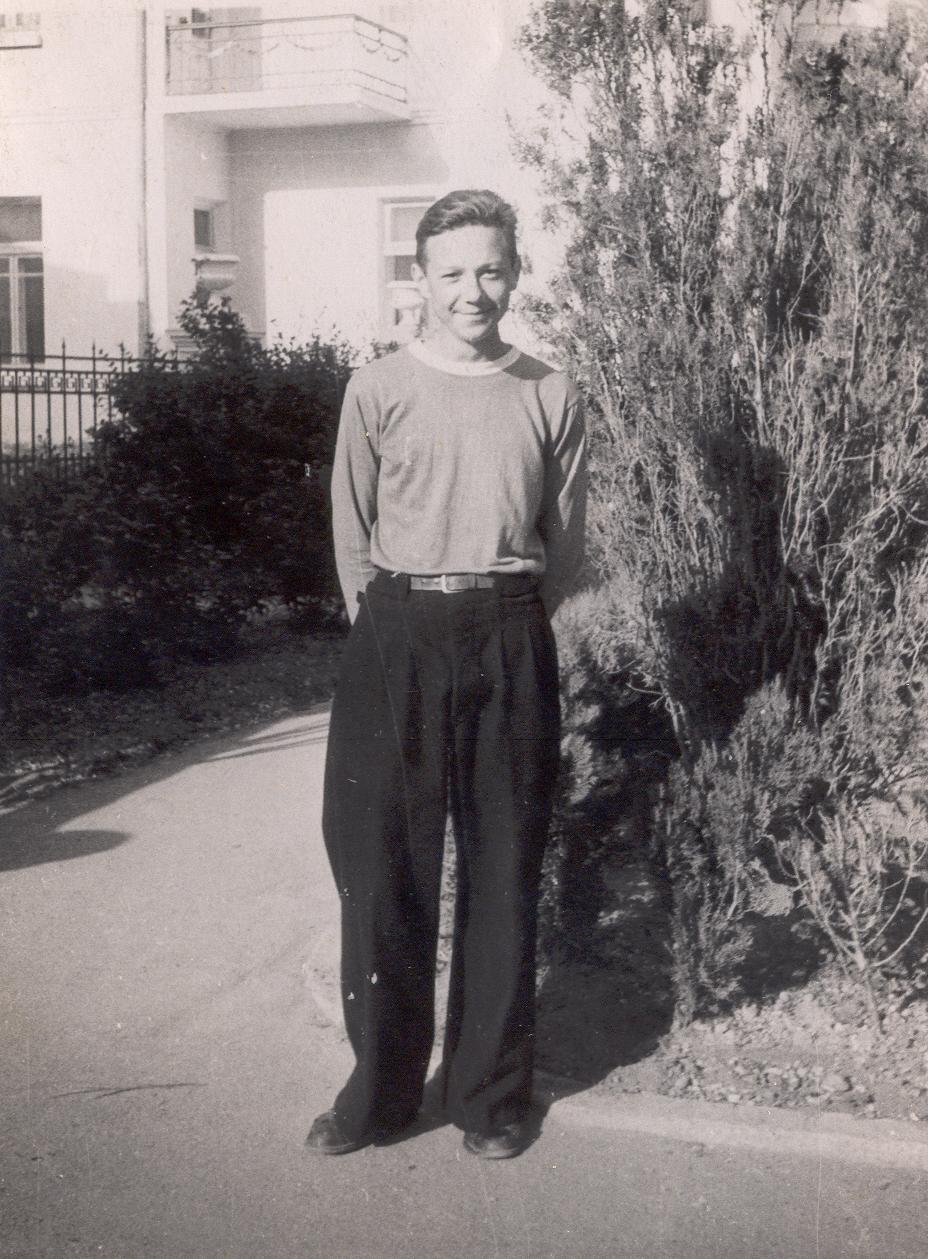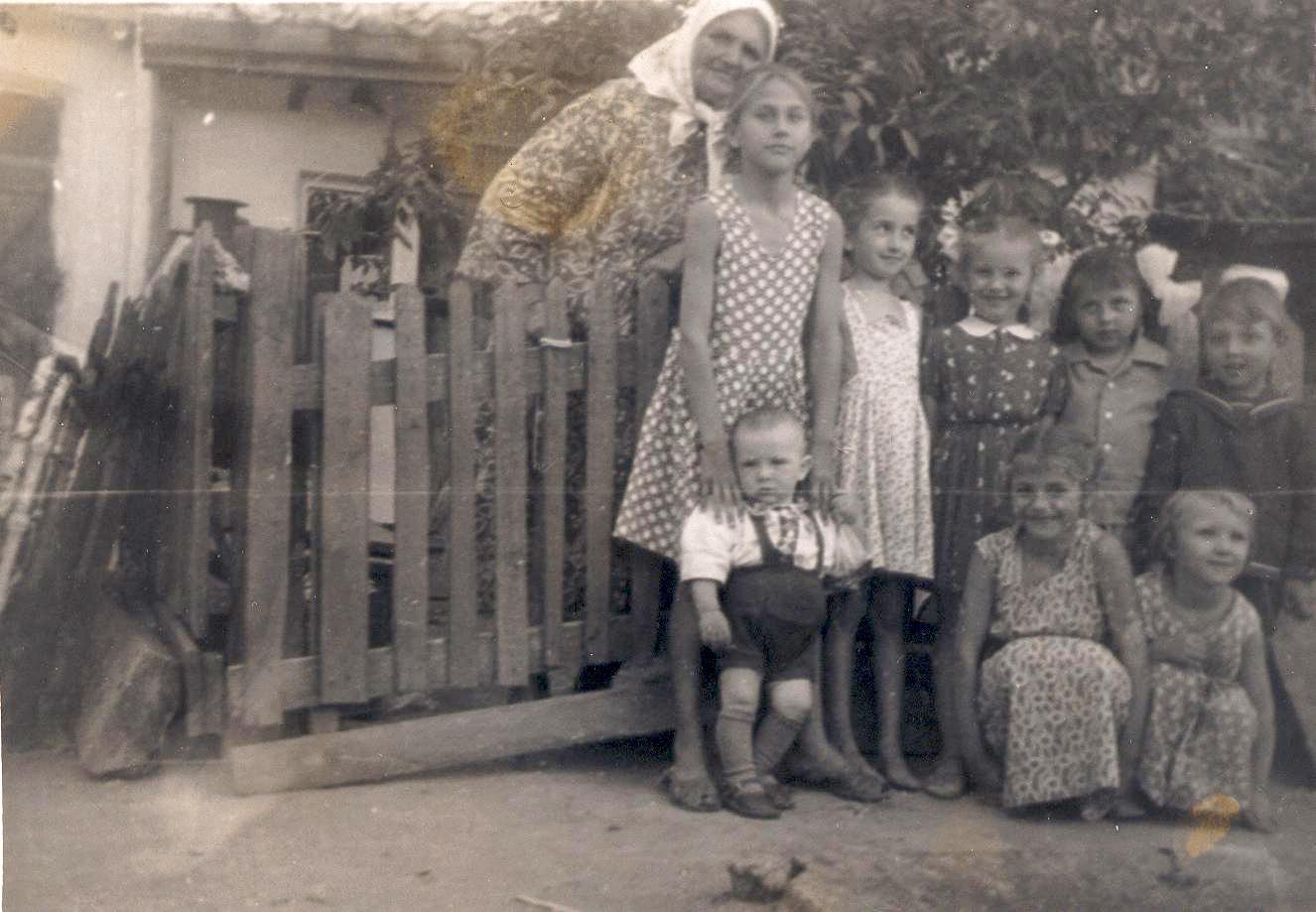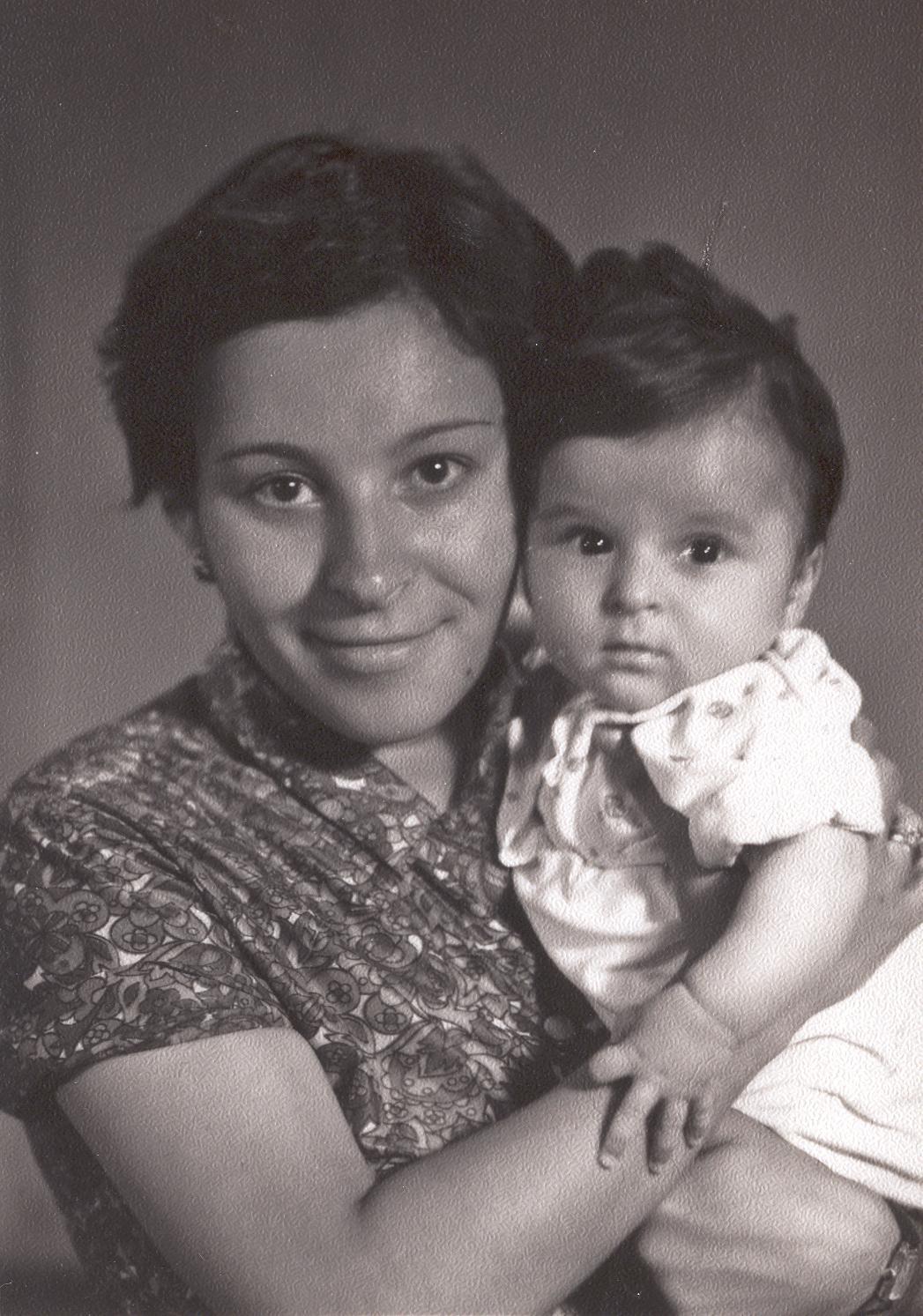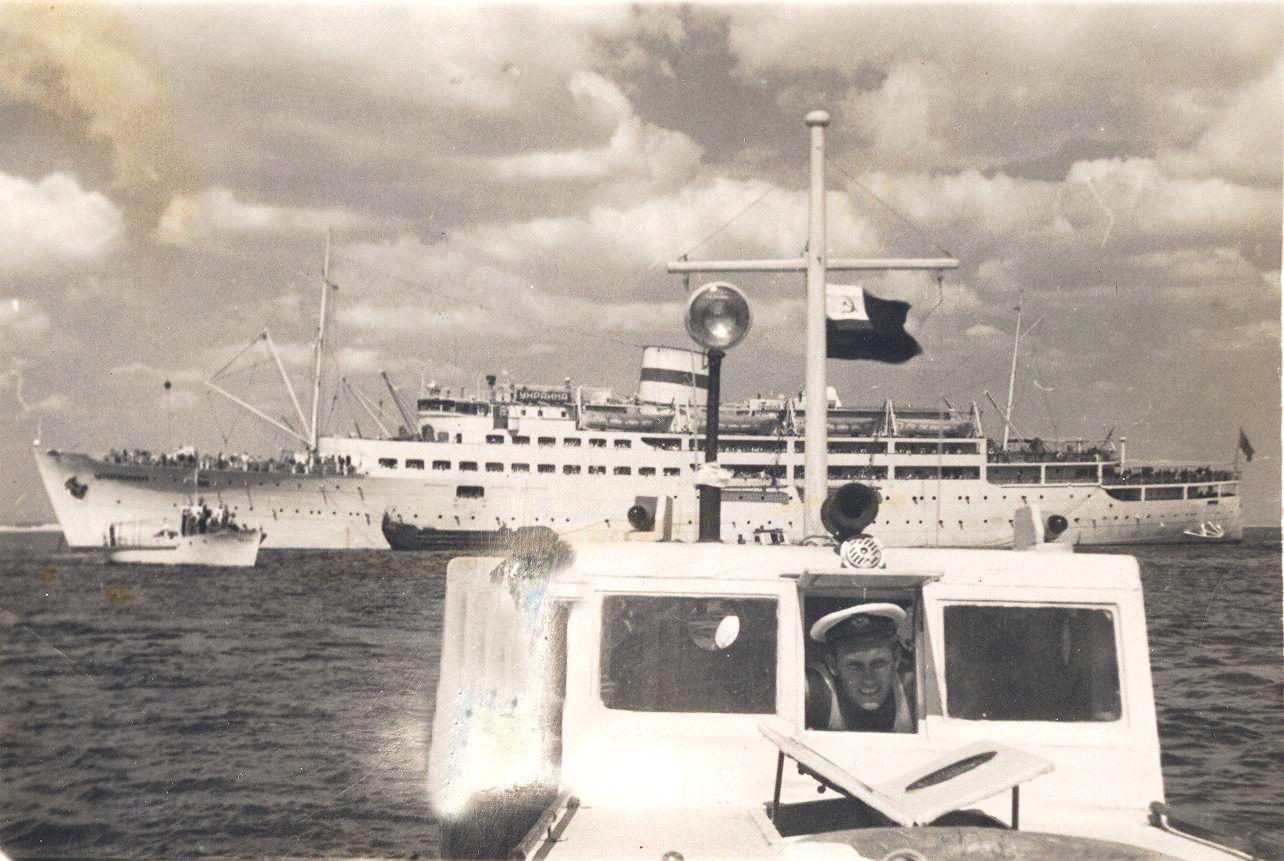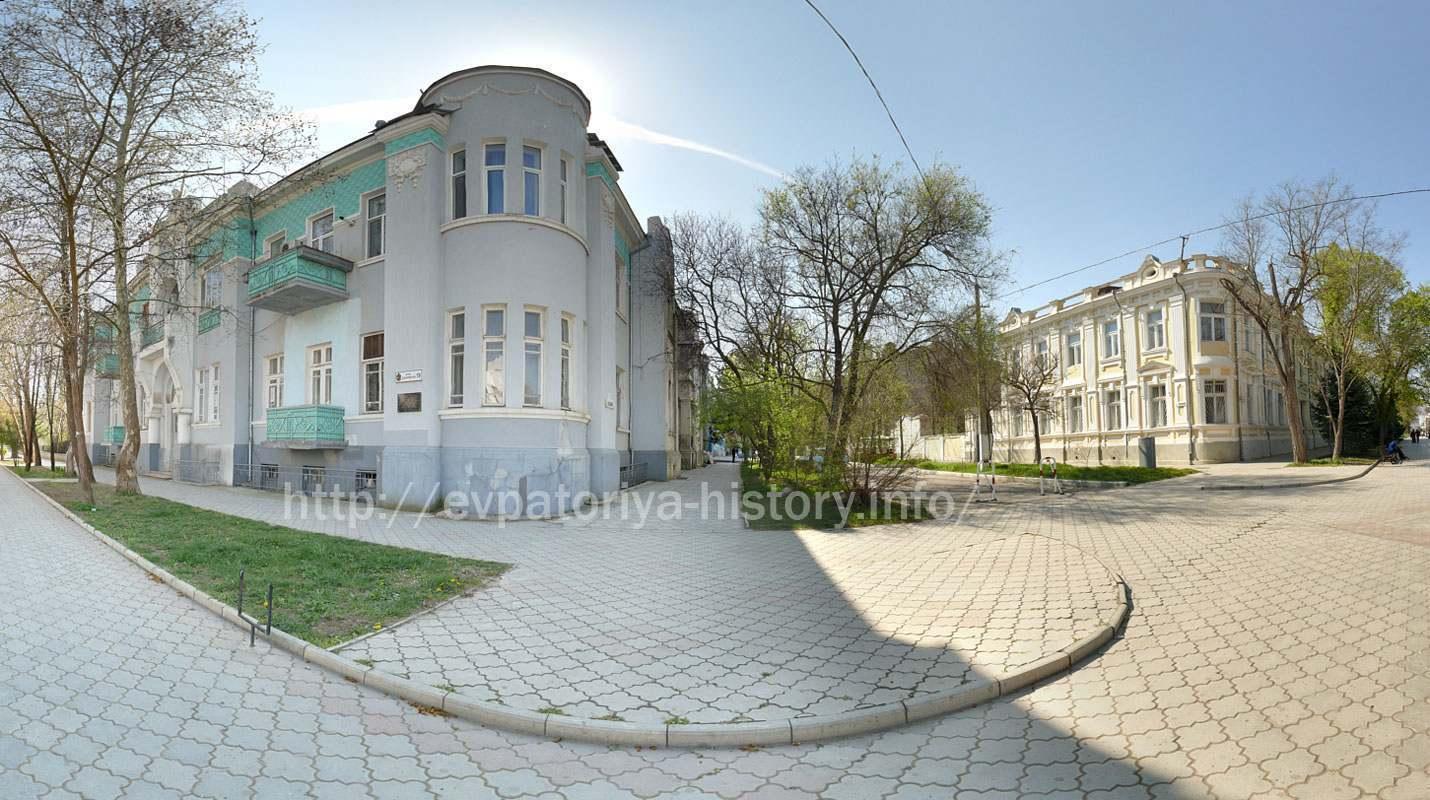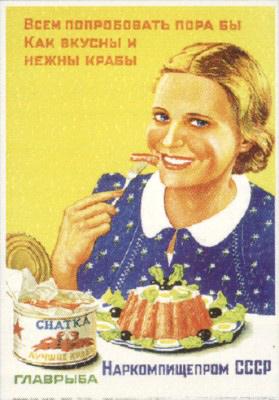СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ
Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно
Скидки до 50 % на комплекты
только до
Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой
Организационный момент
Проверка знаний
Объяснение материала
Закрепление изученного
Итоги урока


Шелуткевич Б. Хроники Солнечного города
Просмотр содержимого документа
«Шелуткевич Б. Хроники Солнечного города»

Воспоминания Б.Н. Шелуткевича о родном городе — Евпатории, периода 1946-1959 г.г.
Содержание
Вступление 4
Как мы стали евпаторийцами 4
Город 5
Улица 9
Двор 15
Люди 18
Школа 26
Море 32
Иллюстрации к воспоминаниям 42
Вступление
За стенами комнаты шумит XXI век – такой долгожданный, и так быстро пролетающий. Первое десятилетие уже за спиной. Новые времена, новые песни. Стою на родной улице у дорогой сердцу калитки по прошествии полувека. И память возвращается туда, в прежнее. Сейчас появится из-за угла какой-нибудь персонаж из того времени, Валера Сивак или Валёк Бочарик, или, с отчаянным звоном – железной палкой по снарядной гильзе, выкатит с Водоразборной от турецкой бани бочка. «Керосин-бензин», – кричит невысокий огненно-рыжий еврей в засмальцованной драной сорочке. Сейчас поползут из калиток бесчисленные бабы Даши, бабы Моти и безымянные древние караимки, которых мы, хорошо зная в лицо, идентифицируем только по фамилиям, указанным на их домовых номерных табличках. Кефели, Очан, Терьяки, Мангуби, Кушуль, доживали в своих старых, дореволюционной постройки, домах. Наша улица Пролётная (сегодня это улица Просмушкиных – Максим Баженов) примыкает к Караимской, район плотного заселения караимов. В 40-е годы Караимская, как бы в насмешку, носила название Промышленная. Если говорить о промышленности, на улице располагалось два объекта этой самой промышленности – у каменных ворот, так тогда в быту назывались нынешние Гезлёвские ворота Капусы-Одун, хлебозавод, а в другом конце улицы, на стыке с улицей Д. Ульянова, артель «Жестянщик». Возвращаю в памяти эти времена, ветеранам напомнить прошедшее, детям и внукам рассказать о реалиях той дальней, неведомой и малопонятной им жизни. Мы, дети войны, бегали тогда голоштанной командой по городу полуголодные, плохо одетые. Практически поголовная «безотцовщина». Наши отцы сложили головы на фронтах Великой Отечественной.
Как мы стали евпаторийцамиМы – это моя мама Вера Павловна, 35-летняя вдова, сестра Галя 16 лет, и я четырёхлетний пацанёнок. Мы севастопольские. Ещё в конце 19 века наши предки переселились из Симбирской губернии в Крым. Какие обстоятельства и причины побудили их – этого, видимо, я никогда не узнаю. Все их дети родились уже в Севастополе. Дед – Королёв Павел Иванович был ветеринар, и служил при каком-то из экипажей Черноморского флота. Бабушка была домохозяйкой. Детей было девять человек. К тому времени, о котором я повествую в живых осталось трое. Моя мама, тётя Наташа и тётя Стеша, проживающая с сыном в Николаеве.
Родители моей матери умерли рано. Отец в 1915, мать в 1926. Мама вышла замуж и родила мою сестру в 18 лет. Следующий ребёнок, мой родной брат Вовочка, вспоминая о нём, мама называла его только так, родился через 10 лет, в 1940-м. И в 1942, в самое пекло обороны Севастополя, родился я. Отец мой – Николай Иванович, уроженец Белоруссии, проходил срочную службу в Севастополе, где и встретил мою будущую маму. С началом войны отец был призван в армию и во время обороны Севастополя воевал на передовом рубеже в районе Мекензиевых гор. Дом наш был на Корабельной стороне, по улице Доковой (6 мая 1969 г. ул. Доковая переименована в ул. Дзигунского, Героя Советского Союза, участника штурма Сапун-горы - М.Б.) – это как раз над Морзаводом. Мама, повар по специальности, работала в столовой штаба подплава. Подводные лодки уже, практически, не базировались на Севастополь, и моряки воевали на суше. Работа мамы, к счастью, избавляла её от забот о хлебе насущном. Дети были при ней на работе, и это не вызывало возражений со стороны начальства. Замечу, мама была отличный повар. Когда пришла пора родиться мне, отца отпустили на 3 дня с передовой и он отвёз маму в 1-ую горбольницу, где я благополучно и появился на свет. Отец порадовался новорождённому сыночку, привёз маму на Корабельную, и отбыл на передовую. С того часа никаких известий об отце мы не имеем по сей день. Видимо, сложил голову в бою, а весть об этом до нас не дошла. Да оно и понятно, сотни и тысячи погибали ежедневно в аду этой бойни. Мама уверена, будь отец жив, он обязательно нашёл бы нас, очень любил маму и своих деток.
В июле немцы взяли Севастополь. Опущу описание, со слов мамы, о зверствах немцев по отношению к мужскому населению, взятому немцами в плен. По средневековой традиции город на 3 дня был отдан на разграбление победителям. Остатки гражданского населения были вывезены за черту города, в окрестные деревни. Женщины и дети были битком набиты в зловонные свинарники, коровники и конюшни. Июльская жара, безводье и тысячи женщин и детей, среди которых немало младенцев, включая грудных, вроде меня. Только на второй или третий день подвезли в бочках воду. Обезумевшие матери толпой бросились к воде и были биты палками. Немцы во всех делах любят порядок.
Воду, видимо, черпали из ставков. Была она несвежей, непроточной, мутной. Через несколько часов среди детей свирепствовала дизентерия. Меня спасло то, что я был грудничком, а брат Вовочка на второй день умер, изошедши поносом, как и десятки других. 12-летняя сестра выжила. Через три дня оставшиеся были возвращены в город, а ещё через какое-то время жители, не охваченные трудовой повинностью, были насильственно эвакуированы в степной Крым, для участия в сельхозработах. Здесь мы и пробыли до освобождения Крыма от фашистов. Объективно, проживание в сельской местности помогло нам выжить в это нечеловечески тяжёлое время. В городах было очень голодно.
Пришли наши, встал вопрос о возвращении в родной город. Мама съездила в Севастополь.
Оказалось, город не принимал своих беженцев. Жить негде, работы, якобы, нет. В стране голодуха, стране нужны колхозники. До 1946 года мы так и жили в селе. Потом, уж не знаю какими правдами и неправдами, мы уехали. Нашлась мамина сестра, она была эвакуирована с сыном Володей из Севастополя в Среднюю Азию в начальном периоде войны. Их так же не пустили в Севастополь, и они какими-то судьбами попали в Евпаторию. Сёстры, обе военные вдовы, списались, и было решено воссоединиться, что и было сделано осенью 1946 года.
ГородСестра работала и жила в санатории РККА, нынешний МО Украины. Жильё ей было предоставлено в здании на чердаке штаба санатория и ныне прекрасно сохранившегося на углу Дувановской и Пушкина. Сейчас это жилой дом. На чердаке была выгорожена комнатка. К этому времени тётя Наташа сошлась с демобилизованным солдатом сибиряком Ефремовым Иваном Павловичем. Он был инвалид. Пуля прошила ему щёки навылет. Естественно, лишился и зубов. Был он столяр золотые руки и горчайший пьяница. Увечных и покалеченных войной в городе было великое множество. При этом увечья некоторых из них трудно сейчас даже описать. Никакая, самая изощрённая фантазия не придумает таких увечий. Обрубки тел, культи рук и ног. Господи, милостиво прими их души и прости им прегрешения! Очень многие из них нищенствовали и пьянствовали. В городе было так же много разбомбленных или взорванных домов: некоторые здания в центре, но больше в новом городе, взорванные немцами при отступлении корпуса́ санаториев. На стройках работали пленные немецкие солдаты, которых было тоже не мало. Жизнь их была несладкой, голодной, поэтому они побирались.
Смутно помню наше чердачное житие. Больше всего запомнились стропильные балки над головой и подобие нар с матрацами, на которых располагались на ночь две семьи. Перезимовали, на ночь сбиваясь плотнее друг к другу, и закутываясь во все имеющиеся тряпки-одёжки.
Весной мать получила ордер, разрешающий ремонт и последующее вселение в дом-развалюху на улице Пролётной.
Вспоминаю ясный солнечный день, первое посещение дома, который стал нашим родовым гнездом, я живу в нём по сей день. Длинная кишка общего двора. Почти у входа навершие средневекового колодца из тёсанного известняка. Покосившийся от времени и осевший, колодец стоит по сей день. Слева и справа разнокалиберные строения – дома, видимо, дореволюционной постройки. Посреди двора дымил мангал, на нём стояла большая чугунная сковорода, в которой жарились куски дельфинятины. Сильнейшее шкварчание и брызги жира во все стороны. Чёрная кожа-шкура дельфина, толстый слой подкожного сала и тонкая розовая прослойка мяса. У мангала, (жестяное ведро, обложенное изнутри кирпичом, внизу пробита дырка-топка, сверху решётка), стояла полная, седые волосы дыбом, женщина. «Кто такие, с каким делом?» – строго спросила она. Мама пояснила. «Я уполномоченная, старшая по двору», – представилась женщина. Так мы познакомились с тётей Дашей, старостой двора. Она и показала наше жилище – остов дома, с пустыми глазницами окон, дверей, без крыши и полов.
Чтобы жить здесь, всё это предстояло восстановить. Как, чем, кому, за какие средства? Нищая, разорённая страна могла дать только это.
Ближайшая развалина была недалеко, на углу улиц Нижняя и Танковая, (бывшая Греческая), « горелая почта» – так называли эту «развалку» старожилы. Эти руины и стали нашим спасительным складом стройматериалов. Представьте картину: на руинах здания живописная группа – молодая женщина, девчонка-подросток и дошкольник-мальчишка изо дня в день целеустремлённо копаются в каменных завалах, добывая и тщательно раскладывая по кучам: кирпич, блоки ракушечника, гнутые, покорёженные секции водопроводных труб и много всякого прочего, что хоть каким-то образом можно задействовать в стройке. В восстановлении здания главная роль отводилась уже упомянутому Ефремову Ивану Павловичу, низкий поклон ему и благодарность. Позже он всё-таки был отлучён из семьи тёти Наташи за пьянство и следы его теряются в бурных завихрениях того беспокойного времени. К зиме 1947-48 года дом был готов, и мы покинули чердак. Началась новая жизнь. Я ходил в детсад, который располагался тогда на территории нынешних кенас. Есть в моём архиве фото – празднование дня Красной Армии коллективом детсада №4 23 февраля 1947 года.
Сестре исполнилось 16 лет, и она устроилась на работу. Весь наш севастопольский клан отдал много десятилетий труда на ниве санатория Министерства обороны. Мама, тётя Наташа, сестра Галя отработали в нём до пенсии. Брат Володя и я начали трудовую деятельность здесь же. Прекрасно помню первого послевоенного начальника санатория, тогда ещё РККА – Шевченко Николая Ивановича. Красивый, статный, молодой полковник уверенно шествует по территории вверенного ему санатория, окружённый любовью и обожанием своих подчинённых. Смоляные вьющиеся волосы непокорно выбиваются из-под смушки полковничьей папахи. Широкая, щедрая, молодецкая душа. Бог прибирает лучших, он рано умер. Царствие тебе небесное и наша добрая память, настоящий Полковник. Из череды следующих начальников выделяется своей неординарностью Померанский Людвиг Осипович, именно его подпись стоит под моей первой записью в трудовой книжке.
Город, каким мы видели и знали его тогда, делился на районы. По крайне мере, в моём детском соображении особенно чётко – дело в том, если ты приходил в чужой район, то попадал, как бы, во враждебное государство, был вне закона, со всеми вытекающими последствиями, вроде: любой шкет мог уверенно подойти и хлопнув ладошкой по карманам брюк, произнести магические два слова – Шарь карман! И, по неписаному закону, ты должен был безропотно дать нагло себя обшарить и потерять все драгоценности твоей души: рогатку, жменю металлических шариков, ножичек, зеркальце, рубль денег, заначенных на воскресное кино. Отдать обречённо и без разговоров. Любому подошедшему пацану. Такими были законы той жизни.
А деление было таково: Город – это жители центральных и прилегающих к ним улиц. Далее – Бахчалык, пишу название уже сообразуясь с нынешними своими знаниями и понятиями. Тогда произносилось Бакчалык. Это район, прилегающий к Колхозному рынку с юга и юго-запада – ул. Колхозная и прилежащие. Там же располагалась воинская часть – пограничники. Нам это место было притягательно ещё тем, что на территории военной части были конюшни. В те времена пограничники выезжали в наряд, на патрулирование побережья, на лошадях. Граница города проходила по ул. Д. Ульянова, (не помню, это ли название было у неё тогда). От угла тогдашних улиц Степовой и Полевой, ныне Миллера и Героев десанта, к западу по линии улицы Д. Ульянова начиналась степь. Да, именно, степь. Ровная, бескрайняя до горизонта. Примерно, в районе нынешнего ж/д вокзала, виднелись строения МТС и силуэты сельхозтехники – трактора, комбайны и прочее.
Далее – Дача. Ближние её границы начинались западнее ул. Гоголя. А сердце её было на улицах, которые назывались линиями 1-я, 2-я и т.д. В этот район мы хаживали весной за сиренью, летом за канчиками (чуть поспевшие, зачастую зеленые абрикосы – М.Б.), так называли мы абрикосы.
Наше детство было бедно на фрукты. Мудрый усатый правитель, ввёл драконовский налог на фруктовые деревья, поэтому селяне их повырубали, и мы были вынуждены подножным кормом восполнять недостаток витаминов. На Даче, на территориях санаториев было высажено немалое количество фруктовых деревьев, включая абрикосов, было также много тутовых деревьев – шелковицы, неописуемый деликатес для голодного брюха маленького босяка. Осенью через дачу ходили к озеру Мойнаки за маслиной - лох серебристый. Тогда она входила в пищевой рацион евпаторийцев.
Самым опасным районом была Слободка. Её пределы простирались на северо-восток от Интернациональной. Вот там уж была вольница – всей шпане шпана. Оттуда можно было придти и без сорочки или обуви, да ещё и с расквашенным носом. Пересыпь тоже была шпанистой, но не в такой степени. Туда мы ходили на причал Нефтебазы на рыбалку или дальше, на так называемое Раковое поле, туда же ходили катерки «птички» с отдыхающими. Это место, где сейчас стоит памятник десантникам. А тогда там, у берега моря, облизываемые волной, ржавели останки тральщика «Взрыватель», боевого корабля, трагически погибшего со всей командой во время январского десанта 1942 года.
Серебристые цилиндры – ёмкости для горючки на территории Нефтебазы, хорошо просматривались от Старой набережной (набережная им. Терешковой – М.Б.), и некоторым образом, были украшением пустынного побережья. С причала нефтебазы мы ловили рыбу на удочки. Улов редко был хорошим. Зеленухи и собаки, естественно, морские, беспощадно объедали наживку, которой всегда, почему-то, было мало. В утешение мы ныряли, драли мидии со свай мостика. Несли домой в майках, завязанных снизу узлом. Проголодавшись, перекусывали сырыми мидиями. Разбивали раковины и высасывали слизь. Это никак не считалось зазорным. И, если кто-то отказывался, считалось недопустимым и подлым чистоплюйством. Но особенно приятным было возвращение. Подходя к хлебозаводу на Караимской, подтягивали слюнку от одуряющего запаха свежеиспечённого хлеба. Переплёты окон хлебозавода, выходящие на улицу, были открыты, но зарешёчены металлическими прутами и перекрыты деревянными рамами с натянутой проволочной сеткой. На подоконниках грудой лежали разломанные, бракованные буханки хлеба. Металлическая сетка снизу была надорвана и с разрешения добрых тёток, а бывали и недобрые, мы брали куски и буханки и жадно поедали их тут же. То-то было пиршество.
Ходили, но очень редко, на Чайку. Это был особый маршрут. Туда ходили на бывшие немецкие батареи береговой обороны. Десант напугал немцев, и побережье было укреплено дотами, они стояли на набережных, и береговыми батареями. Сохранились ямы, ячейки, брустверы. Покопавшись терпеливо, можно было добыть длинные макаронины артиллерийского пороха, так называемые «свистули». Мы их, поджигая, подбрасывали повыше и они, как маленькие ракеты, выписывали в воздухе немыслимые траектории, с характерным свистом взлетающей сигнальной ракеты. Отсюда и название – «свистуля». Находили и снаряды. Старшие ребята мастеровито их разделывали – снаряд отдельно, гильза отдельно. Сколько пацанов разного возраста погибло, возясь с этими находками-боеприпасами. Особенно памятен случай, когда на разборке снаряда погибло сразу 6 или 7 пацанов. Помню похороны, провожал весь город. Лица убитых были как бы побиты оспой, осколками.
Продолжая тему городских районов, добавлю, мелкими хулиганскими поступками противостояние не ограничивалось, бывало, вражда переходила в войну и сражения – район на район. Помню беспорядочное отступление, бегство городских. Воодушевлённая успехом Слободка пёрла даже через крыши наших лачуг, но, встреченная дружным отпором дворовых женщин, вооружённых поварёшками, скалками, мётлами и прочим, что под руку попало, ретировалась на улицу, и продолжила преследование противника. Баталия закончилась поножовщиной в закутке Шелковичного сада. Проявлений бандитизма в городе хватало. Обнищавшее население, привыкшее за время войны, что любая власть решает все проблемы жизни насилием, видимо, переняло опыт. Моя память полна жутких примеров зверских выяснений отношений с увечьями и смертоубийством.
Вернёмся к нашему любимому городу. Вспоминаю эпизод: брат Вова, я и Аркашка Шевченко (бывший заместитель Генерального секретаря ООН, агент ЦРУ, в 1978 году бежавший на Запад, умер в 1998 г. в одиночестве и бедности – М.Б.), сын начальника санатория, прославившийся подлым предательством, сидим на высшей точке крыши штаба – это скульптурная композиция, женщина с факелом, вы можете её увидеть и сейчас на угловом доме улиц Дувановской и Пушкина (ул. Дувановская, 19, дом Нахшунова – М.Б.). Любуемся видом города с высоты птичьего полёта. Город утопает в зелени и только кое-где видны развалины, черноты пожарищ, пеньки, сваленных бомбёжками, кирпичных труб котельных. Перечислю самые заметные «развалки», так мы их тогда называли. На углу улиц Революции и Приморской, сейчас там сквер и кафе «Пингвин». Здание НКВД при Советах и городская управа при немцах. Взорвано при первом десанте, «горелая почта» на месте нынешнего кафе «Мустафа» и мемориала десантникам. Повзрослев, я выяснил, что на этом месте ещё до революции стояла гостиница Бейлер, при Советах – Дом Труда. Почему почта, удивлялся я. Только в новые времена, когда появилось множество публикаций по истории города, на карте Евпатории 1914 года я обнаружил скромное здание почты. Оно скрывалось за помпезным фасадом гостиницы Бейлера и разрушенное, получило название от местных жителей – «горелая почта». Следующая заметная «развалка» – санаторий Семашко. Его развалины стояли до 60-х годов. Сейчас на их месте водолечебница с дельфинарием. Далее развалины на месте нынешнего санатория «Юбилейный», во времена нашей юности мы называли это место «дикий пляж» и любили сюда ездить с девушками и вином на пикники. Недалеко был причал, легко и приятно добираться сюда было катером. На территории санатория РККА некоторые корпуса также были взорваны или сожжены. Когда я работал в санатории, то на субботниках мы разбирали развалины и на наших глазах строились новые корпуса.
С удовольствием опишу нашу центральную улицу Революции, какой она была в те времена. Самые заметные и посещаемые места – это, конечно, кинотеатры. Магазины: вспомним прежде всего гастрономы. Из прежних остался один, тот, который рядом с аптекой (сегодня вместо аптеки музей Крымской войны – М.Б.). В городе он, вроде, был центральным. За аптекой, в сторону почты, сразу открывался вид на большой двор-пустырь. Он стоит и сейчас, почти в неизменном виде. В 40-50-ые, времена всех, какие только можно представить, дефицитов, здесь, на заднем дворе гастронома, и «давали», так тогда говорили, дефициты: сахар, крупы, уже не помню, что ещё. Для нас это было место, где без особых усилий можно было заработать рубчик-другой, а то и трёшку, за короткое время. Товар выдавался нормированно, допустим один кг на одну персону. Тётки нанимали нас для количества. Я писал, как дороги были нам, босякам – безотцовщине, эти рубчики.
Гастроном мне памятен почему-то рекламой, помню даже на какой стене она висела. Жизнерадостный мужчина провозглашал «На сигареты я не сетую, сам курю и вам советую». Молодое поколение поверило, а курцы мы были страстные. Мой стаж курильщика ведёт начало с шестилетнего возраста. Приложив немалые усилия, я не курю уже более 20-ти лет, но посвятил этому неблагодарному занятию 40 лет и сейчас очень рад своему некурению. Продолжу о гастрономах… На месте нынешнего «Сведен банка» стоял гастроном, который в народе имел название «Одиннадцатый», тоже помню его скромный интерьер: полки, заставленные рыбными консервами. Больше всего места занимали крабы. Это, видимо, был экспортный вариант, на всех банках красовалась надпись латиницей «Chatka», мы так и читали кириллицей – чатка. На наших столах я этого деликатеса не помню, и впервые попробовал его в 60-х, уже будучи киевлянином. Потом крабы исчезли с прилавков, как будто их в природе вообще не существует.
Следующая достопримечательность главной улицы – ресторан «Жемчужина», на месте нынешней забегаловки «Пицца». Мы любили вечером заглядывать в большие окна – витрины этого заведения. На эстраде заправлял цыганский ансамбль. Для нас это была экзотика, необычно и оригинально. Цыган в городе было много, даже улица была Цыганская, но представление о них было одно - попрошайки и гадалки.
Другой популярный гастроном находился на месте нынешних кафе «Волна» и «Бриз», назывался он «Рыбацкий», поскольку существовал под вывеской «Рыбкоопа», т.е. был кооперативный от рыбколхоза «Красный партизан», который находился на Пересыпи. Рядом с Рыбацким, на месте нынешнего интерактивного клуба, находился табачный магазин. Хорошо помню лицо продавца. Господин, именно так хочу его называть, отличающийся общим видом от среднеевпаторийской мужской массы. Хотя и побитое оспой, но с печатью важности, лицо и гладко зачёсанные назад волосы, не то набриолиненные, не то регулярно смачиваемые перед причёсыванием. Кстати, об оспе, в те времена достаточно много людей старшего поколения имели на лице отметины этой болезни.
Особенность магазина заключалась в том, что все его внутренние стены были расписаны под Хохлому. Яркая роспись в золотисто-красно-чёрных тонах. Точно такой же магазин я позже увидел в Севастополе, на Большой Морской. Это, видимо, до революции были фирменные магазины какого-то табачного магната. Увы, уже давно этих магазинов нет, а так же, соответственно, и оформления. На месте нынешнего книжного так и был книжный, но назывался он «Когиз», – Крымское областное государственное издательство. Когиз, так его все и называли. И хочется вспомнить ещё об одном книжном, он находился в торце нынешнего пансионата «Орбита», и скромно назывался «Военная книга». На углу Революции и Пионерской стоял большой промтоварный магазин. В народе его называли «Люкс», то ли по памяти дореволюционной то ли нэпманской поры.
УлицаРодная моя улица Пролётная. Я был в армии, когда мама сообщила мне в письме, будешь писать адрес, не пиши Пролётная, пиши Просмушкиных. Вернувшись, я узнал, постарались доброхоты, наши руководители. А ведь именно в это время строились новые жилмассивы, дерзайте, называйте улицы именами новых героев, в память новых событий. Улица стоит и сейчас, изменения невелики, приросли этажи в некоторых домах, да пару новостроек. Но также коренасто стоит дом Нейманов на углу Пролётной и Водоразборной, а на углу с Караимской синагога, где в круглом окне фронтона уже шестиугольная звезда, как и положено синагоге, а не пятиконечная, как на продбазе «Курортторга». Синагогу я помню ещё разгромленной. Мы, пацаны, стоим на галерее второго этажа и видим через провал пола подвал. На цементном полу большая дохлая собака, белая в чёрных пятнах. О, цепкая детская память, 60 лет прошло, а картинка в глазах и памяти чётко стоит.
Ещё два, нет, даже три, примечательных места на этом же углу. Хибара, где жила тётя Сара, немножко шумное, но добрейшее существо. Я не помню, какого характера отношения связывали нас пацанов и тётю Сару, но у меня осталась приятная, тёплая память об этой маленькой озабоченной, но доброй женщине. Она одна растила и воспитывала троих детей, два сына и дочь, я до сих пор иногда встречаю её на улицах города.
О, подвиг женщин, поднявших на своих хрупких плечах страну и поколение детей войны! В доме напротив жило семейство Васьки Дикуна. Он был счастливчик, к нему и его братьям отец вернулся живым. Он был шофёр, и иногда и нам обламывался кусочек счастья, он катал нас на своём Захаре, так называли грузовик марки ЗИС. Увы, отец скоро умер, а дальнейшая судьба братьев Дикунов мне неизвестна.
На месте же нынешнего гастронома «ЛагВас» стояла пекарня, здесь выпекали сдобу, но это было очень закрытое заведение, за всё его существование нам оттуда ничего не обломилось. Даже странно?! Потом пекарню развалили, и пустырь простоял долго, до перестройки.
Зато дальше по Пролётной процветало замечательное предприятие, которое народ называл по-разному, кто мельница, а кто маслобойка. С хоздвора маслобойки выезжали телеги, (горожане называли их подвода, селяне – бистарка), гружённые макухой, вот было лакомство и харч. Он давал насыщение, а не только вкусовую приятность. Возчикам не нравились наши манёвры, и частенько получали мы жёсткий удар кнутом по спине. Но лакомство было столь желанным, что лезли под кнут с боязнью, но упорно.
Что касается родной улицы, вспомню ещё некоторых соседей. В начале улицы Пролётной стояла школа – семилетка, в памяти остались два номера. В 40-х мы называли её шестая, а заканчивал я её в 1954, она уже носила номер 54. Школам, в которых я обучался, видимо, будет посвящена отдельная глава.
На пересечении улиц Просмушкиных и Нижней стоит старый дом, на его фасаде мемориальная доска – это родовое гнездо Кальфа, знаменитой караимской династии евпаторийских врачей. Когда улицы, на которых стоит этот дом, назывались Пролётная и Нижняя, ещё были живы основатель династии Исаак Абрамович и его сын Алексей Исаакович. Нынешние продолжатели Илюша и Саша были малышами. Семья Кальфа была окружена любовью и искренним уважением жителей города, тем более соседей. В любое время дня и ночи страждущие могли обратиться к доктору и никогда не получали отказа. Я и мой друг Яша были маленькими уличными босяками. Бывали случаи, когда мы оказывали какие-то маленькие услуги этой семье: занести в сарай привезённый уголь, принести с моря воды для купания малышей. Для нас, проводивших летом все дни на море, это было удивительно. А для зажиточной работящей семьи это было нормой, мама Кальфа тоже была врач. Однажды с Яшей, перед праздником Первомая, мы получили подряд на побелку фасада их дома. Кроме оговоренной суммы, мы были по-царски одарены. Нас завели в подвальную комнату – гардероб, где нам достались ношенные, но очень приличные вещи-туфли, брюки, пиджаки. На 1 мая мы гордо выступали в обновках и при деньгах. Редкое, в наши времена и в нашем возрасте состояние.
Об одежде; летом я ходил в трусах до пятого класса, а босиком до восьмого. Зимой на теле вигоневый свитер, на ногах сапоги, чаще всего большие по размеру с многочисленными намотками различного тряпья. Сверху телогрейка или, как все называли тогда, «куфайка» – стёганка. Парадной верхней одеждой считалась шинель. Помню, сшили мне «новую» шинель, из румынской трофейной, отличалась от красноармейских серых гороховым цветом.
Напротив дома Кальфа, за высоким забором из дикого камня, доживали свой век древние бабушки-караимки Кефели. В их дворе росла чёрная шелковица. Крона её, летом усыпанная спелыми плодами, не давала нам шанса пройти мимо дома Кефели, чтобы не взобраться по неровной поверхности забора и не отведать прекрасных плодов. Это особый сорт шелковицы, достаточно редко встречающейся в Крыму. Говорят её завезли из Турции ещё в ХIХ веке. Крупная, сочная, сладкая, ярко отличающаяся от обыкновенной, а шелковицы в нашем городе предостаточно, есть с чем сравнить. Напротив синагоги дом и двор другой известной караимской бабушки Кушуль. Белая шелковица, того же сорта что и у Кефели, но в глубине двора. Забегали во двор и как воробьи быстро-быстро клевали опавшие ягоды. Иногда на веранду выходила сама бабушка Семита. Мы испуганно неслись к калитке. Как правило, бабушка говорила нам: «Ешьте, ешьте, ребята. Только когда уходите, не оставляйте калитку открытой, прикрывайте». Встречая Кушуль на улице, мы всегда с ней приветливо здоровались, хотя наше знакомство трудно было назвать даже шапочным.
Состояние улиц в то время, увы, близко к нынешнему, постперестроечному. Только в 60-е годы она была заасфальтирована, а в те времена 40-е, начало 50-х толстый слой пыли был главной примечательностью улиц старого города, наша не исключение. Босые ноги утопали в пыли, поэтому обязательной ежевечерней процедурой была тщательная помывка ног перед сном. Улица была главным местом нашего времяпрепровождения, наш клуб, наша школа. Наш университет. Наше всё. Был большой выбор игр, нынешнее молодое поколение и понятия о них не имеет. Были азартные игры, на деньги: под стеночку, в литературных источниках её называют пристенок. Но у нас «под стеночку». Выбиралась вертикальная, оштукатуренная цементом стенка или цоколь, об неё ребром ударялась, удерживаемая двумя пальцами указательным и большим, монета. Чаще всего это был пятак, хорошо отшлифованный наждаком, для лучшего скольжения по земле. Нужно было постараться максимально приблизить свой пятак к пятаку соперника, чтобы можно был «нашкурить» его, т.е, накрыв свой пятак большим пальцем, растягивать свои пальцы, чтобы дотянуться до чужой монеты любым другим пальцем этой же руки. Действие это элементарно, но описать его сложно. Если ты нашкуривал, выигрыш твой. По деньгам эта ставка чаще всего равнялась 5-ти копейкам. При отсутствии денег играли на «шалабаны». Под стеночку можно было играть с банком, в таком случае клали монеты стопкой в начерченный на земле квадратик, прямоугольник, примерно 5 на 10 сантиметров. Проигравший клал в банк оговоренную раннее сумму, тот же пятак, как правило. Все монеты клались в банк орлом вниз, решкой вверх. Дерибан банка осуществлялся так: если ваш пятак после удара о стенку въезжал в границы банка, вы начинали бить ребром своего пятака по лежащим монетам, стараясь перевернуть их с решки на орла. Перевёрнутая ударом монета становилась вашей. Ещё одна азартная игра – накидка, или внакидку. Те же советские пятаки или большие старинные екатерининские, или оббитые кружком обломки плоской черепицы. Один бросает подальше биту, другой, прицеливаясь, мечет свою, стараясь попасть, как можно ближе, чтобы нашкурить биту соперника. Был ещё такой момент под названием цок – отлёт, при цоке ставки удваивались.
Какой азарт, какие страсти кипели. Вопли, петушиные наскакивания друг на друга! Ещё масса других подвижных игр: казаки-разбойники, ловитки, штандар – никогда позже не встречал эту игру. Городки, джоски, джилик, банки. Все эти игры забыты и требуют отдельного описания. Я больше всего любил игру в стрелки. Первая группа игроков, с мелками в руке, убегает, оставляя за собой стрелки начерченные мелом на земле или на стенках, указывающие направление их маршрута. Вторая группа через оговоренный промежуток времени начинала движение вдогонку. Счёт до ста – двухсот, как договоримся, часов-то ни у кого не было. Очень увлекательная игра. Ещё одно из моих любимых занятий. Я упоминал о толстом слое бархатной пыли. Забава состояла в следующем, брали обыкновенный женский чулок, выходили на улицу, садились в пыль и набивали ею чулок до половины вместимости, затем нужно было встать и, раскрутив его в горизонтальной плоскости, метнуть повыше. Чулок ракетой устремлялся ввысь, орошая наши забубенные головы уличной пылюкой. То-то было весело. О, родная улица и вы, други детства и юности! Увы, половина из них уже не здесь, некоторая часть развеялась по миру, большую прибрал Господь. Царствие вам небесное и райские чертоги.
Толя Гладков, мальчик-горбун и дворовая кличка соответственно «горбатый». Самый умный и начитанный из нашей кодлы. Случай с Толей из тех времён, времён голодовки, (не голода, к счастью, а именно голодовки), и очередей. Очередей за всем. Хлеб, сахар, мануфактура, макароны. Очереди по номерам, которые записывали на открытых частях тела. Дефицит дефицитом, а гуманитарные нормы соблюдались. Мальчика-горбуна пропускали без очереди. Однажды, в непосредственной близи от окна выдачи, строгая тётя остановила Толю: «Какой номер?», – зло спросила она. Толя поднял голову и, стесняясь, ответил: – «Я в корсете.» – «Тридцать третий?» – взвизгнула тётка. Стоявшие рядом, разобравшиеся в сути диалога, прыснули в кулаки. Толя спокойно, без комплексов, многократно пересказывал этот случай, когда хотел развеселить компанию. Опять же случай, где главный герой он же.
Умер Сталин. Основная масса народа погрузилась в безутешность. Мы же, кодла, к моменту смерти вождя чётко освоили технику передвижения по Крыму на попутных автомашинах. Выходим на Пересыпи на переезд, голосуем на всё проезжающее мимо. Останавливается полуторка. Желающих подъехать много, мы в первых рядах – «Дядя, вы куда?», нас устраивал любой ответ – Саки, Симферополь, Кара-Тобе, нынешнее Прибрежное. «И нам туда», хором отвечали мы и карабкались в кузов. Тогда правила перевозок были демократичнее, езда в кузове почиталась нормой – время диктовало. Пассажирского транспорта не хватало.
На похороны вождя отпущено было много дней, и мы решили отметить это освоением новых территорий. Попали в Саки. Прошли по центральной улице, где под репродукторами толпились тысячи народа, очень много рыдающих, ловящих каждое слово из Москвы. К 12-ти дня, моменту похорон, вернулись на сакский переезд, возвращаться домой. Завыли гудки сакского химзавода, других учреждений, загудели клаксоны автомобилей. Рядом останавливается ЗиЛ самосвал с воинскими номерами. Справа из кабины выходит офицер, мы к нему: – «Возьмите, дяденька». Строгий ответ: – «Нельзя. Самосвал». Мы притихли, а офицер повернулся на восток, стал по стойке смирно и пока гудели сирены стоял, отдавая последние почести Верховному Главнокомандующему. Тут наш Толя Гладков пристроился рядом и застыл, отдавая пионерский салют. Валёк Бочарик прыснул и спрятался за дерево. А Толя стоял в салюте пока офицер не опустил руку от козырька. Военный обвёл нашу компашку глазами и чётко скомандовал: – «Марш в кузов». Мы поняли, что это было ответом на подвиг Гладкова и в кузове устроили ему ласковую мутузку. Так я до сих пор и не могу понять, что это было с его стороны, поступок пионера или продуманный ход ловкача. Наша улица на смерть Сталина особо не рыдала, родственники многих наших соседей пострадали от сталинских репрессий. Проезжая сакский переезд, я всегда вспоминаю тот хмурый мартовский день 1953 года и, естественно, Толю Гладкова. Следы его затерялись, когда в 59-ом я уехал учиться, кажется, тогда же он и умер. Добрая память тебе, Толя!
Вспоминаю ещё одно лицо – ни имени, ни фамилии его мы не знали. Ся – карманный вор. В наши игры он не встревал, а пообщаться любил. Иногда угощал чем-нибудь вкусненьким. Не отказывались. Один раз, видимо, с фарта, повёл нас к винному подвальчику, широко угощал вином. Мне это угощение вышло боком. Кто-то засёк меня у подвала со стаканом вина в руках и я был нещадно бит деревяшкой, оторванной от помидорного ящика, первое что под руку попало моей разъярённой мамусе. Cя впоследствии сгинул по тюрьмам. Круг соседей очень широк, в те времена жили общительней. Напротив нашей калитки дом 28. Подругами по играм были Валя и Галя. Валя постарше, уже оформившаяся барышня. На Пасху, на всенощной, а мы общественные мероприятия такого рода не пропускали, отошли от церкви на берег моря. Друзья, которые постарше, по очереди приступали к Вале. Тем ребятам что ей нравились, доставались крохи с пышного пирога её созревших форм. Галка была пигалица малолетняя и прозвище ей досталось соответствующее – Морковка. Другой сосед из 28-го дома, Данька А., караим. Симпатичный курчавый юноша, цену себе уже составил. Был заносчив по отношению к нам, младшим, даже обижал иногда, и приходилось обращаться за помощью к брату Володе. Наличие старшего брата имело множество ценнейших преимуществ в те непростые времена. Почти всегда в калитке 28-го дома стоял, то ли дед, то ли дядя Даньки. Приземистый плотный пожилой мужчина с короткой стрижкой. Он был примечательной фигурой улицы, купался круглый год в море. В городе таких было немного. Кроме соседа, я знал только одного, он был руководителем духового оркестра артели Караева. Данькин дядя или дед, будучи пожилым, выглядел замечательно, был добродушен, приветлив и я думал, что он доживёт до ста лет. Когда я, будучи студентом, приехал на каникулы и узнал о смерти моржа, был искренне огорчён. Даньку же встречаю до сих пор. В номере 30 жил мой самый закадычный друг детства и ранней юности Яша Ю. Большая их семья жила в маленькой пристройке большого двора этого дома. По метрикам Яша числился караимом, но история его появления на свет драматична.
Мать его Таня и во времена нашего детства оставалась очень моложавой и красивой, взрослая девушка, мне казалось так. Во времена оккупации юная красавица-караимка полюбила красавца солдата, румына. Любовь была взаимной и очень сильной. Комиссаров и комсоргов рядом не было, а старуха мать не смогла отговорить или запретить. Любовь дала плоды, родился Яша. Красавца-солдата угнали на карательную акцию в горы, против партизан, где он был убит, но род не прервался. Дорого, конечно, тёте Тане и Яше аукнулось это продолжение рода. Жизнь, власть и люди были очень жестоки. Яша прошёл своё детство с кличкой Румын. Красавица Таня вышла замуж за демобилизованного фронтовика. Немолодой еврей, повар и пьяница. Таня родила от него двух детей, Софку и Борьку, в этом же домике, однокомнатном и сыром, жила мать Тани, бабка Яши, грузная и всегда сердитая старуха. Жили практически в нищете. Я не помню подробностей их жизни, но помню, что атмосфера почему-то всегда была взвинченной. А в нашей кодле популярной была частушка – «Как у Яшкиной шпаны на троих одни штаны, Яшка носит, Софка просит, Борька в очереди стоит». Яшка был вернейший друг. Первое – он был предприимчив и смел при воплощении своих предприятий. Вообще был не трус. Слободских, когда они были шайкой, мы почти панически боялись. Уж больно они были беспощадны. Могли забить ногами или прирезать. Чем-то я не приглянулся одному вожаку шайки слободских, то ли имя, то ли кличка – Павлик. А ходили они в город только стаей. При каждой встрече с ними я получал очередную взбучку, не смертельную, но унизительную. Как-то на Театральной площади во время танцулек они мне устроили пятый угол, т.е мутузили меня в круге. Яша ворвался со стороны, разорвал круг, что дало мне возможность бежать, и мы с ним вместе дали драпу. Рассвирепевшие от Яшкиной дерзости, они гнались за нами всеми петлями переулков до Дёмышева. Это была пара самых ретивых, но не самых здоровых. Мы влетели в какую-то подворотню. Яша сделал «Стоп» и принял боевую стойку. Я пристроился плечом к плечу, и шпана, нарвавшись на кулаки, развернулась и отступила. Противостояние со Слободкой требует отдельного описания, вот пару славных страниц этого стояния.
Эпизод первый связан не со мной, а с отличнейшим членом нашей кодлы Валерой Сиваком, крепышом, умницей, мужчиной в очень многих проявлениях. Но была и слабость, алкоголь, потому его и нет сейчас с нами. Земля пухом, дорогой наш. Итак, танцевальный вечер в 3-ей женской школе. Почему-то не в актовом, а в спортзале. Стоим в тамбуре, всё это цело и живо до сих пор, мы ходим в этот зал голосовать во время избирательных кампаний. Рассказываю.
Как всегда не пускают внутрь и, как всегда, слободская шпана уже здесь.
Боря Крах со своими ублюдками. Сам Боря длинное, хилое, истеричное дерьмо. Он брат Краха старшего. Старший в мастях, с отсидкой, младшего защищает, если что. Тамбур, и Слободка уже богует. Кому под зад коленом, кому шарькарман. Сивак же, буквально, на днях, обновил гардероб, мать купила кепи-букле, «лондонка», отменнейшая, последний писк моды, лохматенькая кепура. Во всём городе, раз-два и обчёлся, а у Сивачка есть. Крах сразу на кепу глаз положил. Заёрничал и стал себя подогревать, входя в истерический транс, так ему смелее было. Отработанный приём всех блатных мира. Кончилось тем, что из за плеч своих соратников, сорвал кепи с головы Валеры и пустил по кругу, по рукам шайки. Тоже старый приём. Валера вертел головой, сопровождая кепу взглядом.
Не помню, то ли она задержалась в руках Краха, то ли он решил кончать игру в кошки-мышки. Возня закончилась. Кепи явно была у Краха. Руки он держал за спиной. Потом демонстративно показал кепу всем и стал пристраивать её себе на чимбер. Здесь отчаяние потери переполнило Сивака, он бросился к Краху, левой рукой сорвал кепу, а правой нанёс удар в мерзкое рыло. Крах прилёг в углу тамбура. Я уже говорил вам, что Валера был крепыш. Теперь приоткрою другую деталь. Походы в женскую школу на танцульки начались лет в 15, а в 16 мы уже были ещё те тедди-бойс! Видимо с 15-ти стал уходить тот ритуальный, почти гипнотический страх перед Слободкой. И вот проявления бесстрашия – подвиг Яшки, Сивака. Сейчас, задним умом, я думаю, почему мы не собрались духом и не противостояли издевательствам. Замечу, после нокаута, кодла Краха тоже не бросилась защищать вожака. Не оправдываюсь. Описываю как было.
И здесь же, как подобное случилось со мной. Я учился в вечерней школе, которая находилась в здании Бориважа. На одной из Пасхальных всенощных я ухитрился закадрить и увести в Ленинский сад девочку, девушкой её назвать язык не поднимается. Это была Лена У. Девочка с улицы Революции. Тоненькое, веснушчатое, стройное создание, очень миловидна. Я не могу назвать поцелуями те детские чмоки, которыми мы обменивались. Поздней весной, когда я встречался с более зрелой девушкой, за такие же «поцелуи» я был осмеян и уничижен. Правда, ненадолго, поскольку оказался способным учеником.
Ночное приключение имело последствия. Чуть ли не на следующий вечер после 2 или 3 урока моей вечерней школы в приоткрытой двери класса показалось рыльце одного из сподвижников Бори Краха. Рыльце поманило меня пальчиком, я вышел. – «Идём, поговорить надо». От Революции свернули за угол, на набережную. У парапета стоял Боря Крах в окружении клевретов. Разговоров почти не было. Сразу стали мутузить. Разбили сопатку, металлическим прутом раскроили башку. К счастью, кости остались целы. Не помню, чем кончилась метель, я бежал, или приустали экзекуторы. Главное, на следующий вечер всё повторилось, и на третий тоже. Мой друган по классу Володя Заболотный, сам слободской, не спрашивал и не допрашивал что, да как. Всё было более чем очевидно. Он уговорил и привёл вечером крутого слободского блатаря Шалю. И когда, в очередной раз, меня повели за угол от школы, появились Заболотный и Шаля. Кодла Краха в секунду была размётана и позорно бежала под увещевания Шали. Ещё раз увижу, пасть порву, моргалы выколю.
И тишина. Налёты как начались, так и закончились. Спасибо, Шаля, выручил. А ещё вернее, огромное спасибо Заболотному, спас. С Шалей связана ещё одна история. Хронологически это произошло через десяток лет. Наша компания, местные и приезжие ребята-отдыхающие, тусовались у входа в курзал. Весело зубоскалили ,ожидая начала танцулек. Мимо проходил Шаля. Чем-то мы ему не понравились. Подошёл и категорично заявил: «Так, быстро, жопу в горсть и бегом отсюда». Среди нас был Юра Б., боксёр, мастер спорта. «А чего это мы должны уходить?» Хозяин жизни Шаля таким же приказным тоном распорядился: «Идём, поговорим», и двинулся в сторону тёмного угла парка окружавшего развалины санатория Семашко. Юра и мы за ним. Прошли 5-10 метров под сень деревьев. Шаля грозно предупредил: «Не разбегаться, метелить буду». Юра снял с себя белую парадную сорочку и стал в боксёрскую стойку. Шаля малость опешил, покрутил носом и миролюбиво произнёс: «Орёл. Идём, выпьем. Я выставляю». Инцидент был исчерпан.
ДворС волнением и чувством огромной ответственности перехожу к этой теме. Дорогие мои соседи, память о вас не сгинула в водовороте жизни. Мы, ваши наследники и последователи, приняли на свои плечи эту, для многих почти непосильную, ношу нынешней жизни, понимая, что наши муки в сравнение с вашими лёгкий трепет, детский лепет. Хочется верить, мы приняли ношу и достойно пройдём, отмеренный нам путь.
Какие персонажи, истории, трагедии и драмы разыгрывала жизнь на подмостках этого двора. Господи, дай сил не соврать, не сбиться с истины, так всё это было неоднозначно. Доброй памяти вам, дорогие мои, вы частица меня, изо всех сил постараюсь оставить вас в памяти потомков во всём своём блеске людей, выживших в эту страшную эпоху. Я люблю вас, всегда помню и постараюсь донести свет вашей жизни нынешним людям. Приступаю, благослови, Господи!
Двор наш кишкой вытянулся метров на 75. С обеих сторон обстроен домами, сараями, пристройками, достройками, времянками, сараюшками. Нехитрым украшением двора были несколько деревьев: большая, старая акация слева, очень высокая. Боялись, вдруг, в одночасье, зимой или осенью она рухнет, беды не оберёмся, проломит не одну крышу. Акацию спилили. Дома в те времена отапливались дровяно-угольными печками. Древесину акации не увезли. И нам пришлось долгую зиму бороться с этим твердейшим стволом топорами и ножовками. Было ещё два-три дерева, их называли уксусное или вонючка. Сейчас мы знаем их благозвучное название – айлант. И, действительно, они красивы своей перистой листвой и пучками маленьких, красных семенных стручков, во время плодоношения. Группы айлантов очень украшают однообразные степные пространства северо-запада Крыма. Примерно посредине двора, справа, маленький перешеек соединял двор с другим земельным участком. Это был достаточно большой участок, который называли пустырём. Правый угол пустыря украшал мусорник, прямоугольная загородка из ракушечника, вместилище мусора. Левее – будка дворового туалета на 2 очка. Дом пауков, мыслилось мне. По углам будки под крышей гнездились огромные пауки-крестовики, ядовитейшие и кровожадные, уверен был я. Борьбу вёл с ними не на жизнь, на смерть.
Гуликами (каменьями), палками, домашним веником, всем что под руку попадалось. А как иначе, представлялось мне, сидишь, сирота, над дыркой, а фашист прыг сверху, лапищи растопырил, кусь за голову, и помирай в дрыгоножке от его поганого яда. Видимо, насмотрелся фильм «Тарзан», где фигурировали смертоносные пауки.
Пустырь был также местом дворовых игр. Любимым занятием было так же поджигание мусорника. Бит и руган за это был неоднократно, но продолжал жечь сладострастно и неутомимо. Огнепоклонник, куда денешься. Но самым любимым местом игр был пустырь на перекрёстке Пролётной и Водоразборной. Сейчас там стоит мерзейший, отравляющий жизнь жителям прилегающих дворов мусорник, свинюшник (на сегодня этого мусорника более нет – М.Б.). Вонючий рассадник заразы и мелкого мусора, разносимого ветром на все четыре стороны света. Позор замечательного детского курорта и памятник равнодушию и безразличию местных чинуш к репутации родного города. А в наше детство это, было ровное, чистое, широкое, идеальное для игр место.
Описание жителей двора начну с тёти Маруси. Мария Заноза – очень говорящая фамилия, она действительно была занозой в сердцах многих мужчин. Были даже попытки самоубийства, на почве безответной любви. Небольшая, миловидная, с правильной фигурой, кокетка до мозга костей. Нравилась мужчинам и желала нравиться ещё больше. В середине 40-вых её возраст был ближе к 20-ти чем к 30-ти. Когда мы поселились, при Марии был Василий Жихарев, только-только демобилизованный боец Красной Армии, фронтовик-разведчик. Васька Жихарь был лихой парень. Пьяница, драчун, бабник, дебошир, враль, хвастун, короче, метки негде ставить. У Марии же был сын, от погибшего на войне мужа, Толик, уличная кличка Муля, видимо, из популярного тогда фильма «Подкидыш» (Муля не нервируй меня). Они были нашими соседями по двору. Мы квартира 10, они 11. Мария родила от Васьки сына Вовку, который вырос орлом, весь в папу. При них же жила мать Марии, баба Миля, старушенция польского происхождения, что немного расшифровывает и характер самой Марии. На могилу бабы Мили я недавно наткнулся, бродя по городскому кладбищу, и узнал что Миля, это Эмилия, вот тебе и баба Миля. Тётя Маруся умерла в 2008 году. Васька Жихарь был изгнан гордой полячкой ещё в 60-х, уехал на родину, на Урал, где и похоронен. Жильцы 1-й квартиры Костины. Старшие – Петька Пузатый управдом, работник ЖЭКа, Пузатым назван из-за огромного брюха, которое мощно свешивалось за границы пояса-подвязки из рыбацкой сетки, такие пояса были в моде в 40-50-е года. Его жена Мария, по дворовому – Маруська Кубанка. Они после войны попали в Крым с Кубани. О Петьке шли разговоры, что он был запятнан сотрудничеством с оккупантами и не был репрессирован потому, что дал согласие сотрудничать с органами, т.е. стал сексотом. Они были нелюбимы всем двором, но Пузатый, тёртый калач, мог втереться в доверие, подыграть, помочь, когда ему светила какая-то выгода, короче, змей был ещё тот. Кубанка же была дворовой кликушей. Сплетница, злопыхательница, завистница. Её противный, пронзительный голос, практически неумолчно, верещал во дворе в течение всего светового дня. У них был сын Костя, позже выпускник военного училища и офицер Советской Армии. Умер рано. С Костиными жила девчонка, наша ровесница, сирота, Тамара. Худая, некрасивая, злая. Тоже умерла рано, так и не обзаведясь семьёй. В следующей квартире, 2-ой, жили две женщины, тётя Оля и баба Мотя. Ольга была бездетная холостячка, баба Мотя была матерью Семёна Ивановича Х., тоже жильца нашего двора, о нём речь впереди, он достопримечательная личность и достоин обстоятельного рассказа. Тётя Оля работала мастером в том же ЖЭКе, что и Пузатый Петька. Специальность наложила отпечаток на её характер. Она была жёсткая, несговорчивая женщина, но не чета Петьке, к счастью, куда приятнее и лояльнее. А баба Мотя была добрейшее создание. Настоящая, добрая, русская бабушка. К нашей семье относилась замечательно, видимо, оценив нечеловеческие усилия моих дорогих женщин, мамы и сестры, в стараниях обустроить жизнь.
И ко мне она относилась хорошо. Когда я стал студентом и приезжал на каникулы, то она величала меня не иначе как по имени отчеству, что было мене странно, непривычно, но лестно. В быту она была мастерица класть печки комнатные, незаменимое и очень востребованное в те годы умение. Все дома нашего двора отапливались такими печками и были сложены бабой Мотей. Добрая бабушка прожила 100 лет. Не могу не заметить, в нашем дворе женщины жили не менее 85 лет. Мужики же вымирали, когда хотели.
Наш двор попадает в площадь пятиугольника составленного расположением культовых зданий почти всех конфессий нашего города.
Рядом с нами находятся: еврейская синагога, караимские кенасы, православный Свято-Николаевский собор, мусульманская мечеть Хан-Джами и чуть дальше армянская церковь св. Николая и текие дервишей. А место постройки храма всегда выбиралось очень тщательно. Не накрыт ли наш двор благословением святых всех религиозных конфессий нашего города? Мне эта версия люба. Но, вернёмся к моим соседям.
Следующая семья, большой клан, до сих пор множащая устойчивую генерацию этого славного, жизнестойкого рода. К сожалению, закономерность относительно мужской части двора подтверждается и историей этого клана. Главный и самый заметный прародитель этой ветви – Баба Даша, та самая уполномоченная двора в 40-50-е.
Крупная седовласая женщина, обладающая мужскими чертами характера, да и как ещё можно было выжить ей и многочисленной семье. У неё было 6 или с 7 детей и все мальчики. Молодой она была в 20-е годы и до конца 30-х исправно рожала бойцов для Красной Армии. Был ли у неё муж сокрыто временем, но те четыре сына, что я знал, были абсолютно разного генотипа. Старший Мишка успел повоевать, по лицу и всем повадкам был типичный цыган. Юрка и Васька похожи, хотя между ними ещё был Витька, по повадкам тоже цыган. Внешне красивый малый, чем и пользовался напропалую. Два сына бабы Даши были расстреляны на Красной горке, и я хорошо запомнил походы туда в майские дни поминовения усопших. Это было далеко за городом, в степи. Остаток траншеи противотанкового рва и разбросанные по степи холмики земли, помеченные, где самодельным крестом, где кучкой камней, где воткнутой торчком железякой.
В наши годы при бабе Даше был муж, дядя Коля – худой, длинный, чахоточный мужик из раскулаченных. Он был первым, кто замутил девственно прозрачное сознание юного пионера Советского Союза. Он умер в начале 50-х, но порассказать успел многое из своей горемычной жизни. В следующей по номеру квартире жила молодая еврейская семья, Клара и мясник Сашка, у них родилась дочь Лиза. Благополучная еврейская семья, но вскоре Сашка стал попивать, то ли от достатка, то ли со скуки, и пошли скандалы. Я покинул двор в 1959-ом, позже в этой квартире жили уже другие люди. Следующая квартира тоже замечательна и отлична от других. В ней жила многодетная семья Семёна Ивановича Х., замечательного скромного человека, офицера-фронтовика, кавалера ордена Красной Звезды. Этот орден сейчас стоит у меня перед глазами, ни до, ни после я не видел этот орден живьём, но тогда он очень впечатлил меня, особенно красноармеец, изображённый на ордене, в длиннополой шинели с большой винтовкой. Семён Иванович скромно помалкивал о войне. Во время долгих летних, вечерних посиделок, когда дворовые штатные краснобаи: Петька Пузатый, Васька, Мишка живописали перед женщинами яркие штрихи своей жизни.
Эпоха телевидения ещё не настала, и разговорный жанр был остро востребован. Напуганные рассказами женщины боялись по тёмному двору идти домой. Электричества ещё не было проведено. Появилось только в 1949 году.
Помню жуткий рассказ Васьки-разведчика, как он всю зимнюю ночь под пулемётным огнём пролежал на трупе немецкого солдата. На земле замёрз бы насмерть, а так только обморозился местами. Петька любил рассказывать о проделках нечистой силы, что для женщин было страшнее войны. Вернёмся к семье Х. Когда мы поселились во двор, детей у Семён Ивановича было двое: Володя, который вскоре ушёл служить во флот, и Тая, школьница. Но, видимо, было решено восполнить прерванный войной процесс. Один за другим родились детки Коля, Люда, Лариса. Они росли на моих глазах, и поэтому сейчас приятно видеть их, особенно Колю, красивого, черноглазого мальчика, любимца всего двора. Большой, красивый, состоявшийся человек, сейчас он глава клана, владелец точки общепита. Все родные пристроены, прикормлены. Думаю, Семён Иванович гордился бы своим младшеньким.
Мы были бедные и счастливые, страна поднималась из руин, впереди маячила новая, прекрасная жизнь. Усатого аспида похоронили и развенчали, грезилось только всё самое-самое. Школа подходила к завершению. Дальше маячила мореходка... и весь мир у наших ног. Красок жизни прибавлялось, становилось сыто. Появились и запели иностранными голосами магнитофоны.
В следующей за Х. квартире жили Зборовские. Хозяин Хаим Зборовский был председателем еврейского колхоза в пригородной деревне Комзетовка.
Каждое утро за ним приезжала бидарка, так называли конные упряжки на двух колёсах, двуколки. Маленький щуплый председатель с холщовым портфелем под мышками на целый день оставлял свою большую властную хозяйку тётю Эню и единственное чадо – маленькое рыжее, нескладное, веснущатое создание – дочь Хаюсю. Это были хорошие, рачительные и добрые соседи. В сарае стояла корова, откармливались свиньи, бегали куры. Замечу, в те времена все держали какую-то живность. Куры, кролики, свиньи на откорм. Со всем этим тётя Эня управлялась сама. К праздникам, (не помню, всем ли?), нам вручалась крыночка отменной сметаны или сливок. Если корова телилась, всем во дворе перепадало мелозиво – это специфический молокопродукт от первой дойки коровы после отёла. Иногда тётя Эня давала заработать дворовым пацанам рубль, принести пару вёдер воды с фонтана, так называли водоразборные колонки на перекрёстках улиц, или нарвать цветов акации, которые она настаивала на водке, а потом натирала настойкой свои толстые, отёкшие, подагрические ноги.
К середине 50-х Хаюся по возрасту подошла к поре замужества. И здесь, как по мановению волшебной палочки, появился ухажер, он же вскоре и жених, а за тем и муж. Это был Фима Дикельбаум, солдат срочной службы. Очень симпатичный, крепкий, белолицый с румянцем на все щёки справный еврейский парубок, несмотря на молодость, с холкой и вторым подбородком. Крепкий местечковый парень, взращённый любящей мамочкой на курочке и свежей сметанке. При всём этом он был по-военному молодцеват и не тихоня. Двор был рад за нашу невзрачную рыжую Хаюсю. Вскоре родилась девочка, получившая самое популярное в те годы имя Марина. Фима же, в подарок от благодарного деда, получил на откуп винный подвал, что на углу сквера кафе «Мустафа» у Дёмышева, №25. В кои-то годы там был овощной, а сейчас просто будка обмена валюты. Именно в этом подвале карманник Ся угощал нас вином, и я попал на глаза Фиме, который, молодец, рассказал моей матери, за что я жестоко и поделом был бит. Марина росла симпатичной, доброй и умной девочкой, когда они уезжали в Израиль, влюбленный в Марину мальчишка, не покидал двор и готов был на любой поступок, только бы его возлюбленная осталась.
Будь старый Хаим помоложе он бы поднял в Израиле не один кибуц. Но скоро пришла весть о том, что он умер. Известия о жизни Зборовских за рубежом мы получали от тёти Ривы, последний персонаж в моём перечислении жителей нашего двора. Они занимали крайнюю хибару в правом ряду нашего двора. Они, это тётя Рива и дядя Гедали, тихая пара пожилых людей, уже пенсионеры. Гедали ж занимал какую-то должность, или пост, не знаю, как назвать, в местной синагоге. Он был очень похож на Швейка из книги Гашека иллюстрированной знаменитым чешским художником Йозефом Лада. Круглоголовый, под ноль остриженный, всегда с многодневной щетиной на щеках. Каждое утро и вечер, осторожно переступая ногами, он нёс своё округлое тело в синагогу и обратно. Наши дерзкие юноши постоянно подтрунивали и доставали старика. После отъезда Зборовских старички погрустнели, они соседствовали через стенку и, видимо, получали какое-то воспомоществование от соседей. Конечно, они не умирали с голоду, но жизнь их стала значительно скудней, это было видно даже по усохшей фигуре Гедали. Они тоже достаточно быстро умерли. Сначала Гедали, за ним тётя Рива. В настоящее время старейшиной двора остался я и, конечно, грущу, что мне не с кем поделиться воспоминаниями о замечательных жильцах нашего двора.
ЛюдиВ городе было много заметных людей, которых знали почти все жители. Населения тогда было порядка пятидесяти тысяч. Я лично в лицо знал очень многих и сейчас на улицах хорошо отличаю старых, коренных евпаторийцев. Начну с блаженных – городских сумасшедших.
Алёша. Он жил на Дёмышева, в добротном доме, что стоит против сквера Коммунаров. Холёное, бледное лицо, будто он был жителем подвала. Практически, каждый день он прогуливался по Революции в районе кинотеатров. Его никто и никогда не задирал и не трогал, а молва говорила, что он тронулся умом во время облав и расстрелов, последовавших сразу после десанта. Подробности его жизни мне неизвестны, но иногда во время своих прогулок он чисто по-детски имитировал, держа в руках палку, или, изображая пальцами пистолет, стрельбу. При этом его лицо принимало свирепое выражение. Отголоски войны были главным в его больном сознании.
Другой персонаж дядя Серёжа. Он жил в районе остановки трамвая, которая в те времена носила название «Десятикопеечная» (остановка трамвая на углу улиц Гоголя и Кирова – М.Б.). Оно осталось с тех времён, когда плата за проезд не была фиксированной как сейчас, а зависела от дальности поездки. Потом остановка называлась «Военторг», по названию магазина, располагавшегося рядом. Это был пожилой подопустившийся, небритый мужчина, которому очень хотелось общения. Взрослые избегали его, и он переключился на детей. Он подходил к ребёнку, брал в свои руки его ладошку, распрямлял пальцы ребёнка и просил пересчитать их. После слова пять, он вставлял свой палец между указательным и средним пальцем визави и просил пересчитать ещё раз. Получалось шесть. Тогда он делал страшные глаза и предлагал: «лишний отрежем?». И, когда мы, в притворном страхе, отдёргивали руку, он заливался счастливым смехом. Эту процедуру каждый из нас проходил многажды. Тем не менее, никто не отказывал дяде Серёже в этом маленьком удовольствии, хотя небольшой элемент страха всегда почему-то присутствовал. Сумасшествие дяди Серёжи обывателями истолковывалось как горе от ума, книжек перечитал. И, действительно, ходили разговоры среди детворы, что кто-то у него бывал и видел большую библиотеку. Мы были дети другого района и встречали его чаще всего у школы. Вернее, он нас встречал. Хочу точно заверить, никаких отклонений в сторону педофилии не проявлялось, поэтому и взрослые, и дети относились к нему ровно доброжелательно.
Ещё одна городская примечательность, если можно так выразиться, дед Караман. Сегодня на наших рынках можно видеть нечто подобное, но типаж деда Карамана неповторим. Он сидел на старом колхозном рынке, на месте нынешнего «Дома мебели», на ровном клочке земли. Вокруг деда было разложено море разливаное разной бытовой мелочи, включая гнутые ржавые гвозди, шурупы, болты, заскорузлые кожаные ремешки, закрученные винтом алюминиевые ложки и вилки, мятые миски, заношенная одежда разного калибра и назначения, и множество иного разнообразнейшего хлама. Над всем этим богатством величественно возвышалась фигура эдакого Карабаса-барабаса, чёрные, как смоль, волосы дыбом и седая борода вразлёт. Мощный и грозный старик. Он никогда не лебезил перед покупателями ради прибыли, был груб и суров. На рынке было много ярких необычных людей. Коля-китаец. Кто-то знал даже его настоящее китайское имя. Он торговал китайскими цацками: бумажные фонарики, вееры, раскладные гирлянды, мячики на резиночке, которые пользовались особенным спросом у пацанов. « Мячики, мячики, по рублю», – громко кричал Коля, многократно обходя базар во всех направлениях. Особенно он прославился после участия в съёмках фильма «Вольница», некоторые эпизоды которого снимались в Евпатории. Это событие очень взволновало и вдохновило город. Мы поверили, что наш город отличается чем-то интересным, от других, и поэтому киношники приехали именно к нам, показать эту необычность всему миру. И вскоре мы ещё более утвердились в этом мнении, когда к нам приехал сам Аркадий Райкин снимать фильм «Мы с вами где-то встречались», тем более что в фильме сняли, кроме нового свежепостроенного вокзала, ещё одну нашу достопримечательность, говорящего ворона Серёжу, всеобщего любимца, жившего при городском музее. Видным человеком в городе был также начальник местной милиции Косяков (многие хорошо отзываются о нем и сегодня – М.Б.). И внешне, и по должности он соответствовал этому месту. Здоровенный, видный и лицом, и фигурой, мужик на своём верном мотоцикле всегда был вовремя, и на месте всех событий, ход которых нарушал рамки закона, будь это массовое побоище-драка у танцплощадки на базе, так называли открытую танцверанду при гарнизонном Доме офицеров, или убийство в санаторном сквере напротив центрального входа в Курзал.
При любой заварушке в городе, заслышав стрекотание мотоцикла, раздавался клич: – «Косяков!!!», – и все врассыпную. Вот это был авторитетище!
С особым тщанием и гордостью хочется описать видных представителей мужской половины нашего города. Во времена моей юности, даже в моём окружении, были замечательно красивые парни. Я, будучи юным и неопытным в жизни, удивлялся, как женщины легко отодвигали свою неприступность и гордость ради понравившегося им парня, или мужчины. Потом я свыкся и приуспокоился, тогда же это меня удивляло, и поражало. Сам я был паренёк не броской внешности и все мои «победы» на этом фронте давались огромными усилиями, хотя комплексов особых не испытывал, всегда был признан и уважаем одноклассниками и одноклассницами, друзьями детства и юности. Всё это было немного другое и не то, чего я ожидал от окружения, особенно от женской его половины. Все эти столкновения юной, незрелой души с реалиями жизни я остро переболел, так называемым синдромом мировой скорби. Переболел остро, с суицидальным уклоном. Честно. Впрочем, мировая литература полна описаниями страданий юных Вертеров, мы были не хуже. Парни-ровесники, и не ровесники, будучи смазливыми, не прилагая видимых усилий, встречались, покоряли, любили и были любимыми, самыми видными девушками и женщинами нашего города. Многих из них я знал хорошо, и далеко не все из них блистали ещё чем-нибудь иным, кроме правильных черт лица. Придя к зрелости, я разобрался, что к чему и успокоился. Бог не обнёс и меня. И в моей жизни были красивые девушки и женщины, приношу извинения за нескромность. Теперь же хочется вспомнить видных представителей подробнее. Первым удивлением был мой Яша, друг детства и юности. Начались походы на танцплощадки и другие подобные мероприятия. Только-только триумфально прошёл по экранам индийский фильм «Бродяга» и восточный колорит был востребован. При объявлении дамского танца девушки чуть ли не в очередь выстраивались к Яше. Одноклассник и друг всей моей жизни Валерий Р. тоже проходил по списку неотразимых. Но, кроме физических данных, это был умница, эрудит и просто благороднейший человек, позже о нём я расскажу подробнее. Позже, в вечерней школе, одноклассником моим был Вадим К. Мало того что, будучи классически красивым, он был гимнастом, замечательно выстроил и продолжал поддерживать в идеальной форме свою фигуру. К чести Вадима, он никогда не употреблял свою красоту в корыстных целях. Слёзы евпаторийских девчонок по Вадиму были вызваны только неразделённой любовью, но не коварством или злоупотреблением с его стороны. Благороднейший человек, каким остаётся до сих пор, хотя жизнь подвергала его нелёгким испытаниям. Другой городской красавец Виталий П. – Паща. Атлет, брюнет, любимец женщин, в юности мы соприкасались эпизодически, а в зрелые годы волей судьбы оказались жителями Киева, дружили, в годы развала помогали друг другу выживать, увы, в Киеве я и похоронил его больше десяти лет тому назад. И умер он не в постели, как и подобает умирать героям-любовникам. Помяните добрым словом земляка, те, кто знал и помнит его. Из звёзд городского масштаба хочу назвать Ральда С. и из этой же компании Эдик Козёл, копия Алена Делона. Неотразимые герои 50-60-х годов. Ещё Макс и его окружение, Стас, Тарзан, он же БТ, Потап, Валера Небылов. Кого-то из них уже нет, следы других развеяло время. Из видных ребят конца 50-х нельзя не вспомнить Беню Мордсона, центрового стилягу, многократного героя «Комсомольского прожектора», он был первым моим духовным наставником. Типичное продвинутое еврейское дитя. С его подачи я впервые столкнулся с документальными материалами по второй мировой войне. Это был 3-томник «Материалы Нюрнбергского процесса» и «Пятая колонна» не то голландца, не то бельгийца Де Лонго. Ещё один герой того времени – Фореля, отличавшийся неординарностью уже в старших классах, был заводилой и звездой городского масштаба. Когда мы встали повзрослей и были приняты в компанию молодых, гарцующих балбесов, вечерами ходили на новую набережную (набережная им. Горького – М.Б.), где вечерами собиралась упомянутая компания. Числом нас было до двадцати и более. Чаще всего сидели на скамейке напротив старого помещения ресторана «Золотой пляж» (располагавшегося на территории нынешнего санатория "Ударник" – М.Б.). Музыкальное сопровождение ресторанного вечера обеспечивал некто Саша, тоже достопримечательная фигура в городе. Не могу точно сказать, был ли он слепым и в какой степени, но ходил в затемнённых синих очках, хотя палочкой не пользовался и передвигался по городу достаточно уверенно. Его дневным занятием была продажа фасованной синьки на городском рынке. Товар этот был всегда востребован, так как основная масса домов города были одноэтажные беленные домики. Саша кругами обходил рынок, звучно вещая: «А вот синька ультрамариновая», - товар неизменно пользовался хорошим спросом. Вечер же Саша посвящал ресторану. У него была неплохая подборка граммофонных пластинок, а один из динамиков проигрывателя был выведен на улицу. Почти ежевечерне мы собирались на этой скамейке. Скидывались, кто сколько мог, заказ стоил рубль, и просили Сашу поставить популярный шлягер. В те времена это были, на первых местах – «Стамбул-Константинополь», «Гитана», «Бесаме мучо». Опустошив небогатые запасы денег, изобретали иные забавы. По команде Форели, одновременно забрасывали левую ногу на правую и наоборот, и так по много раз. По окончании нашей мореходки, после очередного загранрейса он, в компании таких же выпускников мореходов, разодетых в иностранное шмотьё, гордо выступал по улице Революции от Бориважа до аптеки на углу Приморской, наш Бродвей пятидесятых.
Синела – городской бард, всегда готовый взять гитару на изготовку и исполнить что-либо по просьбе и без просьбы. Любил петь в клубах во время избирательных кампаний. Пел злободневные куплеты о поджигателях войны и «Стамбул-Константинополь» – забойный хит тех времён, не брезговал и блатными песнями.
Пепа – звезда 50-х. Маленький, коренастый, с приплюснутым носом. Боксёр. Он не чемпион мира, но заметный боец и любимец Евпатории. Быть знакомым с Пепой в те времена было очень престижно. Мы почти одновременно оказались в Киеве. Пепа учился в пищевом техникуме. Во время производственной практики, (он стажировался в центровом ресторане), если мы попадали на Крещатике ему на глаза, – а) были накормлены, б) без припасов не отпускал. Помню огромный кусок сливочного масла, который пришлось хранить в сетке, выставив в форточку общежития, благо, дело было зимой.
Мезя – ещё один знаменитый персонаж, даже не могу точно сказать, чем он был славен. Видимо, всё-таки своей неординарностью. Он дружил со старшим братом. Мы видели его за эти десятилетия в разных ипостасях – и милиционером, и воспитателем детского дома. Сейчас Анатолий Мезенцев знаменитый краевед-коллекционер (А. Мезенцев скончался в мае 2013 г. – М.Б.). У него лучшее собрание открыток, посвящённых Евпатории. Ни один издающийся фотоальбом о нашем городе не может обойтись без его коллекции.
Помню сестёр Новохацких. Очень красивые девчонки на выданьи, это поколение старше меня лет на пять. Мне было 15-16, а им 20-21, конечно, непреодолимый барьер. Земляки ровесники не могут не помнить, красавицу, с кукольным лицом, девушку по имени Жанна, кроме вышесказанного, она отличалась ещё тем, что руки её в любое время года были спрятаны в миниатюрную меховую муфточку. У девочки не было кистей рук. И тем не менее, её красота привлекала мужчин, её не обходили вниманием видные мужчины, как приезжие, так и местные. Судьба её трагична – она покончила с собой.
Как велик некрополь ушедших! Потому так хочется никого не забыть, дорогие мои, ушедшие земляки.
В продолжение о героях, известный всем Володя Манукьян – Маник, Доки – его городские прозвища, кому что больше нравилось. Мы с Яшей познакомились с ним через Беню Мордсона, они были соседями по двору. Доки взрывная смесь армянина и еврейки. Он был смешным и трогательным. Трудно было сердиться на него за постоянную незадачливую меркантильность. В его голове вечно кипели фантастические, несбыточные проекты быстрого обогащения. Он очень любил музыку и обладал неплохой коллекцией пластинок. Военные лётчики нашего гарнизона летали в Болгарию, Румынию и привозили оттуда диски фирм ГДР, Румынии, Польши.
Пятидесятые годы завершали замечательную эпоху биг-бенда, на наших глазах начиналась эра рок-н-ролла. В эфире ещё звучали оркестры Бенни Гудмана, Бинга Кросби, Дюка Эллингтона, прерываемые гитарными аккордами и залихватским вокалом Элвиса Пресли, Билла Хейли, Клиффа Ричарда. Приятно сознавать, что мы были первыми слушателями и ценителями восходящих мега-звёзд. Для воспитания музыкального вкуса очень благодатная нива, согласитесь. Нынешней молодёжи не позавидуешь, увы.
Во мне любовь к музыке проснулась очень рано. Сейчас не могу точно определить, что было раньше, появление патефона у сестры, или мои вечерние походы на танцплощадку-пятачок в сквере Караева. Он находился примерно на том месте, где теперь летом выставляют шатёр-пирамиду с электронными играми. Асфальтированный пятачок, огражденный забором с решёткой. К пятачку была прилеплена эстрада, там сидел инструментальный ансамбль. Запомнился Костя-барабанщик. Особенно впечатляла его ударная установка. Кроме барабанов, большого и малого, была так же небольшая деревянная доска-платформочка, на которой были закреплены черепаховые панцири, возрастающие по величине, от самого малого, с детскую ладошку, до самого большого, сантиметров 30. Нигде и никогда я больше не видел такого набора. Костя, ударяя по панцирям палочкой, извлекал из них замечательные цокающие звуки. Среди музыкантов выделялся также трубач, курчавой головой, большими, натруженными, припухшими губами и несоветским видом. Лицом он был не то цыган, не то мулат. Одевался ярко, даже пёстро, артистично. Коллектив был дружный, сыгранный, симпатичный. Весёлые, добродушные, отзывчивые ребята. Времена, как говорил Райкин, были жуткие. Репертуар был стойко выдержан в духе ХIХ века. Па д'эспань, Па де грас, полька, па де патинер, краковяк, кадриль. В первую пару всегда становился штатный массовик-затейник с напарницей. Они были маяками и за ними остальные пары повторяли движения. Естественно, был вальс, а фокстрот и танго выдавались, как строжайший дефицит, два раза за вечер. В первом отделении фокстрот, во втором танго. Прощальный вальс, и, - до свидания, до новых встреч. Иногда к эстраде, чаще всего в конце вечера, подбегали девушки, умоляли: танго. Пожалуйста, танго. Видимо, так хотелось прижаться на прощание к любимому мореходу или механизатору. Мореходка и училище механизации были основными кузницами мужской части танцплощадки. Солдатиков и матросов я почему-то не помню в рядах танцующих. Может билеты были дороги, или конкуренция была велика. Конкурентоспособность в те времена чаще всего доказывалась мордобоем.
Почему я всё это так подробно запомнил? А потому, что на танцплощадке у меня был самый высокий пост. В районе эстрады, с наружной стороны, стоял лоток, точка продажи мороженого. Такой себе рундук из брусьев и фанеры. Большая фанерная тумба и четыре стойки, к которым прикреплён навес от солнца. Вот на этом навесе, свесив ноги, я сидел. А прямо подо мной Костя со своими барабанами и черепашками. И вся танцплощадка, как на ладони. Сколько мне тогда было, точно сказать не могу, 6-7-8, или 9, что-то в в этом промежутке, т.е это были 48-й, 49-й или 50-й, давненько, согласитесь? Но помню всё до мелочи, мелодии, лица, ситуации. Вот заварушка драки, а потом вал наступающих на отступающих, тут же отчаянные, разнимающие дерущихся, подруги и мельница-молотилка рук, сжатых в кулаки. Редко какие танцы обходились без драк. Очень мне нравились эти посиделки на крыше. Точно такой же пятачок был и в Курзале, но его я стал осваивать уже будучи юношей. Там мы с Яшей демонстрировали рок-н-рольные па, которые изобиловали больше не танцем, а акробатическими этюдами. Пример. Позиции спина к спине, вытянутые вверх руки в крепком захвате, приплясывая, отбиваем ногами ритм, и в какой-то момент один приседает и резко через спину перебрасывает партнёра. Следующее па, крепко прихватив партнёра за талию, поочерёдно приземляем его на одно бедро, потом на другое, или – партнёр становится в позицию игрока в чехарду, но в наклоне между ног протягивает свои руки партнёру. Тот, крепко вцепившись, резко дёргает. Опасный кувырок через голову и приземление на ноги. Точно мог сказать, что мы с Яшей были первыми рок-н-рольщиками из местных. Наблюдали как наши последователи разбивали головы и ушибали ноги об асфальт площадок. Откуда нам, 15-летним провинциалам, приходилось черпать? Первыми ласточками были Международный фестиваль молодёжи в Москве и австрийский фильм, не то «Ледовая фантазия», не то «симфония». Вот, в таком порядке шло музпросвещение.
Подозреваю, что всё началось с радиоточки, что висела в каждом доме. Эдакая тарелочка – что на улице, что дома, только в уменьшенном размере, говорящая с 6 утра до 24.00. Чаще всего, промывание мозгов: решения 18-19 съездов КПСС, правда, я и мои ровесники застали ещё ВКП(б). А из тех, кто помоложе, судьбоносные решения, начиная с ХХ-го и до последнего – порядкового номера уже не вспомнить, 26-ой или 27-ой.
Подавлял объём русской классики – симфонической, камерной, инструментальной. Оно, видимо, и правильно. Я, заядлый западник и рок-н-рольщик, скучаю. Готов променять любую нынешнюю ФМ-радиостанцию на классические программы прежнего радио. А дальше, патефон старшей сестры, пятачок и...местный гортеатр имени Пушкина, где я, любитель рока, со всей непримиримостью моих 15-16 лет, оценил и полюбил хор имени Пятницкого. Добавлю, удивляясь самому себе.
Город был круглогодичной всесоюзной здравницей. Санатории были заполнены все сезоны года. В театре и зимой гастролировали звёзды. Помню зимние заезды – Утёсов, ансамбль скрипачей Большого театра, Нечаев, Бунчиков с сольными программами, Смирнов-Сокольский и Ираклий Андроников. Об эстрадных оркестрах всех 16-ти (с 1940 по 1956 г.г. существовала Карело-Финская ССР, позднее преобразованная в составе РСФСР в Карельскую АССР – М.Б.) республик СССР и говорить не приходится. Приезжал и Рижский эстрадный оркестр. Запомнилось, солистка Айно Балыня, пианист Раймонд Паулс.
Сталин умер, страна развернулась и поплыла, необъяснимо куда, подальше от гулаговского кошмара. Появился "рок на костях", т.е. пластинки на рентгеновских плёнках. Музыкальный самиздат. (Смотрите фильм «Стиляги»). Возрождающаяся советская промышленность пустила на поток производство радиоприёмников и магнитофонов.
Яркая личность нашего ближнего круга Боря Пивень – замечательный друг, увы, его уже нет с нами.
Познакомились мы в 1958 году. Медучилище на Дувановской было одним из центров притяжения молодых людей. По субботам там были танцы и вечером стекались парни со всего города пообщаться с милыми будущими медсестричками. В ожидании начала вечеринки мы толпились у входа. Рядом стояла группа ребят. Один из них симпатичный, невысокий, черноволосый. Чем-то и внешне и манерой поведения похож на Чарли Чаплина. Из фанатичной любви к музыке и своему музыкальному аппарату к нему пристала кличка – Боря Магнитофонщик. И под этим именем его знал весь город, по крайней мере, все знатоки и любители музыки. У него первого в городе появился магнитофон и с момента приобретения его, дом на углу улиц Раздельная и Типографская стал нашим музыкальным центром. Из окон квартиры всегда звучала музыка.
Его мать, маленькая добрая женщина, в одиночку поднимавшая троих сыновей, всегда очень гостеприимно и дружелюбно принимала Бориных друзей. Мы прибегали поучавствовать в сеансах записи музыки. Тогда желаемых пластинок не было и музыку писали с эфира. Самые популярные радиостанции Стамбул, Анкара, Бухарест давали материал для записи в изобилии. Поп-музыка только набирала силу. И мы были в первых рядах. Не только музыка, наши мировоззрение и мироощущение совпадали. Совместные увлечения перешли в крепкую дружбу. Я уехал учиться. Мы переписывались.
Так совпало, что срочную службу мы проходили одновременно и переписка помогала нам преодолевать тяготы и сложности армейской жизни, которые, вы сами понимаете, были несладки. С небольшим разрывом по времени мы обзавелись семьями и первенцами. Можно уверенно сказать что Боре повезло с женой. Добрая, чуткая, заботливая жена и мать – Жанночка. Она взяла нелёгкую ношу руководства этим большим ребёнком. Не могу сказать, что Боря был беспомощен или инфантилен. Но всё равно оставался большим ребёнком. Ему не хватало доли здорового авантюризма поэтому, он, человек одарённый, не нашёл способов реализации своих талантов. Заботливый, трудолюбивый, верный муж и отец не вписывался в круг пробивных доставал. И хотя со временем всё в жизни пришло – и квартира и достаток, всегда это было чуть позже, чем хотелось.
Мы очень любили и дорожили его дружбой. В маленькой комнате общежития, на Д. Ульянова и в их квартире в Прибрежном, мы чувствовали себя любимыми и желанными. Какие замечательные вечеринки и всеночные посиделки-танцевалки устраивались в их доме. После безвременной кончины нашей любимицы Жанночки, Боря, потеряв опору и интерес к жизни, потихоньку двигался в сторону ушедшей подруги. Они уже вместе, а мы грустим, сожалеем, продолжаем любить и всегда помним о них.
Язык народа можно не понимать, но язык музыки интернационален. Помню, первый увиденный и услышанный радиоприёмник. У нас жил на квартире офицер. Откомандированный. От него, вернувшегося с городского партактива, мы узнали о развенчании культа личности Сталина. Очень славный, симпатичный капитан Советской Армии. И, не то купил, не то ему пришёл контейнером, с места прежней службы, радиоприёмник «Рекорд». И вот сидим вечерами, я чуткими пальцами кручу ручку настройки – ищем «голоса», Би-Би-Си, «Свобода», что угодно. Глушилки захлёбываются в рвении. Глоток правды! Дайте воздуха! Тиран умер, страна, развернулась и плывёт в смутно представляемом направлении. Какое замечательное время. Жить стало интересно. Ощущаете, вспоминаете дух того времени?
Все в недоумении. И перемены не заставляют ждать себя. Из ссылок, лагерей возвращаются люди, рассказывают. Газеты становятся интересными. Открывается журнал «Юность». Слышны молодые свежие голоса. Местные держиморды не поспевают за новыми веяниями.
Держать, не пущать!
Но... ледяной перемычке не удержать потока оттепели. Которые здесь сталинские – слазь!
Увы, выдыхаем сталинщину до сих пор. Больно тяжела была наука. Море крови и миллионы жизней. Палачи и жертвы уравнены, все в одной графе – пострадавшие. Что же это я, с такой мирной темы незаметно сполз. Простите, но это было!
Молодёжь, как и должно быть чувствует и впитывает новые веяния моментально. Какое счастье, что мы родились и мужали именно в это время. Вся Земля наслаждалась этим расцветом, радостью после военного ужаса. Верилось, в свете всех перемен, мир сделает правильные выводы из всего происшедшего и ход событий указывал именно на это. Или нам хотелось так думать? Корейская война, Холодная война, последующий послевоенный расклад, увы, перечеркнул эту маниловщину, реалии оказались суровей. Угроза и страх атомной войны висели над нами шесть десятилетий.
О музыке пока хватит, теперь — кино
Кино – это было убежище, куда можно было спрятаться от серости и затхлости жизни той поры. Детство, не смотря на бедность, было прекрасным, кино же было ярким примером, что нас ждёт во взрослой жизни и в какую сторону двигаться. В материальном плане, была бедно, беднее некуда. В воскресенье выдавался заветный рубль и..., гуляй в какую хочешь сторону. Рубль стоило кино, 98 коп. - 100 граммов конфет-подушечки, рубль стоило облитое красным застывшим сиропом яблоко, рубль стоил мячик на резиночке, (как быстро они выходили из строя). От интенсивного биения ладошкой о мячик, нитки, перепоясывающие золотистую или серебристую оболочку мячика, быстро лопались или расползались по сторонам. Как правило, чудо-мячик до вечера не доживал. Горстка опилок на полу, уже бесполезная петелька резинки на пальце и горький осадок на душе. Вот выбор для одного единственного рубля. Да, ещё, чуть не забыл – мороженное, и тоже рубль. На первом месте, конечно, кино – сладкий сон, дурман. Кинотеатров в городе было два: «Якорь» и «Красный партизан», оба на Революции. Два брата, лицом к лицу. «Якорь» – помещение частного театра до революции, поимпозантнее, поэтому здесь шли фильмы первого экрана. В затрапезном «Партизане», повторным прокатом. Кассы брались штурмом и большая часть желающих, огорчённая, уходила ни с чем. Взрослые, как правило, в это дело не вмешивались, а дерзкие подростки, те же слободские, чинили беспредел. Подросши, и мы смелее, напористее, наглее изыскивали способы добычи билетов. Один из способов добычи, забрасывание самого лёгкого из друзей на головы толпе, теснящейся у касс. Забрасываемый ловко-ловко, быстро-быстро по головам доползал до кассы и, буквально, нырял сверху вниз, в окошко. Проворачивались и такие коммерческие гешефты – билет продавался богатеньким Буратино за два рубля, правда, тогда нужно было предпринимать ещё один штурм касс. Но, если удавалось всё, каков результат! Сижу в первом ряду, счастливейший из счастливейших, да ещё полны щёки конфет-подушечек. Сладкое очень любили, явно организму не хватало глюкозы. Кино можно было смотреть и в других местах.
Например, в воинских частях, а их было несколько в городе. Крутили кино в агитпунктах, когда проводились предвыборные кампании. На шару народу набивалось несметно. Фильмы, правда, были, как правило, историко-революционными: «Ленин в Октябре», «Незабываемый 1919-ый» или «Суворов», «Нахимов», «Кутузов». Однажды, пылая огнём первооткрывателя, прибежал из города Муля. Задыхаясь от быстрого бега и невероятной сенсационности сообщения, выдохнул из себя: «В "Якоре" скоро будет новая кинуха "Гастелло"». Все мы, конечно, знали подвиг Гастелло, отважного лётчика, направившего свой подбитый горящий самолёт на вражескую колонну техники. На проверку оказалось, Муля спутал Гастелло с Отелло. То-то было разочарование! Не могу также не вспомнить одно из ярчайших событий моего детства.
Население города узнавало о программах кинопоказов из рекламных щитов, которые располагались в разных частях города. При каждом кинотеатре был художник, который на грунтованных мелом щитах разноцветной гуашью писал названия фильмов и время показа. Щиты разносили юные волонтёры. За труд они получали от художника контрамарку на одно посещение кинотеатра. Многие из нас вечерами отирались под кинотеатрами, горя желанием осчастливиться. Однажды, мне тогда было 13-14 лет, и я учился в 6-ом или 7-ом классе, ко мне обратился художник «Красного партизана», не хочу ли постоянно разносить щиты. «Тебе за это будут деньги платить». О, волшебник! Чародей, доброхот! Да прославится в веках твоё имя! Какое предложение!!! Что может быть прекраснее?! Они ещё и деньги мне будут платить!!! Я встретился с директоршей, был ласково опрошен и написал заявление. Мне положили 50 рублей жалованья в месяц. Немалая сумма, по тем временам. Моя мама, в то время работавшая лифтёршей в санатории МО, получала 300 руб. в месяц. К тому же я мог брать себе в помощники одного пацана, которому вручалась контрамарка. Началось замечательное время. Опишу производственный процесс. Точек, в которые нужно было разносить щиты, было три. Первая – рынок, в те времена он был единственный в городе, точка у санатория «Ударник», или как тогда называли, остановка трамвая «Десятикопеечная», коротко – на «Десятикопеечной» и у «Бориважа». В те времена старались забыть о тяжёлом, проклятом наследии прошлого, и в печатных органах это название не фигурировало. В просторечии же называли, кому как на язык попадёт и Бориваш, и Буриваш, наш художник писал на щите именно так – Буриваш. На Рыночной и Десятикопеечной щиты были большими, полтора метра на метр. Ветры у нас осенью, зимой и весной, сильны и, представьте, каково мне доставалось, самому полутораметровому, а в поход на базар и десятикопеечную я брал сразу два щита. Бывало, что порывы ветра, как парашют, тащили меня несколько метров по мостовой или тротуару. Но все эти труды стоили того. Какой престиж, какой авторитет. А, если шёл забойный фильм в помощники напрашивались такие видные пацаны, самому не верилось. Я стал своим в кинотеатре. Ошивался в кинобудке, помогая киномеханикам. Фильмы, как правило, состояли из 10-ти, 11-ти или 12-ти частей. Это 10, 11, 12 рулонов, каждый в отдельной, плоской, жестяной коробке. Чтобы поставить ленту в проектор, для демонстрации, нужно перемотать её на бобину, а после проката обратно в рулон. Киномеханикам эта рутина очень не нравилась, а мне, за право покрутиться в кинобудке, наоборот. Понаблюдать за процессом или поглазеть на зал через маленькое окошко, иногда встречаясь с любопытными глазами знакомых.
Опишу самых заметных сотрудников. Директор, эффектная крашеная блондинка бальзаковского возраста. Человек на своё месте. Ирина, так называли её все за глаза, к сожалению, не помню её отчества. Но благодарность моя простирается по сие время. Спасибо, Иринушка. Твёрдой рукой вела она коллектив к новым производственным достижениям. А это было нелегко, рядом конкурент-кинотеатр первого экрана. Да и коллектив неоднозначен. Горький пьяница, столяр Никита.
Тишайший и послушнейший, но бесталанный, по мнению Ирины, художник Великжанин, усердно изыскивающий экзотические шрифты в непрерывном соперничестве с художницей из «Якоря», которая иногда позволяла себе украсить рекламный щит изображением главного героя фильма. Уже при мне Великжанин, пару раз, по настоянию Ирины, пробовал ответить художнице – сопернице тем же, но, увы-увы. Решительное и беспрекословное резюме Ирины – «Смывай» – перечеркнуло эту битву титанов рекламы кинопроката. Всё равно, мне очень нравился тихий, чистенький, интеллигентный, затюканный Великжанин. О Никите скажу, работы ему хватало. Несколько сот ещё довоенных стульев под ёрзающими задами горожан рассыхались, расклеивались и рассыпались непрестанно, и Никита честно нёс свой крест, всеми возможными способами продлевая жизнь стульям. А ведь нужно было ещё поддерживать и себя любимого, мы знаем, как эгоистичны алкоголики в своей святой любви к зелёному змию. Оклады были малы, а потребность велика. В короткие промежутки между стулочинением он своими мастеровитыми руками делал столярный и плотницкий инструмент. Да какой инструмент! Все мастера деревянных дел за честь считали иметь профессиональное снаряжение от Никиты. Рубанки, фуганки, зензубели. Никита сушил древесину, калил металл, любовно точил лезвия. Даже просто наблюдать этот процесс было любо-дорого. По воскресеньям я видел на базаре, как покупатели его товара цокали языками, осматривая, оглаживая, нахваливая Никитин инструмент.
ШколаПроходя по ул. Бартеньева (бывшая Школьная), мимо парадного подъезда гимназии Сельвинского (бывшая средняя мужская школа №10), обязательно мысленно воссоздаю событие уже более чем 60-летней давности. 1 сентября 1949 года, шеренга малышей первоклашек и среди них я, семилетний шкет, в скроенной парадной одёжке: чёртовой кожи тёмные брючки и новая белая сорочка. В руке, обёрнутые газеткой, немудрёные причиндалы первоклашки. На портфель средств не хватило. Поступление в 10-ю школу событие не рядовое. Мои ровесники с ул. Пролётной поголовно начали свой школьный стаж в семилетней смешанной школе №6. Не знаю, кому обязан, стараниям ли матери, или ещё кого, но попал в престижную 10-ю.
Замечу без хвастовства, просто факт. Читать я научился в 5 лет, и уже в детском саду в голос и с выражением читал своим сокоешникам «Приключения Буратино» А. Толстого.
В школе мне понравилось. В декабре поспели юбилейные празднества к 70-летию вождя всех народов И.В. Сталина. За успехи в учёбе я был награждён почётной грамотой и подарками: портфелем и замечательно изданной, в подарочном исполнении, книгой «Каштанка» А.П. Чехова, которая была быстро и с удовольствием прочитана, а потом долгие годы была украшением моей очень скромной, одна подвесная 2-этажная полочка, личной библиотеки. В те времена фотографирование торжеств и событий фотолюбителями, было событием не частым, и первый фотоснимок класса был произведён только по окончании 4-го класса. Так что фотографии первой моей учительницы в личном архиве нет. Помню только фамилию, Генералова и смутное видение молодой доброй феи в нарядной белой блузке и нежные светлые локоны причёски. Она была с нами 2 или 3 года. Её потом сменила строгая училка-фронтовичка Папсуева Евдокия Васильевна, любовно называемая нами Явдошка. Будучи студентом, в Киеве, я встречал её неоднократно, представился. Увы, она не вспомнила своего отличника. Явдошка была строгой, но не злой. Во время болезни мы навещали её дома, на Приморской. Запомнилaсь пара фактов из 2-летнего общения с ней. Однажды она, ничтоже сумняшеся, задала нам на дом по арифметике написать цыфири от 1 до миллиона.
Я, приступив к заданию, через 10 минут понял, сие невыполнимо, и с чистым сердцем отложил тетрадь и ручку. На другой день класс разделился на две группировки, убитые горем отличники и нахально-весёлые лентяи. Удачно отчитался только Вовчик Ронский. «Евдокия Васильевна, а я перешёл сначала на десяточки, потом на сотенки, а в конце на тысячки, и дописал до миллиона», за что и получил пятёрочную с плюсом благодарность. Второе, это смерть Сталина, Евдокия Васильевна, лёжа грудью на столе, рыдала в голос с причитаниями. Несколько мальчиков вторили ей тонкими всхлипами. «Камчатка» разрабатывала планы плодотворного, содержательного проведения, нежданно обрушившихся на голову, многодневных каникул. Нужно отметить неподдельное горе и недоумение народа, как будет дальше без вождя?
Мои отличия в учёбе продолжались до 5-го класса. Дальнейшие успехи были загублены точными науками, математическими дисциплинами в первую очередь. Алгебра, геометрия, тригонометрия, а потом и физика стали на моём пути непреодолимыми вершинами. И только один раз счастье улыбнулось мне, уже будучи студентом на 3-ем курсе. Маленький, горбатый и весёлый препод донёс до меня премудрость теормеханики и сопромата. Спасибо, дядюшка Гарниер, а то так бы и умер, числя себя непробиваемо туполобым в точных науках.
Из учителей 10-й школы запомнились Пал Сандрычи, учитель рисования и учитель физкультуры, больше из-за совпадения имён, нежели чем-то особо выдающимся. Заметны были англичанки, выделяющиеся из массы учителей как одеждами, так и манерой поведения, что на наше освоение языка, увы, не повлияло. Запомнилось появление в школе новой училки, Анны Филипповны – Аннушки. Молодая, весёлая, кудрявоволосая, она выбегала на переменах поиграть с нами в ловитки или штандар. В редкие снежные дни охотно обстреливала и отстреливалась снежками, невиданная раскованность в поведении, совершенно отличающимся от важного, величественно-неподступного поведения основной массы преподавателей.
А мои братья по мукам, соученики! Какая пёстрая, разнохарактерная компания. Разудалый, неуправляемый Коняха, Сергей Коняхин. Ващенко, спокойный, умный мальчик. Соседи по улице, они же одноклассники, напарники детских забав. Женька Моисеев, Вова Данильченко, Жора Челеби. Появившиеся у нас с 5-го класса Валера Рябушенко и Витя Соколов, два высоченных подростка, дети офицеров-лётчиков, переведенных по службе на наш аэродром. С одним из них, Рябухой, нас на всю жизнь связала дружба. Мы похоронили Валеру полтора года тому назад.
Из соучеников-приятелей запомнились – Володя Лохматов, его отец был смотрителем Ленинского сада, и жили они там же. В их домике на территории сада после были авиакассы, а сейчас гастроном.
Володя Егоров. С его слов отец был Героем Советского Союза. После этой информации мы с Толей Алейником своих погибших отцов на полном серьёзе так же объявили Героями. Помню маленького, скромного и всегда доброжелательного Витю Селкова. Летом 1960 года, будучи после первого курса на летних каникулах, возвращался с пляжа и увидел на Революции похоронную процессию. В те времена процессии, от дома умершего и до кладбища, пересекали весь город по центральной улице. Открытый гроб стоял в кузове или на платформе телеги с конной упряжью. Из гроба выглядывало бледное, остроносое личико Вити. «Прободение язвы» – , сказал кто-то из провожающих. В последующие десятилетия, возвращаясь на малую родину я неоднократно слышал эти недобрые вести о смерти того ли другого друга детства. Земля вам пухом и добрая память до последних дней и часов нашей жизни. Для того и пишутся эти строки, други мои.
Парадный вход 10-ой школы открывался в исключительных случаях, а в будни толпа школяров теснилась у ворот. Большие деревянные ворота с калиткой. Напротив наших ворот находились ворота средней женской школы №3. У наших вечный шум и гам, расхристанные, шумные тинейджеры.... и совершенно обратная картина у противоположных ворот. Маленькие и побольше ангелочки в коричневых платьицах и белых передниках, в косичках банты, миниатюрные, чистые портфельчики легко плывут у правой коленочки. Если потоки совпадали по времени, то будто бес в нас вселялся, портфели молотили по головам со скоростью мухобоек, фуражки веером разлетались по Школьной (ныне ул. Бартенева – М.Б.).
Конец подкрался незаметно. Через год после смерти Сталина раздельное обучение было отменено. И мы, городская школьная элита, попали в шестую семилетнюю, смешанную школу. Прибежище второгодников и переростков, коих в послевоенное время было очень много, особенно в окраинных, бедняцких районах. Мне, коренному жителю этого района, было полегче. В мой класс попали офицерские дети Рябушенко и Соколов. Заметим, их отцы были переведены в наш гарнизон из Риги, и европейскость явно проступала и в одежде и поведении ребят. В наш класс попала дочь главного редактора местной газеты «Красное знамя» Света Ягупова, на сегодня известная крымская писательница. Я не могу сейчас отчитываться за всех, но не думаю, что этот переход был подарком для новичков. Ребятам точно было несладко.
Помню местного блатного придурка Речика, он сразу невзлюбил наших двух худосочных верзил. При всяком удобном и неудобном случае злобно донимал ребят. Рахит, дал он кличку Валере, и камарилья с готовностью включилась в травлю, действительно, нескладного, худого, длинного подростка. И всё равно жизнь была прекрасна. Атмосфера смешанной школы дала толчок интересу к противоположному полу. Лидерство в этом направлении взял на себя наш новый дерзкий друг Тапачканов-Волчок. Так мы его называли, и потому имени его я не помню. Но помню маленького бесстрашного Волчка. Предметом любви он избрал Инну П., очень милую, кудрявую девочку. Нам пришлось выбрать своих наперсниц из круга подруг Инны. Это были Оля, Тамара и Лиля. Местом дислокации девичьего кружка был двор, примыкающий к банку на Морской улице. Там жила Лиля. Девчонки дичились, но явно было видно, им лестно наше внимание. Хороводились мы на Старой набережной у Бориважа и на песке пляжа. Это была ранняя осень, начало учебного года и было ещё тепло. С наступлением сумерек гуляния заканчивались, и мы провожали девчонок на Пролетарскую, к их дому. На какой-то день ухаживаний смельчак Тапачканов сделал заявление, сегодня я поцелую Инну. Мы замерли в предчувствии чего-то невероятного. Пришло время провожания. Идём от банка по переулку к Соборной площади. Девчонки впереди, метрах в сорока. Вот они пересекли площадь и подходят к углу дома Дувана, а мы ещё только у сапожной мастерской, это противоположный угол площади. Волчок делает страшные глаза, и берёт с места в карьер вдогонку, к девчонкам. Мы застыли и смотрим. Он подбегает к Инне, говорит ей что-то, обнимает и... целует. Девчонки врассыпную. Волчок походит к нам и докладывает: «Я сказал ей, я люблю тебя и поцеловал». Мы к таким подвигам ещё не были готовы и отдали без слов дань восхищения безумцу. На следующий день через Олю был получен ультиматум, если такое повторится, бойкот и никаких отношений. Волчок сам от смущения не мог поднять на Инну глаз и, действительно, дерзостей больше не было. Пришли холода, и мы занялись своими мальчишечьими делами. Как пелось на граммофонной пластинке моей сестры, -« прощай вино в начале мая, а в октябре прощай любовь!»
И так, шестая школа рядом с домом, вокруг знакомое окружение, соседи и соседки. Директор школы Гольдштейн Яков Исаакович. Фронтовик, инвалид, хромает, одной ноги нет – протез, преподаёт математику. Жил здесь же, во дворе школы. Общая атмосфера в шестой школе попроще, контингент другой. Из учителей запомнилась Екатерина Васильевна (?), извините, так давно это было, к тому же честно признаюсь, школа, это не моя стихия. Я был любознательный, начитанный мальчик. Учебники старшего брата внимательно просматривал и перечитывал то, что привлекало. К сожалению, учителя мало что добавляли к тому, что я вычитал. Ярких преподов, увы, за все мои университеты было очень мало. И директор Гольдштейн не стал исключением. А вот Екатерина Васильевна, русачка, отличалась. Она любила русскую литературу, и в лучших же её традициях, любила нас, черноморских босяков. И мы, трудно принимая и воспринимая её уж слишком умилительное, гнило-интеллигентское, (прости меня, Господи), отношение и обращение, отвечали ей любовью и уважением. Это была классная дама времён пансионов благородных девиц, а мы были так далеки от всего этого, просто с другой планеты. Из ребят, кроме Соколова и Рябушенко, в класс попали и другие пацаны из 10-й школы. Запомнился Витя Буряк, мальчик, изуродованный ДЦП. У него больны были обе ноги. Плетьми висели между костылей. Мускулистый торс выше пояса, очень крепкие руки, красивая лобастая голова и весёлый нрав. Умница, юморист, активист. После окончания семилетки я не встречал его, впрочем, как и многих других. Именно там мы сдружились окончательно и на всю жизнь с Валерой Рябушенко.
Ещё запомнилась Галя Ш. Славная, весёлая, общительная девчонка. Видимо, симпатия была взаимной. Борюня, называла она меня, а я её не менее любовно – Шалайка, производное от её фамилии. Для друзей я был Шелуха, (с ударением на у), и, естественно нисколечко не обижался.
Семилетку закончили, и вновь перемещения. Я попадаю в первую школу. Нововыстроенное здание, но всё это меня мало радовало. Не повезло с классной руководительницей, у нас моментально обозначилась абсолютная несовместимость, кроме того я попал на суровейшего математика, это был Дёмкин. Кто помнит, знает. У меня всё связанное с математикой было запущено до крайней степени. А Дёмкин был абсолютно лишён какой-либо жалости к математическим тупарям. Собственного сына, учащегося нашего класса, он гонял, как сидорову козу, и каково это было видеть мне и прогнозировать своё безнадёжное будущее. В прошедшее перед 1-й школой лето я отработал в санатории МО садовым рабочим, и некоторым образом мог себя причислить к рабочей молодёжи. Поняв всю безнадёгу пребывания между двух огней, я обратил свой взор в сторону вечерней школы, куда и был милостиво принят директором Кокошвили. Фигура достаточно видная в масштабах нашего небольшого города. Здание бывшей гостиницы «Бориваж» только покинул физкультурный техникум, к большому и искреннему сожалению всех жителей города. Именно в это здание вселилась вечерняя школа. Там я встретил и подружился с новыми юношами и девушками Это, конечно, было совершенно другое окружение, что дало мне новый толчок к развитию. Классным руководителем у нас был Седлер Яков Исаакович, замечательный педагог и человек. Примерно год тому назад прочёл некролог в местной газете и искренне погрустил и пожелал Яков Исааковичу доброй и долгой памяти.
В вечерней школе я благополучно прижился и значительно расширил свой круг друзей. Вадим К., Владимир Т., славные девчонки Катя Б., Лена Н., сёстры Таня и Элла С.. Это был круг самостоятельных молодых людей, чего мне как раз и не хватало. Устроившись в школу, я бросился искать работу. Нужно было пристраиваться к какому-нибудь делу. Обошёл все автобазы, ремзавод, авиамастерские, имея желание получить какую-нибудь специальность – глухо. И всё-таки удача улыбнулась. Приняли на должность кочегара во ВКОШ (судьба многих моих ровесников, зимой-кочегар, летом матрос-спасатель, самые ходовые вакансии), ныне это санаторий «Фемида», на бульваре Ленина. Котельная находилась со стороны Надеждинской, сейчас Гагарина. Два котла и замечательная площадь перед ними. Стол, шезлонг, лопаты, куча угля перед топками. Индивидуальная, творческая работа. Давать людям тепло. Особенно моё место работы понравилось старым школьным друзьям, они оставались при мамах и папах под строгим надзором. Приближался выпуск. У меня они могли спокойно покурить, рассказать о тяжком родительском гнёте, пожаловаться на нелёгкую школярскую долю. В перерывах между излияниями я вставал из шезлонга, блямкал заслонками, открывая котёл и небрежно, но лихо швырял лопатой уголь в топку. Раскинулось море широко... Товарищ, не в силах я вахту держать,... и т.д.. Слова песни гулко разносились под сводами котельной. Клуб продолжал работу до закрытия отопительного сезона. Летом я опять устроился матросом-спасателем в санаторий МО. Мне уже было полных 16 лет, постоянная занятость на работе, а это и некоторая финансовая независимость, новый круг самостоятельных друзей. В новом учебном году мне выпал козырный шанс засветиться не только среди друзей и одноклассников, но на глазах всего нашего небольшого, но замечательного города. К санаторию МО был приписан катер РК-743. Рейдовый катер, так расшифровывалась аббревиатура РК. Санаторием катер использовался как прогулочный. И я, отдежурив в шлюпке на пляже во время купаний, матросил на катере. Посудина была очень старой, постройки 1914 года и, отметим, евпаторийский рейд, увы, не украшала. Длинный корпус и прямоугольная металлическая будка рубки. В тёмную ненастную январскую ночь, при штормовом южном ветре, катер сорвало с якорь-цепи и выбросило на берег точно напротив бывшей гостиницы «Бориваж», в то время моей Альма-матер, вечерней школы рабочей молодёжи. Если помните, в те времена ещё оставалась полоска песчаного пляжа между набережной и морем. Вся команда, в лице капитана Димы Столпникова, механика Гены Гаврилова и вашего покорного слуги была призвана на аварийно-спасательные работы, которые длились ровно месяц, если память не изменяет с 6 января по 6 февраля 1958 года.
Катер лежал, накренившись в сторону берега. Команда находилась на борту круглосуточно. За спасработами наблюдал и руководил майор Холопов, курировавший работу катера по долгу службы. Наша задача состояла в охране катера от мародёров, а так же в работах по недопущению ситуации, когда катер мог бы лечь бортом на грунт. А это вполне было возможно. Известно, что зимой море штормит особенно интенсивно. К тому же для снятия катера с берега, нужно было завести трос «брагу», под привальный брус катера, а на конце троса сделать петлю и навесить скобу. С железнодорожной станции были привезены мощные паровозные домкраты, с помощью которых мы должны были поддерживать катер на ровном киле. Нам были выданы лёгководолазные костюмы, а на катер завезены печка-буржуйка и запас дров и угля. То-то была весёлая жизнь. Весь день на глазах взволнованного города мы в костюмах, по пояс и выше в воде усиленно трудились с домкратами, как правило, за ночь волна вымывала песок под домкратом и по утру мы проделывали операцию выравнивания вновь. Ночами же тихо мёрзли, буржуйка плохо справлялась с обогревом выстуженного металлического корпуса. Старшие товарищи грелись с вечера спиртиком, выписанным предусмотрительным майором. Мне, малолетке, в сугреве категорически было отказано, якобы из педагогических соображений, но я-то знал, из жадности. Дима был известен как большой любитель дать по банке, особенно на шару. Месяц прошёл под знаком Большого Мужского Приключения. Трудно передать, сколь лестно было мне выступать в роли отважного маримана перед лицом родного города, а праздные зеваки весь световой день дежурили на набережной, и среди них было немало людей, чьё присутствие было мне приятно.
Однажды утром из Севастополя прибыл морской буксир-спасатель МБ-4. На шлюпке завели трос, прикрепили к скобе, все разбежались на безопасное расстояние. Рывок, и трос, со звуком громкого выстрела, лопнул. Выбрали обрывки и завели новый. Опять рывок, судно стронулось с места, мы лихо заскочили на борт, нас протащили по мели, ещё минута, и катер стал на ровный киль. Капитан послал меня в трюм проверить, нет ли течи. Всё в порядке. Буксир неспешно выбирал трос. Когда расстояние сократилось до минимального я стоял на носу, чуть сместившись к правому борту и следил, когда покажется скоба. Лёгкий толчок ,столкнувшихся катера и буксира, выбросил меня за борт. Ледяная февральская вода обожгла тело, я выскочил из воды пробкой, хотя был обмундирован по полной программе: сапоги, ватные штаны, телогрейка. Успел услышать команду – «Человек за бортом», и увернуться от летевшего прямо в голову, спасательного круга. Быстро был поднят на борт буксира, отведен в лазарет, раздет, растёрт спиртом и напоен горячим чаем. Здесь же на борту буксира майор выставил комсоставу буксира лёгкий фуршет в котором приняла участие и команда РК-743, естественно, за исключением незадачливого матроса. Через час с небольшим мне вручили почти сухое, пахнувшее машинным отделением, обмундирование. Приключение благополучно завершилось.
С новыми друзьями из вечерней школы проводили время по-взрослому. Весна. Собирались под вечер у Вадика. Его отец заведовал фотографией на углу Дёмышева и Пионерской, старожилы помнят это заведение. Вадим работал в этой же фотографии, так что этот период жизни хорошо отражён в моих фотоархивах. А жили они на углу Володарского и Д. Ульянова. Сейчас, проходя мимо этих окон, грущу и всё высматриваю, не мелькнёт ли тень нашей юности в окошках. С сумерками выходим. Курс на курзал. На углу Фрунзе и набережной Горького – гастроном и окошечко разлива. Полстакана портвейна и горсть Беломора в россыпь. Мундштучок папиросы приминается гармошечкой, и дым столбом. Как говорил кто-то из старших товарищей, от мужчины должно пахнуть вином, табаком и чуть-чуть потом. Т.е. мужчиной. Я верил и исправно придерживался ритуала. Естественно, никаких шерочка с машерочкой, что мы позволяли себе чуть ранее с Яшей или Сиваком. В начале карьеры настоящего мужчины я по одежде, выглядел непрезентабельно. Потом позволил на заработанные стильные брючки от портного, из купленного отреза ткани «метро». Пиджак «букле» на одну пуговицу. Чувачок, короче. Славные девчонки одноклассницы: Катя Буданова, Света Якименко, Лена Нестеренко! С ними отрабатывал правильную манеру танца. У меня проявилась слабость, от волнения рука не держалась на талии партнёрши и предательски съезжала ниже, приводя девчонок в смущение. Самая популярная вещь того сезона «Вот какая ты, Москва, красавица», в исполнении румынского солиста Джика Петреску, даже это запомнилось. Как мы её ждали, постилять немножко, повыкручивать ножонками. У меня хорошо получалось. Даже сейчас друзья юности, вспоминая танцульки, отмечают: ну, ты, Боря, давал! Знакомился и дружил с девушками, зимой с местными, летом с приезжими. Вы хорошо представляете атмосферу нашего курортного города, с утвердительной интонацией пишу я. Эта специфика замечательно отображена у писателя, нашего земляка, Бориса Балтера, в повести «До свидания, мальчики». К сожалению, эта специфика затянула достаточно многих друзей моей юности. Вечный кайф, алкоголь, атмосфера отдыха нон стоп, доступность женщин, это засасывало и расслабляло.
Я, к счастью, разобрался в этом быстро, и самым большим желанием было вырваться в большую жизнь и что-то сделать. Учиться, работать, интенсивно двигаться вперёд. Общение с жителями больших городов подхлёстывало это стремление. Как всяк солдат мечтает о маршальском жезле, так и мы мечтали о Москве. Московские были самые-самые, и мы туда же. Отмечу, большая часть моих друзей земляков, стали москвичами. Я, волею случая, стал киевлянином, но пару прекрасных лет отдал Москве. По исполнении 16-ти лет, я осенью сорвался в Горький, подстрекаемый одним соседом. Меня-то он накрутил, а сам не поехал. Я, неопытный, проболтался пару месяцев в Горьком, ни с чем вернулся. Всего лишь начало русской зимы показало мою неподготовленность к этому подвигу. Погорячился, но первый опыт получил. Дома почувствовал себя некоторым образом героем, как же, побывал там и сям, познакомился проездом с Москвой, и смело с другом Яшей окунулся в зимнюю светскую жизнь Евпатории. Познакомились с двумя очаровательными сестричками, выпускницами нашего физкультурного техникума Валей и Светой О. Они успели поработать по направлению, где-то в украинской глубинке. Они были постарше нас, и с ними было интересно. У нас со Светой дружба переросла в более сильное чувство. У Яши с Валей обошлось полегче. Дружили и дружили себе. Света была активной действующей спортсменкой. Входила в сборную города по гимнастике и волейболу. Я прибился к волейбольной команде. Тренер Б.Анохин попробовал меня как волейболиста. Опыт пляжного волейбола у меня был, но хотя тренер разочаровался, брал меня на выездные соревнования, как администратора. Он поддерживал спортивные устремления команды, а я по хозяйству. Поездили по Крыму с пользой для общего развития и опыта жизни. Со Светой надумали ехать поступать в Москву. Пришло лето, документы не отсылали, решили разобраться на месте, куда лучше поступать. За неделю до отъезда крепко поссорились и, как бы на зло друг другу, я поехал в Киев, что и определило мою дальнейшую жизнь, а она в Ленинград. Оба поступили, горячо переписывались, но судьбы определились врозь.
МореКакая необъятная тема. Вся жизнь связана с ним. В детстве я страстно мечтал быть моряком и только моряком. Этому способствовали первые жизненные опыты. Но, как говорят, мы предполагаем, Господь располагает. Даже сегодня, прогуливаясь утром у моря, я посожалел, как у Жванецкого, – никогда уже не вывести корабль в море. Всё детство было привязано исключительно к морю. Если нечего делать, на моряну, там всегда дело найдётся. Путь на море лежал через развалины Горелой почты к остановке трамвая. Фасад разбомбленной гостиницы "Бейлер" был достаточно высок, мы спрыгивали через оконный проём, практически, на трамвайные рельсы. Пересекали набережную и – море. В те времена набережная напротив остановки трамвая образовывала уголок. На уголке стояла чебуречная, отрада местных жителей. Чебурек стоил 4-5 копеек, порция 30 копеек. Стакан перцовки стоил рубль. Именно здесь я запивал, по-мужски, как мне думалось, своё горе, когда мы поссорились со Светой. К счастью, не запил и не пристрастился. Жизнь подтверждает.
От этого же уголка тянулись в море ржавые сваи, остатки пристани, построенной ещё до революции Русским обществом пароходства и торговли, и взорванной немцами после десанта января 1942 года. Помню леденящий страх, когда я проплывал над острыми пиками свай. Страх внушили садистически подробные рассказы взрослых о детках с распоротыми животами, выплывающих именно из этих мест. И всё равно любили это место. Заросшие морской травой сваи привлекали живность, и половить рыбу со свай, как в этом можно было себе отказать. Как настоящие мужчины, добытчики, трофеи и добыча были на первом месте, они немного украшали бедность стола. Вдоль всей набережной от порта и до Пересыпи включительно, тянулся песчаный пляж от 10 до 50, (опять же на Пересыпи) метров. У физкультурного техникума от берега камнями была выложена дорожка, камнями также была отмечена 50-метровая дистанция для заплывов. В том месте, где бывший Клубный переулок упирался в море, где стояло здание и двор военной части, это был дивизион торпедоловов и водолазных работ. Их катера с бортовыми знаками ВРД и ТЛ украшали акваторию Евпаторийского залива. От берега тянулся небольшой причал. Какое-то время он по совместительству, был городской водноспортивной станцией. Построили 5-метровую прыжковую вышку и деревянными сваями со щитами отметили 25-ти и 50-метровую дистанции. Самым большим искушением была пятиметровка. С 3-х метровой прыгали как хотели: бомбочкой, ласточкой, щучкой, а с 5-метровки страшно. Не раз больно ударялся головой или животом о воду. И я не один, друзья также. Но непреодолимая сила несла именно на пятиметровку. Дальше по набережной в сторону порта стояло здание конторы морпорта, плюс кафе «Чайка», прибежище голодных и жаждущих. Напротив конторы, в море стояли, так называемые баки. Мы их так называли. Это были большие затопленные понтоны, наполовину торчащие из воды. На них можно было полежать и хорошо погреться на нагретой солнцем поверхности бака. Купались всегда до посинения. Опять же понырять с бака, или по утру с удочкой потаскать зеленух, а повезёт, и парочку бычков на зажарку. Как-то утром, перед школьным экзаменом, нет бы, билеты поучить, побежал на баки и поймал огроменную чёрную самку бычка, «негритянку» икряную, которая тут же была зажарена и, конечно, принесла удачу. Экзамен успешно был сдан. Да, кроме купания до посинения, была ещё одна мания. Из одежёнки летом на нас были одни трусы. Чёрные или синие, сатиновые или ситцевые. Так вот, после купания их следовало выкрутить и высушить 100-процентно. Закон. Помню, сначала в четыре руки выкручивание, потом битьё о раскалённый асфальт, скрупулезное рассматривание, нет ли мокрых пятнышек, опять колотуха об асфальт, и так после каждого купания. Особенно клёвым местом для сушки считался асфальт пятачка танцплощадки, уже помянутой ранее. Видимо, там было менее стеснительно обнажаться, хотя я не помню, чтобы эта проблема была решающей, или имеющей для нас какое-то значение. Всё лето в одних трусах я ходил до 5 класса, а босиком до 8-го. Было именно так. Из катеров ВРД выделяли один с высоким баком и нарядной рубкой, покрашенной в бежевый цвет, его называли «морской чёрт», говорили также, что это румынский трофей. Бегали и в санаторий РККА, там, на Карантинном мысу, немцы затопили большие две или три баржи. То ли защитный мол от южного ветра, то ли ещё что. Было интересно бегать по ржавым клёпаным палубам, или смотреть за борт в синюю глубину без дна. С высоких рубок забрасывали свои удочки подальше, в надежде на большую рыбу, лапину, например. Так называли гигантских разноцветных зеленух. Между пристанью и конторой морпорта одно время базировались гидропланы на базе биплана «кукурузника». В Евпатории был свой небольшой аэродром при авиамастерских, поэтому вопросы авиации были нам небезразличны. Тем более к таким экзотам, как гидросамолёты. В эти же годы появились «летающие крепости» (В-17 "Летающая крепость" не поставлялся в СССР, как и В-29, возможно автор видел Ту-4, так же 4-х моторный бомбардировщик - М.Б.). Из газет и разговоров мы знали о них. Воображение поражала информация об их мощнейшем вооружении и количестве человек экипажа. Много писалось о преступлениях американской военщины, бомбившей с недосягаемой высоты мирные северокорейские селения. «Крепости» под монотонный звук своих 4-х моторов, медленно пересекали небосклон от горизонта до горизонта. Поначалу было боязно, не американцы ли это, потом лётчики, родители наших соучеников, успокоили. Это наши.
Не помню, кто из наших познакомился с рыбаками из рыбколхоза «Красный партизан», чьи фелюги стояли на внутреннем рейде евпаторийской гавани поближе к берегу. Мы стали помогать рыбакам, перебирали и чистили от водорослей сети. Разбирали после рыбалки концы с крючками. Вся наша уличная компания быстро влилась в рыбацкие будни. Это было интересно и выгодно. Рыбаки расплачивались за труд натурой - рыбой, и это было здорово. Два или три года мы провели в порту, нормально зарабатывая, не без приключений, набирая жизненный опыт. Порт, из которого нас беспощадно гоняли ещё недавно, стал для нас родным домом, не преувеличиваю. Получить «пай», так называли рыбаки, вручаемый нам натурой, гонорар, можно было только в момент прибытия фелюги с моря. Поход фелюги на постановку, или подъём сетей или крючьев, говорили именно так – крючьев, называли просто: – «Вы куда? В море. Вы откуда? С моря». Так вот, приход фелюги с моря мог быть и в 12 и в час ночи, короче, когда угодно. И нужно было быть в порту, встречать фелюгу, получать пай, тащить домой, или на реализацию, продажу то есть. Дома понимали, работа, кусок хлеба, свежий продукт на стол в семью. Возражений не помню.
В порту было два милиционера, Толя и Гриша, присматривающих за порядком. В их обязанности так же входило пресекать хищение социалистической собственности. Рыбаки должны были весь улов, до рыбёшки, сдавать в колхоз. Мало того, что они брали себе, и немало, они отдавали часть улова совершенно посторонним, если смотреть со стороны закона, людям. Милиционеры на рыбаков с мешками смотрели сквозь пальцы, нас же гоняли и отлавливали немилосердно. Скоро нас в порту знали в лицо и по именам, включая милицию. Это была такая игра, мы знаем, что вы знаете... и т.д. До штрафов или уголовных дел не доходило, к счастью. Но гонять, гоняли. Так просто пронести мешок с рыбой, (обычно две-три камбалы, или пяток кг кефали), мимо ворот – НЕЛЬЗЯ. И ходили в обход, заборами, санаторием, морем – как же, кровно заработанное. А потом ещё на базаре, грозный Полтора Ивана, надсмотрщик рынка, может кто помнит: длиннющий и вреднющий мужик, хватал не за руку, или ворот, а за мешок. Такой вот государев блюститель. Да, жизнь была интересной, но не сахар и не мёд, только успевай зарабатывать и уворачиваться. Заработанное же честно относилось домой, что рыбой, что деньгами. Баловства не позволяли. Папиросы-да, но никакой выпивки, ни на нюх, никак. Такой была жизнь.
Пребывание в порту при рыбаках, явно шло на пользу. Заработки были высоки и стабильны. Круг общения рос, мы узнали всех и нас знали все, а шустрому исполнительному мальчонке всегда найдётся что поручить. Самыми уважаемыми и значимыми людьми считались дежурные инспекторы портнадзора. Они сидели в будке у входа на причал и давали – регистрировали, так правильнее сказать, отход и, приход всех плавсредств. Процедура немаловажная в судоходстве. Всегда можно найти какой-то формальный крючок, и сиди кукарекай, если в чём-то не угодил шефу. Запомнились два персонажа из этой высокопоставленной касты: дядя Толя Варавва, этот со знаком плюс, и Васька-калканщик, негатив. Дядя Толя, откровенно восточного вида типаж – грек, наверное, смуглый, чернявый с проседью, пожилой, за пятьдесят. Он жил во дворе мечети, т.е. наш сосед. В те времена в северо-восточном углу двора мечети стоял небольшой дом, хата, как сказали бы на Украине. С клумбами, грядками, курами, всё как положено у нормальных людей. А мечеть тогда была под складом зерна, забита пшеницей под купола. Так вот, дядя Толя относился к нам по-доброму, и мы отвечали ему тем же. Васька-калканщик, попрошайка, жмот, нахалюга, плохой человек. Кличку получил правильно. У рыбаков, по приходу из моря вечно канючил, выпрашивал, хотя они, если была рыба, всегда одаривали дежурного портнадзора. Но, если нет, значит нет, а Васька канючит, ну самого маленького калканчика – дай. Дай, дай. Вот и получил кличку. Будь его воля он бы и нас прижал на полную. Но знал, мы нужны рыбакам, поэтому рычал, но не трогал. Команду фелюги называли бригада. Капитана – бригадиром. Просто, по-колхозному. Бригадиры были из оленевских рыбаков, как правило. Караджинские, говорили тогда, по-старому названию Оленевки-Караджа. Тарханкутские рыбаки считались лучшими на Западном побережье Крыма. Помню фамилии бригадиров: Арцыбашев, Лагно. Одного молодого, но хваткого бригадира называли Бродяга. Помню его физиономию и его моториста. Мне кажется, что Лагно я и сейчас иногда встречаю в городе. Хочется подойти, расспросить, да что-то стесняюсь. По хронологии получается что тогда ему было не больше тридцати. А прошло не менее 55-ти лет. Я работал с бригадой Прокопенко. Каждый из пацанов работал с какой-то определённой бригадой и отвечал за своевременное исполнение и качество работы, от этого зависела щедрость пая. Старались на совесть. Иногда, достаточно редко, выпадала огромная удача, кого-то из нас брали в море. То-то был праздник! Если обговаривалось заранее, готовили харч, одежонку. Надо было соответствовать по всем статьям, быть помощником, а не обузой. Спрос был по-взрослому. Поднимать сеть, так поднимать, стоять на руле, так отвечать за курс. К моменту выхода в море приходили пораньше, до прихода выпускающего пограничника. Нелегала прятали в трюме, заваливали ящиками и сетями. Лежишь, переживаешь, наконец-то грохот сапог погранца, стучат-скрипят лючины трюма. Служивый осматривает сверху пространство трюма. «Закрывай!» Ура! Пронесло. Стук сапог потом стартер, проба движка. «Отдай конец», – командует бригадир. Тока-та, тока-та, застучал движок, отошли. Но ещё полчаса на месте, пока шеф не убедится, вышка пограничника скрылась за мысом. Вылазь! Справа по борту Дикий пляж, Чайка, Евпаторийский маяк, открываются неведомые земли. Бригадир берёт за плечо, ведёт на корму, к рубке. Ставит к кормилу. Брус румпеля между ног, под нос, на доску – лёжень, отделяющую моторное отделение от рубки кладёт компас, рядом часы. Строго: «два часа – курс 230, потом переложить на 270 и ещё два часа, потом разбудишь». И спокойно присоединяется к бригаде, которая уже давит храповицкого на баке. Том Сойер, Гек Финн отдыхают! Я, фанатичный книгочей, никогда не мог понять, что там такого в жизни этих маменькиных сыночков, с их дохлыми крысами и крашеными заборами увлекает мировую общественность. А вот, получите, слева по борту появляется силуэт двухтрубного лайнера-гиганта «Адмирал Нахимов». Извольте, как приказал бригадир, разойтись с ним правым бортом. А на палубе праздного народа толпы. Все сгрудились на правом борту, а как же, в открытом море за штурвалом тринадцатилетний капитан. Только крепче сжимай коленками румпель, сейчас от теплохода волна ударит. Снизу из машины подмигивает моторист, ему там скучновато, но отсек не покидает. Через четыре часа хода, бужу бригадира, он залезает с ногами на будку рубки, и соколом оглядывает окрест. «Гляди туда», – указывает рукой, – «высматривай вешку». И ни разу я, а всегда он, находил её. Тонкая, два метра жердь, с лоскутом выцветшей тряпки на конце и четырьмя стеклянными шарами в рыбацкой сетке у основания, то на чём держится это сооружение. Шеф всегда находил этот поплавок и только тогда уже и я: «Да вон он, вон он». Рыбачки вставали, потягивались, с безразличными лицами пристраивались у борта, цепляли багром вешку, вытаскивали на палубу. В сей момент решалось их благополучие. Конец крючьев или сети закреплялся на фелюге и начинался подъём. Каждый конец сети, или крючьев сто метров. Десять концов, километр. Обычно десять – двенадцать концов. Я подключался к работе, шеф и моторист регулировали направление и скорость. Хорошо, когда нормальная погода, а если накат или волна, фелюга штивает носом или переваливается с борта на борт. Работёнка незавидная. Но в нашем случае выбираем крючья, и погода отличная, хотя море всегда работает. Прозрачная вода просматривается на глубину 5-6 метров. Вот идёт хорошая камбала. «Колесо»: – рвётся из глотки ликование. Но, упаси Бог, хоть шепоточком выразить эмоцию. В лучшем случае, по шее, в худшем, за борт или в машину, к мотористу, до прихода в порт. Улов идёт в трюм. Иногда на крючке дельфин, уже мёртвый, и частично обглоданный. Реже осётр или белужка, бывали севрюжки. Помню, кто-то взял 200-килограммовую белугу, это была уже редкость, но ещё попадалась.
Концы выбраны, ставим новые, как правило, немного сменив район, на часик мористее или ближе к берегу. Возвращаемся тем же порядком. Боцман на румпеле, бригада спит. Сегодня у боцмана будет хороший пай, заслужил.
Примерно в эти же времена в жизни нашего клана произошли перемены. Брата Володю призвали в армию, служил он в Германии. А сестра вышла замуж за бравого солдатика Володьку Остапенко. Местный парень, но не знаю по какому блату, служил в Евпатории. Мне, естественно, он очень нравился, да что там, я просто был в него влюблен, подозреваю, может и чуть больше, чем сестра. Володя очень грустил, что ему не удалось повоевать. Но он восполнил этот недостаток с лихвой, выпросив и нацепив на свою гимнастёрку, медали старослужащих. Помню, славно бухнув, он еле добрался до порога нашего дома. Вошёл в комнату и рухнул на кушетку, прощально звякнув, немалым своим иконостасом. Я бегал к нему в часть, которая находилась на Токарева. Там уже перебывало столько организаций: военторг, гастроном, база фирмы «Ай Петри» и пр. Я приходил, а ушлые солдатики допрашивали, выспрашивали меня о сестре, о Володьке. Я, несмышлёныш, польщённый вниманием военных людей рассказывал им всё подряд, включая звон иконостаса и другие невинные подробности любовной жизни моей сестры и Володьки. А они на базе этой информации составили письмо, якобы от Гали, с претензиями на плохое поведение возлюбленного. За этот аттракцион я был щедро одарён солдатиками настоящей военной пилоткой, которую и носил сколько-то лет и в школу, и на прогулки. Знатная пилотка. А моя преступная болтливость была великодушно прощена влюблёнными и дело, как и положено, завершилось свадьбой. Мы же обзавелись сонмом новых родственников, что вот так просто и не перечислишь, так их было много, и такие они были разные. Но главное я сообщу.
Сестра, выйдя замуж за Володю, переселилась на Пересыпь. Я довольно часто навещал её. У Володи были два младших брата, Жорик и Сергей. Сергей постарше меня года на четыре, но мы с ним сдружились. Пересыпские жили своей, больше похожей на деревенскую, жизнью и в этом были свои интересные моменты. Вообще жизнь семьи Остапенко отличалась от уклада нашей семьи. У них преобладал мужской вектор. Даже по поводу моего визита Пётр Иванович выставлял на стол бутылку водки. В нашем доме застолья бывали только по праздникам и то скромно, с портвейном «Таврический», винегретом, селёдкой, отварной картошкой. Пересыпские водку закусывали коричневыми плиточками кефальной икры. Что может быть вкуснее, риторический вопрос. Дядя Петя пьянел быстро. Задним числом догадываюсь, что он с работы приходил уже под градусом. Очень ясное воспоминание: большая плохо освещённая керосиновой лампой комната, немалый семейный стол заставлен едой. Семья большая. Отец, мать, две бабушки, три брата, две невестки, гость. Отец бухтит, гневно гремит тарелками. Препирается с женой, честит сыновей. Вдруг, громко, гневно пассаж: «Борьку, говорю, зарежем». Я в страхе сползаю под стол. По окончании ужина и скандала сестра объясняет мне, что Борька это домашний козёл.
Через какое-то время молодожёны перебираются на Пролётную и новорожденную племянницу из роддома привозят сюда же. В момент женитьбы Володя продолжал срочную службу. Окончание службы было драматичным. Сержант Остапенко был командирован с пакетом на три дня в штаб Таврического военного округа. Бравый сержант пошёл на почту и отправил пакет срочным заказным письмом. А дни провёл с молодой женой, ни в чём себе любимому не отказывая. Итог – 3 года заключения. Так что дочечку он не встречал на пороге роддома, увы. Помню, как горестно и глубоко переживали всё это мои глубоко порядочные, законопослушные женщины, пока Володя мотал срок на строительстве Волго-Донского канала. От соседей сей факт пробовали скрыть, но, куда там, сарафанное радио донесло с деталями и подробностями даже нам неизвестными. Так вышло, что племянница Наташа росла на руках у дяди Бори.
Отец Володи, Пётр Иванович Остапенко имел прямое отношение к рыболовству, точно не помню, то ли к рыбзаводу, то ли к рыбколхозу. Короче, чуть позже он стал начальником рыбцеха под Оленевкой, в Очеретае, (именно такое название фигурирует в краеведческих источниках), в просторечье эту бухту и балку называют просто Черетай. У меня есть своя версия расшифровки названия, но её нужно проверять.
Слово очерет с украинского переводится – камыш. Если слово очерет производное от тюркского, можно с большой долей вероятности утверждать что бухта и балка получили название во времена Крымского ханства от зарослей камыша, имевшегося здесь в прежние времена.
По-родственному Остапенки приглашали меня в бухту на лето. Спасибо, это было очень интересно и познавательно. На берегу стояло пять зданий, из которых два были жилые хаты. В них проживали: сторож с семьёй круглый год и дядя Петя с женой, младшим сыном и гостем летом. Была так же казарма для рабочих рыбцеха, и так называемый, камерлюк, что переводится с фени как камера-люкс, а администрация называла её Ленинская комната или красный уголок. В ней висели портреты вождей, лежала подшивка газеты «Правда» за прошлый год и стоял граммофон. Имелись засолочные ямы, выдолбленные в материковой скале. Траншеи глубокого профиля, подравненные цементным раствором. Это была обычная практика тарханкутских рыбцехов на побережье. В последствии Черетайская бухта была сильно изуродована при прокладке магистрального газового трубопровода с шельфовых скважин на материк. В бухте Кипчак такую засолочную яму можно было увидеть ещё пять лет тому назад, её использовали в качестве мусоросборника.
Сейчас Черитайская бухта изуродована при прокладке магистрального газового трубопровода от шельфовых скважин на материк. От прежнего остался только колодец, который очень к месту в случае проведения экскурсий на абсолютно безводный Джангуль.
Кроме ям был ещё и ледник. Зимой его плотно забивали снегом, а летом хранили рыбу, которую свозили с Костеля, Кипчака и Атлешских кефальных заводов. Жизнь была интересной. Приходили байды гружённые свежевыловленной рыбой, тут же всё это сортировалось между двумя кухнями, ямами и ледником. Вечером в камерлюке пел патефон, а рыбачмесы переводили газету «Правда» на самокрутки и козьи ножки. Тётя Люся парила, жарила, вялила рыбу, а мы с Серёгой наслаждались вольной жизнью. Во дворе стояла полуторка АМО, которая была в полном распоряжении Петра Ивановича. Если на море была непогода, мы собирали рыбу по цехам на авто. Так состоялось моё подробное знакомство с Тарханкутом, и откуда же мне было знать, что через 50 лет я ежедневно повезу сюда полные автобусы туристов и буду показывать и рассказывать им всё, что я знаю и видел. И скажите после этого, дорогие мои, что жизнь не прекрасна и не удивительна!
Хочу описать как выглядел Евпаторийский порт в те годы. До войны в бухте было, по меньшей мере, 4 причала. Товарная пристань, в районе нынешней таможни. Пассажирская пристань, напротив мемориала Десантникам и Хлебная пристань между пляжем «Оазис» и оконечностью благоустроенной части набережной Старого города. Нынешние склады «Заготзерно» только часть амбаров, которых в районе конечной станции трамвая было значительно больше, включая ряд складов непосредственно на берегу моря. Все они снесены, а хлебная пристань, как и все остальные, была взорвана после десанта. Ещё одна пристань была в районе Сольпрома. Острые пики свай до сих пор торчат из моря. Причал, перед мысом Карантинный, был построен после войны из толстенных дубовых свай кустами, т.е. одна опора 3-4 дубовых сваи. Сейчас причал сооружён из бетона и имеет приличный современный вид. На рейде в те времена судов стояло значительно больше, 6-7 катеров базы ВРД, дюжина фелюг рыбколхоза, примерно, 3-4 сейнера. Малые черноморские сейнеры (МЧС), капитаном, на одном из них, был Жорик Остапенко, сын дяди Пети. Он закончил Ейскую мореходку капитанов маломерных судов. Одно время был также один СЧС, средний сейнер, румынской постройки, под командованием Анатолия Овсянникова. Иногда в гавань заходили БМРТ, большие морские рыболовецкие траулеры, эти приходили с полными холодильниками рыбы, поставляли сырьё для обработки местному рыбзаводу. Болталась на рейде посудина под названием «Папанин», приспособленная под рыболовство. Пассажирский флот был представлен полудюжиной прогулочных катеров, переделанных из фелюг, так называемые «птички», их названия были из птичьего ряда, мне запомнились только два, «Сокол» и «Стрепет». Флагманом прогулочной эскадры был «Евпаториец», переделанный из военного рейдового катера. Капитанствовал на нём Пётр Быков, почтеннейший ветеран Евпаторийского порта. Пожилой, смуглый, обветренный, сурового вида и доброго сердца мариман. Я боцманил на «Евпаторийце» одно лето и хорошо запомнил шефа. Матросом на катере был Рома. Роман, который следующим летом прославился не лучшим образом. В летний жаркий день катер заправляли солярой в районе здания конторы морпорта. Кто-то закурил и последовал взрыв. Роману оторвало ногу. И следующее лето катер обслуживал печальный матрос об одной ноге, а акции боцмана достигли максимального номинала, естественно, своё будущее я представлял только морским. Позже на радость патриотам города появился прогулочный катер «Жасмин», а потом и «Лабрадор», сделанные по современному проекту. Прежде такие катера, на зависть евпаторийцам, были только в Ялте.
Приписаны к порту Евпатория были два буксира, «Турист» и «Курортник», и две баржи, именно их таскали наши буксиры. Особенно симпатичен был «Турист». На его рубке красовался орден Красной Звезды и присутствовала бронзовая мемориальная доска, повествующая о подвигах буксира в Отечественной войне. Капитаном буксира, по совпадению, был тоже Быков, но другой, даже не родственник пожилого капитана. Лихого вида, достаточно молодой, лет 30-35-ти, с очень решительным выражением лица, короче, настоящий, конченный капитан, без каких-либо сомнений. Ни у него, ни у команды. Радистом на буксире служил Володька Остапенко, носатый небольшого размера парень, двоюродный племянник Петра Ивановича Остапенко. Радисты тех времён поголовно имели кличку Маркони, и носатый Володя был именно Маркони. Так шла ему эта кличка. Но, продолжу о жизни порта.
Практически каждый день в порт, вернее, на внешний рейд порта, приходили суда Крымско-Кавказской линии (Одесса-Батуми, с заходом во многие промежуточные порты Крыма и Кавказа). Они бросали якорь на внешнем рейде порта, а «Евпаториец» доставлял и снимал пассажиров с борта лайнера. В штормовую погоду занятие принимало характер экстремальный и вызывало бурю эмоций у женской половины пассажиров, с криками, отнекиваниями и пр. и пр. Но, Бог миловал, обходилось без происшествий. Хотя в шторм, каждый рейс был приключением. Сейчас порт имеет возможность принимать крупные суда, но где они? Как писал классик – «Распроданы по одиночке» (практически все пароходы и теплоходы тех лет списаны и утилизированы еще при СССР – М.Б.). А какие были красавцы! Сначала старая гвардия, в основном, трофейные и переименованные. «Россия», «Украина», «Адмирал Нахимов», «Победа», «Грузия», «Петродворец», «Пётр Великий», «Львов», я их выстроил по ранжиру от больших к меньшим. Потом стали появляться новоделы с верфей ГДР. «Ленсовет», позже переименованный в «Абхазию», далее пошли океанские суперлайнеры «Александр Пушкин», «Тарас Шевченко» и др. Сейчас, увы, Крымско-Кавказская линия не действует. Как-нибудь, позже, может опишу эпопею как за один рубль десять копеек я с другом совершил круиз Евпатория-Батуми четвёртым палубным классом. Заглядывали в порт учебные парусники Черноморского пароходства: «Крузенштерн» и «Товарищ», вот это красавцы, особенно, если при полном парусном вооружении. Приходил забирать курсантов нашей мореходки на практику двухтрубный старичок, 20-х годов постройки, «Иван Сусанин». Зашёл на минутку, мимоходом, по пути во Владивосток, флагман советского пассажирского флота, лайнер «Советский Союз». Мы мечтали о дальних морях и океанах и были уверенны, всё впереди.
Итак: устоявшийся молодой человек, как я считал, уже с любовным опытом, постоянной девушкой, кругом друзей, стабильным заработком, одет, обут, образован, заканчиваю школу, впереди мореходка и весь мир.
Зимой у нас на квартире пристроился мужик-квартирант, из украинской сельской, колхозной глубинки. Приехал на закупку и отгрузку камня-ракушечника. Камень добывали в карьерах. Дело мужика было завозить камень на товарно-грузовую станцию Евпатория, грузить в вагоны и отправлять в родной колхоз. Камень добывали и завозили исправно. С отправкой дело было посложнее. Требовалось наладить продуктивный контакт с диспетчером станции. Как и всё у нас, не подмажешь, не поедешь, контакт налаживался не сразу и не легко. Специфика познавалась в процессе, а колхоз требовал камень. С диспетчерами наладилось, теперь в момент подачи вагона под загрузку, нужно было оперативно иметь под рукой бригаду грузчиков, чтобы избежать простоя вагонов, что каралось очень большими штрафами. Мужик начал сколачивать бригаду. Сосед Васька Жихарь тут же собрал собутыльников, и бригада будто бы состоялась, но ненадёжны были алкаши. Бывало, подводили. Его на погрузку, а он или лыка не вяжет, или после вчерашнего. Я работал по сменам, и иногда имел возможность подработать на погрузке. Деньги были хорошие. Бригада из пяти человек за 3-4 часа напряжённой работы, загрузив 60-тонный вагон, получала 500 руб. на руки тут же. Т.е. по сто рублей на брата. А я получал в котельной 300 рублей в месяц. Есть с чем сравнить, и ориентир, куда держать курс. Мужик, желая развязаться с ненадёжными алкашами, попросил чтобы я подыскал верных ребят, что я и сделал. Сколотилась славная бригада, которую возглавил Эдик Польских, крепкий парень из выпускников нашего физкультурного техникума, только что демобилизовавшийся после срочной службы, крепкий, грамотный по жизни и надёжный парень. Так началась моя сладкая, по-настоящему взрослая жизнь. Работал постоянно и деньги приходили также постоянно. Без особых перегрузок был получен аттестат об окончании десятилетки, но тут же был нанесён страшный удар со стороны мореходной школы. У меня не приняли документы. Причина? Мой отец во время войны пропал без известий. Отягчающим обстоятельством являлось то, что об этом не было извещено повесткой. В осаждённом Севастополе люди умирали и исчезали на передовой без повесток. Конвейер смерти работал бесперебойно. Солдат, офицер, стрелок, писарь, повар, почтальон – люди выбывали ежеминутно, ежечасно, никакая канцелярия не срабатывала. Бюрократии это было по барабану. Как выразился кадровик, мы тебя выучим, посадим на хороший пароход, а там за рубежом, ждёт папа. Сынок иди ко мне, и как ты? Нет, нельзя тебе к нам. Не берём. Так рухнула мечта всей моей жизни. Крах. И как тут было не зайти в чебуречную на набережной не влить в себя стакан водки и не загрустить. Но водкой делу не поможешь. Жить нужно дальше.
А здесь у друга Валеры Р. начались проблемы. Уже точно не вспомнить, что там получилось у него в школе, но завалил он выпуск. Какой-то предмет перевели сдавать на осень. Аттестат не получил. Все поехали сдавать вступительные, а Валера остался и встретились мы с ним через полгода в декабре, в Киеве. Я, к счастью, студент-первокурсник, а он электрик-монтажник Криворожского южно-обогатительного комбината (ЮГОК), уж не помню, каким ветром занесло его туда, но линия его судьбы была искривлена, и всё за что он не брался после этого, шло наперекосяк. Одарённейший человек, глубоко любимый и чтимый кругом друзей, он полтора года назад ушёл из жизни, не сделав и десятой доли того, чего ждал в те годы от себя сам и, ещё более того, верили и ждали мы. Передо мной фотография. Июль 1959 года. Перрон евпаторийского вокзала. Проводы. Молодые, красивые, буйноволосые, самоуверенные.
Прощай, Евпатория. Прощай, провинциальная, морская, романтичная, самонадеянная юность.
Я вернулся сюда через 50 лет. Пытаюсь воскресить в своей и вашей памяти это замечательное минувшее.
Здравствуй, Евпатория, мы всё помним. И это живо в нас, пока живы мы.
5 марта 2010 год.
Несколько воспоминаний в режиме P.S.
О десанте никакой информации в общедоступной прессе в 40-50 годы не было совершенно. Видимо, эта, не самая блестящая военная операция, умышленно замалчивалась. Однако, директор городского музея, именно он водил тогда экскурсии по городу, рассказывал туристам о десанте, и мы, конечно, слушали увлечённо. Живая история родного города. Были так же воспоминания бабы Даши о повальных облавах и обысках, особо беспощадных на улицах, прилегающих к морю. И тогда, и сейчас я хорошо представляю, особенно будучи на набережной, в ненастные зимние дни, как наши ребята, стоя по плечи в студёной январской воде, держат на руках деревянные лежни, чтобы можно было скатить пушки и танкетки на берег. И так же пронзительно представляю их отчаяние, когда продутая промозглым северо-восточным ветром атмосфера, позволяет видеть панораму Крымских гор от Чатырдага до мыса Херсонес, а это фактически Севастополь. Прижатые к берегу остатки разгромленного десанта и обречённые краснофлотцы, с тоской вглядывающиеся в противоположный берег Каламитского залива. Вот он Севастополь, рядом. Помоги. Выручи. Но равнодушно накатывает волны море. Помощь не придёт.
Ещё один момент из жизни Евпатории. Зима 52-го или 53 года. Гибель рыбаков, потрясшая город. Помню огромную траурную процессию, прошедшую через весь город. Погибло, примерно 7-8 человек. Две фелюги, две бригады. Помню ряд пирамидок-памятников на старом кладбище. Сейчас их почему-то не видно. И также помню, на некоторых из них надпись «Тело не найдено», т.е. захоронение символическое. Сын одного из погибших рыбаков Лёня Голиков, учился в нашем классе. Ещё и поэтому горечь трагедии была близка к нам вплотную.
Ещё одна легенда нашего города. Событие, произошедшее на наших глазах, позже пополнилось из других источников и оформилось во что-то цельное.
Лето 55-56 года (на самом деле это было в период со второй половины июля по начало августа 1957 г. – М.Б.). Тишь курортного города вдруг объяла ремонтная лихорадка, хотя сезон был в разгаре. Ремонтировали асфальтовое покрытие дорог, подновляли фасады. На удивление, побелили даже древнюю мечеть, которая была хранилищем пшеницы. Это сейчас пресса освещает все телодвижения городских властей, тогда было по-другому.
В одно утро город был взбудоражен другим фактом. На внешнем рейде мелководного евпаторийского залива весь горизонт заполнили суда Черноморского флота: крейсеры, эсминцы, морские охотники. Эскадра отчаянно дымила, тревожа воображение мирных горожан. Во время учений флота, бывало, заходили небольшие отряды, но в таком количестве – интригующе. В этот же день к полудню, над городом пролетела группа самолётов. Пассажирский «Дуглас», в сопровождении эскорта истребителей. В нашем городе был небольшой аэродром при авиаремонтных мастерских Черноморского флота, так называемый 20-ый САМ, поэтому самолёты над городом не вызывали удивления. Мы купались на пляже старой набережной и увидели своими глазами, как по улице Революции двигался кортеж роскошных автомобилей. В них сидели экзотически одетые люди.
Первое что мелькнуло в голове, снимают кино, столь необыкновенными были пассажиры. В мундирах с эполетами, грудь перепоясывали шёлковые ленты, рядом блестели невиданной красы многоконечные звёзды. На головах красные фески и белоснежные чалмы. Кортеж остановился у главного входа в мечеть. Первым вышел самый импозантный и богато одетый человек. Пожилой, с благородной сединой. Направился к входу в мечеть, за ним из других авто шла свита. Предводитель поклонился и, поднеся руки к лицу, произнёс слова молитвы. Свита согнулась в нижайшем поклоне и молитве. Далее неспешно, мы успевали бежать вровень, кавалькада проследовала до грязелечебницы «Мойнаки». И опять важный, седовласый впереди, сопровождение поодаль за ним. Благороднолицый прислонил лоб к камню фасада лечебницы, свита приняла, приличиствующее моменту выражение лиц. Мужчина выпрямился и обозначил полупоклон в сторону лечебницы. Торжественно и чинно заняли места в авто и следующим пунктом была городская спасательная станция. Кортеж остановился на Кресте – месте пересечения набережной и улицы Фрунзе. От этого места набережная была устлана ковровой дорожкой до причала спасательной станции, включая и сам причал. Как только свита показалась на причале, эскадра произвела салют из всех орудий. Свита погрузилась в адмиральский катер и отбыла на крейсер «Куйбышев», возглавлявший эскадру.
Все подробности мы узнали через два дня из газеты «Правда». В те времена газета доставлялась из Москвы поездом. Мы узнали, что в Крыму с неофициальным визитом побывал король Афганистана Мухаммед Захир-Шах. А причину его визита я узнал в местной прессе только в конце восьмидесятых.
Рассказываю. В начале 20 века члены императорской фамилии летом отдыхали во дворце Ливадия на Южном берегу. Во время отдыха их навещали члены других царствующих фамилий. В частности, встретились император Николай II и тогдашний король Афганистана. В частном мужском разговоре выяснилось, у короля проблема с престолонаследником ввиду бесплодия супруги Мах Парвар Бегум. Николаю II была очень близка и понятна эта тема, царица Александра, сравнительно недавно осчастливила империю наследником Алексеем. Николай II сообщил собеседнику, что у нас замечательные грязевые курорты, успешно излечивающие бесплодие. Рождение наследника было предопределено. Пройдя курс лечения в грязелечебнице «Мойнаки» супруга короля 16 октября 1914 года подарила королю Афганистана Мухаммед Надир-Шаху наследника, Мухаммед Захир-Шаха. И вот, через сорок два года, король решил отдать дань уважения месту, благодаря которому свершился факт его рождения (к сожалению, эта версия не имеет к реальности ни какого отношения – М.Б.).
Благодарный, благородный человек. Кстати, после вывода советских войск из Афганистана, афганцы призвали именно его возглавить миротворческий процесс. Это после изгнания и ликвидации монархии. Значит, пользовался авторитетом у афганского народа.
Умер король в 2007 году. Мировая пресса отметила его как одного из выдающихся деятелей в истории Афганистана.
Иллюстрации к воспоминаниям
| | | |
| У входа во двор по Пролетной (Просмушкиных) 23 | На набережной им. Терешковой | |
| | | |
| Во дворе на Пролетной | Б.Н. Шелуткевич | |
| | ||
| Празднование 23 февраля 1947 г. в детском саду в караимских кенасах. | ||
| | ||
| Средняя мужская школа №10. Сегодня это гимназия им. Сельвинского | ||
| | ||
| На одном из субботников после освобождения Евпатории | ||
| | ||
| Во дворе Пролетной 23 | ||
| | ||
| На евпаторийском пляже | ||
| | | |
| | ||
| У набережной им. Терешковой | ||
| | ||
| У набережной им. Терешковой | ||
| | ||
| Катер санатория МО. На заднем плане теплоход «Украина» | ||
| | | |
| Дом на углу улиц Дувановской и Пушкина, упоминаемый в «Хрониках…». | ||
| | «ЧАТКОЙ» крабовые консервы стали по ошибке. Был подписан крупный контракт на экспорт, советские специалисты сделали дизайн и напечатали этикетки для банок бо́льшего диаметра, чем это требовалось по контракту – кто-то где-то ошибся. И тогда, чтобы ничего не переделывать, маленькие банки оклеили заранее приготовленными этикетками со словом «KAMCHATKA». Первый слог просто не поместился и его отрезали, осталась «CHATKA». Потом это стало торговым знаком. | |
| | ||
| На набережной им. Терешковой | ||
| | ||
| На набережной им. Терешковой | ||
| | ||
| Новое здание евпаторийского вокзала, | ||
| | ||
| Вход в Курзал когда-то был платный | ||
| | ||
| Вид на Евпаторию с самолета. 1950-е года | ||
| | ||
| Вид на Евпаторию с самолета. 1950-е года | ||
51
Полезное для учителя