

СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ
Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно
Скидки до 50 % на комплекты
только до
Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой
Организационный момент
Проверка знаний
Объяснение материала
Закрепление изученного
Итоги урока

Винарская Е.Н. Раннее речевое развитие ребенка и проблемы дефектологии: Периодика раннего развития. Эмоциональные предпосылки освоения языка. - М.: Просвещение, 1987
Для большей доходчивости материала к тексту пособия прилагается словарь терминов, заимствованных из смежных дисциплин. Приводится также список рекомендуемой литературы.
Просмотр содержимого документа
«Винарская Е.Н. Раннее речевое развитие ребенка и проблемы дефектологии: Периодика раннего развития. Эмоциональные предпосылки освоения языка. - М.: Просвещение, 1987»
Винарская Е.Н. Раннее речевое развитие ребенка и проблемы дефектологии: Периодика раннего развития. Эмоциональные предпосылки освоения языка. - М.: Просвещение, 1987
ОглавлениеВведение
Часть первая. Естественнонаучные обоснования дефектологической диагностики
Глава 1. Закономерности раннего детского развития
1. Возрастные закономерности развития ребенка
2. Обучение и развитие
3. Нейропсихопаралингвистический способ периодизации раннего детского возраста
Глава 2. Коммуникативно-познавательные периоды раннего детского возраста
1. Период младенческих криков (0 мес—2—3 мес.)
2. Период гуления (2—3 мес.— 5—6 мес.)
3. Период раннего лепета (5—6 мес— 9—10 мес.)
4. Период лепетных псевдослов (9—10 мес— 12—14 мес.)
5. Период позднего мелодического лепета (12—14 мес— 18—20 мес.)
Часть вторая. Дефектологическая диагностика ранних аномалий коммуникативно-познавательного развития
Глава 3. Диагностика последствий коммуникативно-познавательных аномалий раннего возраста
1. Основные диагностические задачи и их актуальность
2. Возрастные нормативы эмоционального коммуникативно-познавательного развития
3. Место и значение нейропсихопаралингвистических данных в патогенетической квалификации расстройства
Глава 4. Актуальное эмоциональное и потенциальное языковое развитие
1. Последовательность освоения формы и содержания поведенческих актов
2. Субъективно-ценностные предпосылки начального языкового развития
3. Начальные механизмы языковой номинации
4. Начальные механизмы языкового выражения мысли
Часть третья. Коммуникативно-познавательные расстройства раннего возраста в патогенезе типологических форм аномального развития
Глава 5. Синдром госпитализма
Глава 6. Синдром раннего детского аутизма
Глава 7. Олигофрения
Глава 8. Алалия
Глава 9. Глухота и глухонемота
Заключение
Словарь терминов
Литература
ВВЕДЕНИЕДефектология имеет свой особый объект изучения; она должна овладеть им. Процессы детского развития, изучаемые ею, представляют огромное многообразие форм, почти безграничное количество различных типов. Наука должна овладеть этим своеобразием и объяснить его, установить циклы и метаморфозы развития, его диспропорции и перемещающиеся центры, открыть законы многообразия. (Л. С. Выготский)
Становление отечественной дефектологии связано с именем Л. С. Выготского, которому принадлежит важнейший вклад в создание ее научных основ. Его генетический принцип изучения аномального ребенка, а также теория психического развития легли в основу исследований аномального детства. Труды Л. С. Выготского способствовали перестройке практики дефектологической диагностики и специального обучения. Экспериментальные и теоретические исследования, проведенные Л.С.Выготским в области аномального детства, «остаются основополагающими для продуктивной разработки проблем дефектологии».
Адресуя настоящее пособие в первую очередь логопедам, врачам домов ребенка и специальных детских учреждений (медико-педагогических консультаций, вспомогательных школ, детских садов и школ для детей с речевыми и двигательными нарушениями, ранней глухотой, задержками психического развития и т.п.), а также педагогам, проводящим коррекционно-воспитательную работу с аномальными детьми, мы руководствуемся идеями Л. С. Выготского. Сосредоточим наше внимание на закономерностях развития раннего возраста, их патологии и диагностике последствий этой патологии в дальнейшем развитии аномальных детей дошкольного и школьного возрастов.
Понимание закономерностей раннего возраста имеет особое значение для дефектологии, ибо именно в это время начинает нередко формироваться аномальный тип развития. В комплексных исследованиях развития ребенка важное место должно занять изучение раннего детского возраста — периода наиболее интенсивного развития различных физиологических систем. Этот период больше исследован в психолого-педагогическом аспекте, тогда как физиологических исследований ребенка от года до трех лет сравнительно мало. Если иметь в виду положения Л.С.Выготского о том, что дефектология нуждается в таких исследованиях детского развития, которые связаны со вскрытием внутренних закономерностей, внутренней логики, внутренних связей и зависимостей, определяющих его строение и течение, то нужно признать, что и психолого-педагогическое изучение раннего детского возраста еще далеко не закончено.
Вдумаемся в причины трудностей психолого-педагогического изучения раннего детского возраста, к которому мы будем относить первые 1,5—2 года жизни, т.е. имея в виду схему возрастной периодизации, рекомендуемую Институтом возрастной физиологии АПН СССР, период новорожденности (0—10 дней), грудной возраст (10 дней— 1 год) и 2/з раннего детства (1—2 года). Интересующие дефектолога аномалии развития связаны с дисфункциями эволюционно наиболее совершенных дистантных органов чувств и специфически человеческих способностей к предметному восприятию, предметным действиям, речи и мышлению. Другими словами, дефектолога волнуют прежде всего аномалии развития так называемых высших психических функций человека, которые согласно советской психологии (труды Л.С.Выготского, С.Л.Рубинштейна, А.Н.Леонтьева, А.Р.Лурия и др.) являются образованиями общественно-историческими по происхождению, условнорефлекторными по физиологическому механизму и знаково опосредованными по структуре соответствующих процессов. Онтогенетическое формирование у ребенка условнорефлекторных знаковоопосредованных высших психических функций происходит в процессе бессознательного адаптивного поведения, которое резко отличается от сознательного адаптивного поведения взрослого. Именно поэтому коммуникативно-познавательную активность ребенка раннего возраста принципиально нельзя изучать привычными психологическими и лингвистическими методиками.
Коммуникативно-познавательная активность детей раннего возраста, в процессе которой закладываются бессознательные основы их будущих высших психических функций, неотделима от целостных функциональных состояний организма, и потому методы изучения этой активности должны быть, не могут не быть одновременно методами изучения таких функциональных состояний. Синкретизм поведенческих реакций ребенка диктует синтетический характер соответствующих приемов исследования.
То, что Л.С.Выготский говорил об изучении развития ребенка вообще, нам думается, имеет особое значение для изучения ранних этапов этого развития. «На первых порах педологии, только овладевающей искусством научной диагностики развития, было бы не худо позаимствовать от геометрической теоремы немного логической строгости, даже несколько перегнуть палку в сторону геометризации и, во всяком случае, помнить, что в начале истории развития должно быть точно сформулировано, хотя бы мысленно, для исследователя, что именно требуется доказать...».
Для достижения наших практических целей в роли такой геометрической теоремы выступают общие положения диалектики, хорошо известные по работам В.И.Ленина. «В наше время идея развития, эволюция вошла почти всецело в общественное сознание... Развитие, как бы повторяющее пройденные уже ступени, но повторяющее их иначе, на более высокой базе («отрицание отрицания»), развитие, так сказать, по спирали, а не по прямой линии; — развитие скачкообразное, катастрофическое, революционное; — «перерывы постепенности», превращение количества в качество; — внутренние импульсы к развитию, задаваемые противоречием, столкновением различных сил и тенденций, действующих на данное тело или в пределах данного явления или внутри данного общества; — взаимозависимость и теснейшая, неразрывная связь всех сторон каждого явления (причем история открывает все новые и новые стороны), связь, дающая единый закономерный мировой процесс движения — таковы некоторые черты диалектики, как более содержательного (чем обычно! учения о развитии»'.
В решении диагностических и коррекционно-педагогических задач дефектолог должен руководствоваться этими общими положениями диалектики, воплощенными в конкретных закономерностях раннего детского возраста: в особенностях движущих сил развития на протяжении каждого из периодов, специфике сензитивных периодов, свойственных им качественно-количественных переходах и т. п.
Чтобы руководствоваться, однако, этими конкретными закономерностями, их нужно изучить. Дефектолог не может ждать, пока физиологи и психологи вскроют закономерности развития раннего возраста. Он не может ждать не только потому, что аномальные дети уже сегодня требуют от него помощи, но и потому, что закономерности развития составляют предмет изучения самой дефектологии. Мы вынесли в эпиграф известное положение Л.С.Выготского о том, что дефектология обязана овладеть законами детского развития. Она обязана овладеть, в том числе законами развития в раннем детском возрасте, когда психическое поведение осуществляется сугубо бессознательно в синкретичных поведенческих комплексах.
Решение этой насущной задачи дефектологии связано с выбором продуктивного способа функциональной периодизации детского развития в раннем возрасте. Существующие до сих пор способы недостаточно физиологически обоснованы. Они базируются либо только на социальных факторах, либо на частных морфологических признаках (темп роста, смена зубов). Можно согласиться с тем, что в основу периодизации должны быть положены критерии, отражающие специфику целостного функционирования организма, например способ взаимодействия его с внешней средой. Если принять, что эмоциональное общение и эмоциональное познание составляют доминирующий способ взаимодействия ребенка раннего возраста с внешней средой, то, следовательно, в основу объективной периодизации этого возраста могут быть положены характерные особенности эмоционального поведения.
Эмоциональное поведение имеет многообразные внешние проявления: вегетативные, двигательные и психические. Среди этого многообразия внешних проявлений мы обратили внимание на так называемые врожденные звуковые реакции: младенческие крики, смех и плач, гуление и лепет. Все эти звуковые реакции, будучи выражением созревания анатомического субстрата, мозга, служат адаптации организма к внешней среде и специфическому взаимодействию с нею, вследствие чего они отражают обучающие воздействия этой среды. Последовательно под таким углом зрения врожденные голосовые реакции еще не рассматривались, несмотря на то, что объектом изучения и описания они становились неоднократно.
Мы будем рассматривать сменяющие друг друга врожденные звуковые реакции детей как один из объективных показателей усложняющейся структуры эмоциональной коммуникативно-познавательной активности ребенка раннего возраста — активности, обеспечивающей проведение социальных знаковых воздействий внешней среды на протекающие в его организме процессы биологического созревания. Во избежание громоздкости текста мы не будем излагать всю сумму известных фактических сведений о врожденных звуковых реакциях, а обратим внимание лишь на принципиальные тенденции в их развитии.
Отношение к врожденным голосовым реакциям ребенка и к деталям их объективной структуры как к симптомам развития резко расширяет диагностические возможности дефектолога и позволяет «...с помощью мыслительной обработки этих внешних данных проникнуть во внутреннюю сущность процессов развития». Понимание внутренней сущности процессов развития открывает новые перспективы для разработки рациональных методик воспитания и обучения аномальных детей.
Звуковые реакции ребенка раннего возраста выражают его не только коммуникативную, но и познавательную активность. Нерасторжимая связь коммуникативной и познавательной сторон развития вытекает из общих положений диалектики. Все объективные реальности, находясь во взаимодействии, так или иначе, отражают свойства друг друга, что конкретизируется по-разному на уровне физических, биологических и социальных категорий действительности. Одной из таких социальных конкретизации и представляется коммуникативно-познавательное поведение ребенка. Развертываясь на базе врожденного ориентировочно-исследовательского инстинкта, коммуникативно-познавательная активность ребенка раннего возраста имеет бессознательный характер, поэтому структурные единицы этой активности могут быть представлены как синкретичные операционные комплексы, адекватные различным адаптивным задачам эмоционального взаимодействия ребенка с внешней средой.
Врожденные биологические голосовые реакции являются важнейшими структурными компонентами синкретичных операционных комплексов ребенка раннего возраста. В процессе общения со взрослым они изменяются и приобретают национально-специфические знаковые черты. Л.С.Выготский в своем труде «Мышление и речь» констатировал, что форма (иначе означающее) языковых знаков генетически возникает раньше их содержания (означаемого). Это положение дает основание говорить о том, что корни языковых знаков можно обнаружить в процессе их развития. Если эмоциональное общение предшествует в развитии ребенка языковому общению, то не значит ли это, что фонетические формы языковых знаков уходят своими корнями к структурам эмоционально-выразительных коммуникативно-познавательных знаков раннего этапа развития? Ведь принципиально в этом же направлении шла мысль и самого Л.С.Выготского, когда он, говоря об эмоциональных звуковых реакциях человекообразных обезьян, утверждал, что «... эта же форма выразительных голосовых реакций, несомненно, лежит в основе возникновения и развития человеческой речи».
Эта гипотеза заслуживает самого пристального внимания дефектолога. Предполагая, что врожденные голосовые реакции трансформируются под влиянием образцов материнской речи в эмоционально-выразительные знаки — предпосылки языковых фонетических форм, мы ведем их описание под углом зрения фактов и концепций современной фонетики. При этом мы, естественно, отказываемся видеть в звуках врожденных голосовых реакций слоги, интонационные конструкции и тем более фонемы. Находясь в эмоциональном взаимодействии со своей матерью и другими взрослыми, ребенок бессознательно дает всем познаваемым объектам и явлениям субъективные оценки. При этом взрослые, мать в первую очередь, оказываются такими же бессознательными проводниками системы общественных ценностей: эстетических, нравственных, бытовых, производственных и пр. Формирующиеся субъективные ценности личности ребенок начинает выражать уже в доязыковом периоде развития посредством своих эмоционально-выразительных реакций: криков, гуления и лепета. Полученные сноровки служат в зрелой речи выражению того, как говорящий относится к себе, собеседнику, тому, о чем идет речь; что для него безразлично, а что он считает важным и самым важным в составе своего высказывания.
Эмоциональное или ценностное отражение действительности составляет важнейшую сторону познавательных процессов, а субъективно-ценностная организация речи — важнейшую сторону ее смыслового содержания. Дефектологу необходимо знать набор соответствующих функциональных единиц, их семантику и принципы организации в потоке речи. Такое знание нужно не только для того, чтобы понимать закономерности преобразования эмоционально-выразительных средств речи в фонетические формы родного языка у детей раннего возраста. Оно нужно также для совершенствования диагностики аномального развития и для разработки методик педагогической компенсации и коррекции различных аномалий и их последствий.
Пособие состоит из трех частей. В первой части «Естественно научное обоснование диагностических принципов» излагаются закономерности коммуникативно-познавательного развития детей раннего возраста: уже известные и вновь вскрываемые посредством нейропсихопаралингвистического метода исследования звуковых реакций детей. Описываются последовательно наступающие пять периодов коммуникативно-познавательного развития: младенческих криков (0 мес —2—3 мес), гуления (2-3 мес — 5—6 мес.) раннего лепета (5—6 мес —9—10 мес), лепетных псевдослов (9—10 мес — 12—14 мес.) и позднего мелодического лепета (12—14 мес.— 18—20 мес). В пределах каждого периода рассматриваются его потребностно-мотивационные и эперационно-технические новообразования. Показываются взаимодействия факторов биологического созревания ребенка, прежде всего его мозга, и обучающих воздействий на него социальных факторов среды. Подчеркивается преемственность потребностно-мотивационной и операционно-технической фаз в развитии каждого периода и отдельных периодов в развитии целостной деятельности «непосредственно-эмоционального общения».
Во второй части пособия описанные закономерности положены в основу принципов диагностики последствий коммуникативно-познавательных аномалий раннего возраста. В главе 3 разбираются поднятые еще Л.С.Выготским и актуальные до наших дней вопросы дефектологической диагностики. Вниманию читателя предлагаются возрастные нормативы психического коммуникативно-познавательного развития ребенка первого-второго годов жизни. Обсуждаемые положения иллюстрируются конкретными примерами. Впервые в литературе (гл. 4) рассматриваются под углом зрения концепции Л.С.Выготского о зоне ближайшего развития важнейшие вопросы о первых шагах освоения ребенком родного (в данном случае русского) языка, для чего привлекаются результаты экспериментально-фонетических исследований последних лет.
Третья часть пособия посвящается обсуждению значения коммуникативно-познавательных расстройств раннего возраста в структуре типологических синдромов аномального развития. Среди этих синдромов, с одной стороны, разбираются сравнительно малоизвестные практике синдромы госпитализма и раннего детского аутизма, в патогенезе которых патология эмоциональных коммуникативно-познавательных средств имеет особое значение, а с другой стороны, внимание читателя обращается на такие привычные формы аномального развития, как олигофрения, алалия и рано возникшая глухота. Описанные в первой части закономерности раннего развития позволяют уточнить некоторые аспекты механизма симптомообразования в структуре этих привычных форм аномального развития.
Цель данного методического пособия — привлечь внимание дефектологов к закономерностям коммуникативно-познавательного развития детей раннего возраста и к последствиям их расстройств в патогенезе различных аномалий развития. Это будет способствовать объективной диагностике этих аномалий у детей разных возрастов.
Для большей доходчивости материала к тексту пособия прилагается словарь терминов, заимствованных из смежных дисциплин. Приводится также список рекомендуемой литературы.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ОБОСНОВАНИЯ ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ГЛАВА 1. ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАННЕГО ДЕТСКОГО РАЗВИТИЯТермин «развитие» не делает лишних различий между вегетативным, чувствительно-двигательным и психическим развитием, он ведет к научному и практическому согласованию всех данных критериев развития. Идеально полный диагноз развития охватывает все явления психического и социального порядка в связи с анатомическими и физиологическими симптомами развития. (Л.С.Выготский)
Социальная среда и ее структура есть конечный и решающий фактор всякой воспитательной системы. (Л.С.Выготский)
1. Возрастные закономерности развития ребенкаОсновоположники отечественной детской психологии П.П.Блонский и Л.С.Выготский заложили в 30-е годы нашего века фундамент материалистического изучения диалектики психического развития ребенка. В этом процессе периоды постепенно нарастающих эволюционных изменений перемежаются с острыми переломами (или качественными скачками, кризисами).
Л.С.Выготский сравнивает возрастные ступени психического развития ребенка с историческими ступенями, или эпохами, в развитии человечества, с эволюционными эпохами в развитии органической жизни или с геологическими эпохами в истории развития земли. В намеченной Л.С.Выготским возрастной периодизации кризисы, которые нередко квалифицировались в рамках «болезней» развития, получили толкование в связи с внутренней логикой самого процесса развития, а именно в связи с появлением у ребенка психических новообразований, составляющих сущность того или иного возраста. Под возрастными новообразованиями Л.С.Выготский понимал «тот новый тип строения личности и ее деятельности, те психические и социальные изменения, которые впервые возникают на данной возрастной ступени и которые определяют сознание ребенка, его отношение к среде, его внутреннюю и внешнюю жизнь, весь ход его развития в данный период».
Согласно материалистической диалектике любой процесс развития идет путем противоречий с переоценкой всех ценностей; исходный пункт борьбы отрицается, но затем наступает отрицание отрицания и возвращение к исходному пункту борьбы, но уже обогащенному всеми результатами развития. На принципиально те же диалектические закономерности обращал внимание и Л.С.Выготский когда он писал, что возникновение нового в развитии непременно означает отмирание старого. Процессы отмирания старого и сконцентрированы по преимуществу в критических возрастах. Но значение критических возрастов этим не исчерпывается. Разрушение старого совершается в эти периоды в меру того, в меру чего это вызывается необходимостью положительного построения личности. Главный смысл всякого критического возраста составляют позитивные изменения личности, тогда как разрушение старого является обратной, теневой стороной этих изменений.
Реализация в практике воспитания и обучения детей принципов периодизации психического развития ребенка, предложенных П.П.Блонским и Л.С.Выготским, стала возможна после того, как Д.Б.Эльконин вскрыл движущие силы развития. Он исходил из представлений советских психологов о роли ведущей деятельности в психическом развитии ребенка. Это позволило ему преодолеть натуралистический подход к психическому развитию, при котором ребенок рассматривается как изолированный индивид, находящийся в своеобразной общественной «среде обитания», и психическое развитие которого сводится к адаптации, с одной стороны, к «миру вещей» этой среды, а с другой стороны, к «миру людей» той же среды. Такой подход породил дуализм и параллелизм в понимании двух основных линий психического развития — мотивационно-потребностной и интеллектуальной. Картина развития интеллекта в отрыве от развития мотивационно-потребностной сферы наиболее ярко представлена в работах Ж. Пиаже, который выводит каждую следующую стадию интеллектуального развития непосредственно из предыдущей. Точно так же стадии мотивационно-потребностного развития в концепции Э. Фрейда и неофрейдистов выстраиваются в линию, независимую от интеллектуального развития и с необъяснимыми переходами от стадии к стадии.
Исходя из противоречивого единства мотивационно-потребностной и интеллектуально-познавательной сторон в развитии личности, Д.Б.Эльконин констатирует в детском развитии, с одной стороны, периоды, в которые происходит преимущественное развитие мотивационно-потребностной сферы; с другой стороны, периоды, в которые происходит преимущественное формирование интеллектуально-познавательных сил детей, их операционно-технических возможностей. Каждая возрастная эпоха (см. рис. 1) открывается периодом, в котором идет преимущественное усвоение задач, мотивов и норм человеческой деятельности. Во втором периоде каждой эпохи на основе сформировавшихся мотивационно-потребностных новообразований происходит усвоение способов действий с предметами и формирование сравнительно более сложных операционно-технических возможностей.
Ведущие виды деятельности, которые формируют в младенческом периоде раннего детства, дошкольном периоде детства и младшем периоде подросткового возраста мотивационно-потребностные новообразования,— это непосредственно-эмоциональное общение, ролевая игра и интимно-личное общение соответственно. Ведущие виды деятельности, формирующие усложняющиеся операционно-технические возможности ребенка, иные. Это предметно-манипулятивная во втором периоде раннего детства и учебно-профессиональная — в старшем подростковом возрасте (рис. 1). Гипотеза Д.Б.Эльконина привлекает к себе тем, что она представляет процесс психического развития не как линейный, а идущий по восходящей спирали, в котором мотивационно-потребностный и интеллектуально-познавательный аспекты деятельности являются взаимообусловленными. Недаром эта гипотеза приобрела многих сторонников и стала в современной: отечественной психологии ведущей.
Обратим внимание на то, что интересующий нас ранний возраст представлен в схеме Д.Б.Эльконина достаточно суммарно (рис. 1), хотя практика микропедиатрии и микроневропатологии свидетельствует о том, что первые два года жизни ребенка тоже подразделяются на следующие друг за другом периоды.
Н.М.Аксарина, например, делит первый год жизни на четыре качественно резко различающихся периода, в каждом из них задачи, содержание и методы воспитания малыша значительно отличаются. В периоде от момента рождения до 2 1/2—3 мес. возникают зрительное и слуховое сосредоточение, а также формируется эмоционально положительное поведение в виде улыбок и комплекса оживления. В возрасте от 21/2—3 до 5—б мес. развиваются зрительные и слуховые дифференцировки и умение отыскивать источник звука, формируется умение брать игрушку из рук взрослого, возникают гуление и лепет. В возрасте от 5—6 до 9—10 мес. развиваются умение ползать, понимание речи взрослого и подражание в произношении звуков и слогов. Наиболее значимыми в возрасте от 9—10 мес. до года становятся дальнейшее развитие понимания речи взрослого и подражания ему, формирование первичного обобщения и образование в активной речи ребенка первых простых слов, а также развитие первичных действий с предметами и самостоятельной ходьбы. На протяжении второго года выделяются два периода: от года до 1 года 5—6мес, в течение которого происходит главным образом развитие понимания речи, и от года 5—6 мес. до 2 лет, когда быстро увеличивается словарь и возрастает активность в использовании речи.
Близкую к этой, но более формализованную периодизацию первого года жизни находим также у Л.Т.Журбы и Е.М.Мастюковой. В каждый выделяемый период (от 0 до 1 мес; от 1 до 3 мес; от 3 до 6 мес; от 6 до 9 мес. и от 9 до 12 мес.) формируются специфические узловые функции, которые могут служить показателями психомоторного возрастного развития. Авторы разработали балльную оценку этих узловых функций, производимую по следующим 10 показателям: 1 — соотношение сна и бодрствования (коммуникабельность), 2 — голосовые реакции, 3 — безусловные рефлексы, 4 — мышечный тонус, 5 — асимметричный шейный тонический рефлекс, 6 — цепной симметричный рефлекс, 7 – сенсорные реакции, 8 — стигмы, 9 — черепные нервы, 10 — патологические движения.
Таким образом, развитие в раннем детском возрасте в пределах одной и той же деятельности непосредственно-эмоционального общения не является монотонным процессом только количественных изменений. На протяжении первого-второго года жизни ребенок начинает воспринимать людей и предметы, передвигаться в пространстве и манипулировать предметами, понимать речь окружающих и говорить. Чтобы все это стало возможным, эмоциональная мотивация ребенка должна дифференцироваться на различные предметные цели. Поэтому необходимо представить познавательную и мотивационную сторону развития ребенка ран: него возраста в их взаимной обусловленности, как это сделал Д.Б.Эльконин применительно к детскому развитию в целом.
Выполнить эту задачу помогают психологические работы. Существует точка зрения, согласно которой поведение новорожденного определяется чисто биологическими потребностями. Позже поведение ребенка начинает определяться восприятием тех предметов, в которых воплотились его биологические потребности, и ребенок становится «рабом актуально действующей на него ситуации». Лишь на втором году жизни ребенок начинает действовать под влиянием первых новообразований формирующейся личности — мотивирующих представлений. Это дает ему возможность «оторваться» от непосредственной ситуации'.
Этой точке зрения противостоит другая: «Даже в первом полугодии жизни у младенца можно наблюдать сложно построенную деятельность, включающую все важнейшие структурные элементы — потребности, мотивы, действия, а не только простые операции, возникающие почти автоматически под влиянием запускающего их внешнего раздражителя».
Вряд ли правильна и эта крайняя точка зрения. Деятельность ребенка приобретает все ее структурные элементы, характерные для деятельности зрелого человека, не раньше того момента, когда он в процессе освоения родного языка получает способность понятийного мышления и сознательного целевого поведения во внешней среде. Говорить о предметных целях и предметных действиях ребенка, находящегося в доязыковом периоде развития, рано, так как его предметные реакции представляют собой в структурном отношении бессознательные операционные комплексы. Однако рабом актуальной ситуации ребенок перестает быть уже в первые месяцы жизни. Накопление мотивирующих ощущений и образов позволяет ребенку действовать под влиянием не просто внешних раздражений, а уже сформированных на их основе и проверенных в бессознательном индивидуальном опыте субъективных смыслов. Такие приобретенные в конкретной социальной; среде субъективные смыслы уже никак нельзя отнести к числу врожденных биологических.
Проследим порядок формирования у ребенка раннего возраста мотивирующих ощущений и образов.
Преимущественно две биологические потребности определяют поведение новорожденного: пищевая и оборонительная. Обе эти потребности актуализируют генетически предопределенные комплексы поведенческих реакций — пищевых и оборонительных. Врожденные комплексы пищевого и оборонительного поведения построены в значительной мере из операций противоположного, антагонистического типа.
Удовлетворение пищевой потребности связано с высокой активностью парасимпатической нервной системы. Пульс и дыхание при этом замедленны, тонус скелетных мышц низок, конечности ребенка неподвижны и находятся в сгибательной позиции, чувствительность дистантных органов чувств снижена. Губы вытянуты вперед и округлены так, чтобы охватить сосок, язык прижат к твердому нёбу и производит засасывающие движения в направлении от ротового отверстия к глотке. Во время оборонительного поведения, чем бы оно ни было вызвано (боль, голод, охлаждение и пр.), преобладает активность симпатической нервной системы. Пульс и дыхание ребенка ускоренны, тонус скелетных мышц высок, конечности совершают беспорядочные разгибательно-сгибательные движения, чувствительность дистантных органов чувств повышена. Рот широко раскрыт, губы прижаты к деснам, а язык прижат ко дну полости рта и выдвинут вперед, что при необходимости способствует изверганию наружу содержимого желудка. Во время энергичных дыхательных движений и прохождения воздуха через напряженные мышцы гортани возникает акустический эффект в виде младенческих криков.
Поведение любящей матери, которая кормит и устраняет дискомфортные состояния младенца, становится фактором, формирующим на базе биологических потребностей социальные коммуникативно-познавательные мотивации. Ощущения ребенка первых месяцев, связанные с комфортными состояниями, когда в его центральную нервную систему поступают раздражения умеренной интенсивности, становятся мотивами коммуникативно-познавательной активности. При этом эффекты парасимпатической и особенно симпатической иннервации, характерные для пищевого и оборонительного поведения, начинают все больше служить коммуникативно-познавательным задачам и целям.
В частности, благоприятный опыт эмоционального взаимодействия со средой ведет к повышению бывших очень низкими порогов оборонительного поведения; постепенно эти пороги становятся выше порогов ориентировочно-исследовательского поведения; затем оборонительные реакции в определенных ситуациях вообще вытесняются ориентировочно-исследовательскими.. Важно, что ослабление внимания со стороны взрослых и любовной заботы к ребенку неминуемо усиливает оборонительную установку его поведения, при этом ориентировочно-исследовательские пороги повышаются.
В часы спокойного бодрствования младенец 2-3 мес. начинает обнаруживать в своем поведении комплекс оживления. В этом состоянии его парасимпатические и симпатические реакции относительно уравновешены, что создает оптимальные условия для коммуникативно-познавательной активности. Формирующиеся в это время ощущения и образы становятся к 5-6 мес. насущной потребностью ребенка, и поэтому именно они все больше мотивируют его поведение.
Какие же это ощущения и образы. Результаты исследования младенческого «комплекса оживления»0 у детей первого полугодия жизни показали, что лицо взрослого было тем первым объектом, в связи с которым дети научались фиксировать и рассматривать детали, прослеживать взором движения, соотносить со зрительным образом звучание голоса человека и т. п. Интенсивность «комплекса оживления» в моменты отражения ребенком лица человека и его поведенческих реакций достигала в опытах С.Ю.Мещеряковой максимума в период от 2 до 5,5 мес. жизни.
Так как все потребности младенца удовлетворяются взрослым, то этот взрослый сам становится объектом внимательного изучения. Недаром ребенок начинает дифференцировать на протяжении 6-8 мес. близких ему взрослых от «чужих». Следовательно, можно заключить, что в третью четверть первого года жизни ведущее значение приобретают мотивирующие ощущения и образы, связанные с восприятием человека, находящегося в эмоциональном взаимодействии с ребенком.
В процессе эмоционального взаимодействия ребенка с близким для него взрослым формируется и его интерес к объектам соответствующей предметной ситуации и к предметам, которыми взрослый манипулирует. Так, в одном из экспериментов С.Ю.Мещеряковой с детьми первого полугодия жизни им предлагалась игрушка неваляшка. При появлении в предметной ситуации близкого взрослого количество инициативных действий ребенка, направленных на игрушку, возросло на 480% (этот прирост составил всего 10% в присутствии просто знакомого человека). Взаимодействуя со взрослым, дети делали попытки совместного восприятия человека и предмета они поворачивались то к нему, то к игрушке, указывали взрослому на игрушку взглядом и издавали звуки удовольствия, старались увидеть на лице взрослого признаки его впечатления от игрушки.
В 9—12 мес. именно предмет становится источником наиболее интенсивных и устойчивых ориентировочно-исследовательских реакций ребенка. Если в 2—8 мес. эмоции ребенка в основном определялись успешностью достижения эмоционального контакта со взрослым, то в 9—12 мес. удовольствие или неудовольствие возникают при совместных со взрослым манипуляциях и играх с предметами. Следовательно, в конце первого года жизни вновь происходит смена наиболее значимых для коммуникативно-познавательного поведения мотивирующих ощущений и образов, что естественно, влечет за собой дальнейшее развитие его операционно-технической стороны.
На втором году жизни, т.е. в 12—18 мес, ведущим продолжает оставаться эмоциональное взаимодействие ребенка с предметами коммуникативно-познавательных ситуаций. В этом взаимодействии все большее значение приобретают, по данным Е.И.Исениной, его речевые компоненты, выражающие коммуникативные отношения. Дети начинают выражать эти отношения в своих высказываниях, что снова свидетельствует об изменении ведущих мотивирующих ощущений и образов ребенка.
Таким образом, преимущественные сенсорные ощущения и образы, мотивирующие деятельность непосредственно эмоционального общения ребенка со взрослым, не остаются неизменными на протяжении раннего возраста, причем сроки их преобразований более или менее совпадают с границами периодов, намеченных в работах микропедиатров и микроневропатологов. Так, в 2—3 мес. жизни на базе врожденных пищевой и оборонительной потребностей возникает новая коммуникативно-познавательная мотивация, направленная в течение первого полугодия на отражение и бессознательную оценку эмоциональных состояний своей матери, «заражение» ими и выражение их уже как своих собственных эмоциональных состояний; с 5—6 мес. преимущественной мотивацией эмоционального взаимодействия со средой становятся образы коммуникативных партнеров с под разделением их на эмоционально положительные образы «своих» и эмоционально отрицательные образы «чужих». С 9 мес. преимущественные мотивирующие образы связаны с эмоциональным – познанием предметов коммуникативной ситуации, а с 12 мес.— отношений между ними.
Возникновение у ребенка раннего возраста в процессе эмоционального общения со взрослым разных классов мотивирующих ощущений и образов — результата адаптивно усложняющейся активности по эмоциональному познанию окружающей действительности и выступает в роли движущей силы развития, в частности, одного из факторов его периодизации. Бессознательные автоматические реакции на внешние раздражители преобразуются в целевые сознательные действия по мере того, как формируется предметное сознание; структурные единицы предметного сознания накапливаются в раннем детском возрасте операционно в форме разных классов мотивирующих ощущений и образов в процессе эмоционального взаимодействия со средой; лишь в дальнейшем они подвергаются словесным обобщениям и превращаются в связи с этим в предметные представления, мотивирующие целевые предметные действия.
Каждый из вновь приобретаемых классов мотивирующих ощущений и образов открывает для ребенка потенциально большие возможности адаптации к окружающей его социальной среде, чего он и достигает подражательным путем, совершенствуя свои операционно-технические функциональные средства.
2. Обучение и развитиеЗависимость процессов развития от обучения в раннем возрасте не меньше, чем в дошкольном и школьном, но характер обучающих воздействий здесь иной. Чем младше ребенок, тем организованные формы обучения, проводимые воспитателем или педагогом, все больше отступают на задний план, уступая место стихийно и бессознательно осуществляемым обучающим воздействиям матери и взрослых вообще.
Многочисленные наблюдения и специально поставленные эксперименты показали, что системное биологическое единство матери и плода сменяется с момента рождения психофизиологическим единством матери и грудного младенца. Это психофизиологическое единство в основе своей генетически обусловлено и свойственно человеку наряду с другими биологическими видами. Имея в виду детеныша, принято говорить о реакциях типа импринтинга. Очень показательно, что импринтируется как у высших животных, так и у человека ни что другое, как те элементарные эмоционально-выразительные реакции (быстрые и пристальные взгляды, движения приближения, улыбка, смех, характерные звуки голоса), которые являются необходимой предпосылкой всякого социального взаимодействия. Поэтому тот, кто контактирует с малышом, становится проводником социальных воздействий.
Врожденные поведенческие реакции ребенка импринтингового характера подкрепляются встречными, тоже врожденными и, следовательно, биологически обусловленными поведенческими реакциями со стороны матери. Эти любопытные реакции, ставшие предметом пристального изучения в последнее время, одновременно и универсальны, и национально специфичны. Так, было показано, что речь матерей, имеющих детей младшего возраста, обнаруживает биологически обусловленные, не зависящие ни от национальности, ни от культурной принадлежности женщины изменения, приближающие физические характеристики ее речи к характеристикам детской речи. К чертам этого универсального биологически обусловленного сдвига относятся замедление темпа речи, повышение средней частоты основного тона голоса и расширение диапазона голоса за счет высоких частот, а также усиление акцентуации речи при нередком произнесении отдельных частей высказывания шепотом. Однако этот сдвиг, имеющий биологическое происхождение, выступает у каждой женщины в относительной форме, соответствующей ее национальной и культурной принадлежности. Относительны степень замедления темпа речи, степень повышения средней частоты основного тона голоса, степень расширения диапазона голоса и степень усиления акцентуации речи. Как показали те же исследования, изменения физических особенностей материнской речи тем выраженнее, чем младше ребенок и чем субъективно более ценным представляется матери содержание ее речи, а ведь именно в субъективных ценностях индивида отражаются культурные и национальные ценности общества.
Приближение физических характеристик материнской речи к тому, что отличает врожденные звуковые реакции младенца (ребенка раннего возраста вообще), имеет первостепенное значение для возможности установления психофизиологического взаимодействия матери с ее ребенком, для легкости их взаимного эмоционального «заражения».
Советский лингвист С.И.Бернштейн, имея в виду практику обучения иностранному языку, говорил, что, безусловно, правильно мы слышим только те звуки речи, которые умеем произносить сами. Этот факт имеет значительно более широкое значение, ведь «круг доступного подражания совпадает с кругом собственных возможностей развития животного».
Ребенок «заражается» эмоцией матери, выражениям которой он умеет подражать. Чтобы возник эффект подражания со стороны ребенка, мать должна воспроизвести вначале внешние проявления эмоции самого ребенка, и тогда эти проявления; становятся в его подражательных усилиях более отчетливыми: улыбка делается определеннее, а звуки врожденного гукания, а затем и гуления более активными. Показательны в этом отношении эксперименты С.Ю.Мещеряковой, которая наблюдала у детей первых недель жизни предпочтение к лицам тех людей, которые ухаживали за ними. Именно эти лица и их изображения вызывали у детей специфические реакции, в том числе и первую улыбку. Такие компоненты подражательного эффекта, как порозовение кожи, усиление блеска глаз, расширение зрачков, свидетельствуют о бессознательном характере подражательных процессов, осуществляемых по врожденным механизмам эмоционального «заражения».
Чем больше физические характеристики эмоциональных высказываний матери уподобляются голосовым возможностям младенца, тем легче ему подражать ей и, следовательно, устанавливать с нею характерный для раннего возраста эмоциональный социальный контакт. Чем полнее этот контакт, тем скорее врожденные звуковые реакции ребенка начинают приобретать национально специфические черты. Таким образом, бессознательно осуществляемые обучающие воздействия матери на ребенка раннего возраста приводят к социальной регламентации и национально-специфическому нормированию его врожденных эмоционально-выразительных поведенческих комплексов, в том числе и его врожденных звуковых реакций.
Сказанное позволяет сделать два вывода. Во-первых, уже на самых ранних бессознательных этапах развития коммуникативно-познавательной активности процесс обучения социально обусловлен, он стимулируется воздействиями из внешней среды. Эти обучающие воздействия придают универсальным биологически обусловленным поведенческим реакциям ребенка относительные знаковые черты, что можно квалифицировать в качестве одного из первоначальных результатов его познавательного опыта. Во-вторых, обучающие воздействия материнского поведения на ребенка раннего возраста являются следствием состояния ее эмоциональной сферы, ее биологически обусловленного материнского инстинкта, реализующегося у каждой женщины в национально-специфической форме. Наш опыт подтверждает то, что желанные и любимые дети эмоциональных матерей развиваются в коммуникативно-познавательном отношении быстрее, чем дети, не менее желанные и любимые, но имеющие эмоционально сдержанных матерей. (Само собой разумеется, что во всем должна быть мера, и эмоционального перевозбуждения ребенка, когда он отказывается лежать один и постоянно требует, чтобы мать была с ним, следует, по-видимому, избегать.) Теперь посмотрим, как бессознательно осуществляемые матерью и не менее бессознательно воспринимаемые ребенком обучающие воздействия сказываются на процессах развития малыша. С конкретными примерами отражения ребенком лишь тех национально-специфических особенностей материнской речи, которые он в принципе уже сам умеет воспроизводить, мы познакомимся в следующей главе. Здесь обсудим этот вопрос в обобщенном виде.
Никакое обучение невозможно, если у ребенка отсутствует соответствующая потребность. Потребность в эмоциональной коммуникации и эмоциональном познании окружающего не является врожденной — она воспитывается в раннем детском возрасте. Генетические программы поведения достаточны лишь для того, чтобы ребенок, как и всякий другой организм, реагируя на комплексы внешних раздражений, мог варьировать свои реакции в зависимости от интенсивности этих раздражений, т.е. в зависимости от их биологической значимости.

Значение суммарной интенсивности комплексов внешних раздражений для поведенческих реакций, как животных, так и человека было показано в многочисленных наблюдениях. Так, биологи обращают внимание на то, что животные стремятся приблизиться к источникам слабого, регулярного и ограниченного по диапазону раздражения и отстраниться от источников раздражения интенсивного, нерегулярного и изменяющегося в широком диапазоне. Раздражитель, интенсивность которого возрастает, начиная от нулевого уровня, сначала может побудить животное приблизиться вплотную, однако, после того как интенсивность достигнет определенной величины, животное, вероятнее всего, начнет отступать. Так, многие амфибии при виде мелких предметов выбрасывают язык, при виде более крупных делают выпад вперед всем телом, однако еще более крупные предметы вызывают их отступление. Хотя недавно вылупившиеся цыплята предпочитают реагировать на крики своих сородичей, их привлекают также самые разнообразные, ритмично повторяющиеся звуки, а кроме того, и движущиеся объекты разной сложности и конфигурации; отступление и крики тревоги вызываются у цыплят широким диапазоном интенсивных раздражителей разных модальностей, в том числе и температурных. По-видимому, эффективность, с которой темный движущийся над головой предмет вызывает реакцию бегства у выводковых птиц, объясняется не какой-то характерной его формой, а резким изменением суммарной освещенности сетчатки.
Значение той же суммарной интенсивности раздражителей было неоднократно обнаружено в разнообразнейших физиологических и психологических экспериментах. Сошлемся на два примера. На рис. 2 воспроизведены данные из работы С.И.Вавилова: испытуемого заставляли читать развернутую книгу на расстоянии от глаза в 25 см. Освещенность книги в люксах менялась. Видно, что сначала при возрастании освещенности продуктивность чтения быстро растет, но при 100 люксах возрастание прекращается.
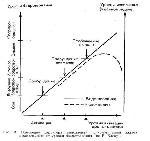
На рис. 3 показано принципиально то же самое на материале психологических экспериментов. Каждый уровень бодрствования на этой схеме связан с определенным характером исполнения психологической задачи, что предполагает по мере роста психического напряжения, и тем самым мотивации, все более эффективное использование энергии. Однако в условиях эмоционального сверхвозбуждения дифференцированные психические реакции становятся невозможными, а их исполнение непродуктивным.
Здесь можно вспомнить также, что хорошие учащиеся нередко теряются на экзамене, войска лучше маневрируют на учениях, чем в бою, а в психологических экспериментах испытуемые, как правило, обнаруживают наиболее высокие результаты при умеренных степенях подкрепления. Закон, согласно которому именно «средние значения» мотивации наилучшим образом способствуют выполнению данного психологического действия, получил название закона мотивационного оптимума.
На переводы количества в качество в эмоциональной сфере человека обращал внимание А.В.Луначарский. Независимо от того, чем вызвано наслаждение: вкусной ухой или музыкой Бетховена, оно с течением времени теряет свою остроту и даже превращается в свою противоположность — боль и мучение.
Значение суммарной интенсивности комплексов внешних раздражений ярко обнаруживается и в поведенческих реакциях младенца. Так, он тянется к теплым рукам матери и повизгивает от удовольствия в теплой воде, но он же отстраняется от холодных рук и кричит, если вода в ванне охлаждается или, наоборот, становится горячее. Младенец стремится к умеренной наполненности желудка, но отталкивает материнскую грудь и срыгивает, когда желудок полон. Говоря в целом, умеренные или «средние значения» комплексов внешних раздражений активируют у младенца врожденные эмоционально положительные программы поведения типа реакций приближения, захватывания и обладания, тогда как превышающие эти «средние значения» или интенсивные комплексы внешних раздражений активируют противоположные эмоционально отрицательные программы врожденного поведения типа реакций удаления, избегания и отвергания. При таком подходе к анализу поведенческих реакций младенца приближение физических характеристик материнской речи к тому, что характеризует его врожденные голосовые реакции, становится все более понятным.
Выше отмечалось, что одним из условий всякой коммуникативно-познавательной активности является снижение порогов ориентировочно-исследовательского рефлекса. Это условие может быть выполнено в том случае, когда актуализатором рефлекса становится не интенсивность комплексов внешних раздражений, а качество их субъективной новизны. Свойство новизны предполагает относительное знакомство субъекта с соответствующими комплексами раздражений, ведь любой предмет может быть новым лишь по отношению к чему-либо уже известному из прошлого опыта (генетически наследуемому или индивидуально приобретаемому — безразлично).
Материнские обращения к ребенку весьма близкие, но не тождественные тому, что свойственно врожденным голосовым реакциям самого ребенка, оптимальны для вызывания у него субъективного ощущения новизны и, следовательно, для развертывания по отношению к ним ориентировочно-исследовательской, а затем и коммуникативно-познавательной активности. Вслушиваясь в звучание материнской речи и сравнивая его со звучанием своего собственного голоса, ребенок добивается в повторных подражательных усилиях максимального уподобления последнего первым. Другими словами, он добивается социальной национально-специфической структурации своих биологических, универсальных для всех человеческих детенышей звуковых возможностей.
Такой обучающий бессознательно протекающий процесс социальной регламентации и нормирования врожденных звуковых реакций младенца имеет периодическое течение. Качество субъективной новизны получают в последующих возрастных периодах разные физические характеристики материнской речи (взрослого вообще), что детерминируется мотивационными образованиями ребенка. Мотивационные же новообразования формируются в свою очередь под влиянием тоже бессознательных обучающих воздействий матери (взрослого), стаей перед ребенком все новые адаптивные задачи коммуникативно-познавательной активности.
Таким образом, развитие ребенка, начиная с периода новорожденности, ведется или детерминируется социальными факторами в виде бессознательно осуществляемых обучающих воздействий на него матери, а потом и других взрослых. Именно поэтому независимо от расовой и национальной принадлежности родителей ребенка его врожденные биологически обусловленные звуковые реакции приобретают на протяжении первых полутора-двух лет жизни структурные черты той социальной — расовой и национальной — структуры, в которой ребенок воспитывается в это время. Появление в поведенческих комплексах ребенка нового класса врожденных звуковых реакций свидетельствует о том, что он уже готов к мотивационному усложнению своей коммуникативно-познавательной активности; когда же эти звуковые реакции начинают обнаруживать признаки социальной регламентации и нормирования*, наблюдатель может сделать вывод о том, что обучающие воздействия окружающих взрослых уже привели к формированию возрастного операционно-технического новообразования. Подражательная активность малыша дает ему возможность продвинуться еще на шаг по пути знаковой структурации своих природных звуковых возможностей.
Периодика раннего коммуникативно-познавательного развития будет рассмотрена в следующей главе. Теперь же обсудим метод, адекватный для ее выявления и описания.
3. Нейропсихопаралингвистический способ периодизации раннего детского возрастаОбычно считается, что речь является предметом изучения лингвистики, а познавательные процессы — психологии. Эти представления можно назвать сегодня данью аналитическому этапу развития науки. Речь, как и всякий другой коммуникативный процесс, осуществляется личностью, и потому она должна быть предметом изучения не только лингвистики, но и психологии. Познавательные процессы, так или иначе, связаны с формированием и использованием языковых обобщений, поэтому нельзя изучать их, игнорируя лингвистические критерии.
Следовательно, и коммуникативные, и познавательные процессы можно изучать только психолингвистически, тем более в Детском возрасте, когда синкретизм поведенческих реакций и их отдельных сторон выражен особенно ярко.
Психолингвистические методы исследования еще сравнительно мало разработаны даже по отношению ко взрослому человеку, говорить же о психолингвистическом исследовании ребенка Раннего возраста, коммуникативно-познавательная активность которого протекает заведомо на доязыковом уровне, можно, вообще, лишь условно.
В коммуникативно-познавательной активности ребенка раннего возраста, осуществляемой бессознательно, вряд ли можно вычленять и такие структурные единицы поведения, как целевые предметные действия. Такая активность слагается, по-видимому, из комплексов, обусловливающихся условиями, в которых разворачивается, безусловно, рефлекторно мотивируемая деятельность ребенка. Так же невозможно для описания этой активности пользоваться привычными лингвистическими понятиями: врожденные звуковые реакции детей не имеют в своем составе ни лексико-синтаксических, ни фонематических, ни даже слоговых единиц. Опосредованные языком общества коммуникативно-познавательные средства речи еще должны сформироваться в обучающем взаимодействии ребенка с его матерью (взрослым вообще).
В интересующем нас раннем периоде развития, протекающем под знаком эмоционального общения ребенка со взрослым и эмоционального познания в процессе этого общения предметного мира, коммуникативные единицы представляют собой эмоционально-выразительные комплексы, основными компонентами которых являются мимика, жестикуляция, пантомима, выражение глаз и паралингвистические интонации. В национальной культурной среде такие врожденные эмоционально-выразительные комплексы приобретают социально регламентированные черты. Поскольку эта социальная регламентация происходит операционно, в процессе бессознательного подражания окружающим, то человеку кажется, что его способы эмоциональной выразительности являются единственно возможными и само собой разумеющимися.
Этнографические исследования убедительно. показывают, что такое представление наивно. Еще Ч.Дарвин собрал свидетельства того, что одни и те же эмоции (гнев, радость, горе), эмоционально-выразительные знаки одобрения, подтверждения и отрицания, угрозы, отвращения, ненависти и т. п. имеют при универсальной биологической основе разные национальные формы.
По данным Ч.Дарвина, в состояниях ярости, гнева и негодования все люди принимают позу, свидетельствующую об их готовности напасть на противника, но позы эти могут быть весьма различны. Так, европейцы держат голову прямо, грудь их расширена и ноги твердо опираются о землю; верхние конечности могут быть согнуты в локтях или напряжены и опущены вдоль тела; кулаки обыкновенно сжаты; ноздри расширены, лоб нахмурен, а рот плотно сомкнут. У австралийцев при тех же эмоциях губы выпячены, глаза широко раскрыты, они неистово машут руками; а их женщины, кроме того, прыгают и бросают вверх пыль. Индейцы-дакоты Северной Америки держат голову прямо, морщат лоб и часто ходят большими шагами. Жители Огненной Земли в ярости часто топают ногами, иногда плачут. Разгневанный человек в Китае обыкновенно наклоняется всем телом к противнику и, указывая на него рукой, разражается потоком брани.
Столь же универсальны в биологической основе и столь же вариативны в своих социальных опосредованиях знаки утверждения и одобрения, с одной стороны, и знаки отрицания и порицания — с другой. Маленькие дети тянутся к объекту их положительной эмоции, стараются взять его в рот и наклоняют голову. Объект, вызывающий у них отрицательную эмоцию, они отталкивают от себя, отворачивая или запрокидывая при этом голову и закрывая рот. Те же знаки у взрослых людей разных национальностей уже весьма разнообразны. Англосаксы в знак одобрения кивают головой и машут ею из стороны в сторону в знак неодобрения. Греки и турки в первом случае делают движения, означающие у англосаксов отрицание, а во втором — они откидывают голову назад и прищелкивают языком. Абиссинцы выражают отрицание, закидывая голову на правое плечо, вместе со слабым прищелкиванием при закрытом рте, а утверждение выражается ими закидыванием головы назад вместе с минутным приподниманием бровей. У эскимосов кивок означает «да», взмах головы— «нет». Жители Огненной Земли кивают головою в знак утверждения и машут ею в стороны при отрицании и т. д. и т. п.
Эмоционально-выразительные поведенческие комплексы, как правило, ситуационно обусловлены. Интересны в этом отношении наблюдения американского исследователя Э.Холла. Автор рассказывает, как его пригласили выяснить причины трений, возникающих в филиалах американских фирм, размещенных в ФРГ и немецкой Швейцарии. Оказалось, что американцы привыкли работать в больших общих помещениях и только при открытых дверях. Открытый кабинет означает, что его владелец на месте и, главное, что ему нечего скрывать. Типично американские рабочие помещения строятся из стекла и просматриваются насквозь. Здесь все — от директора до посыльного — постоянно на виду, что создает у них ощущение, что «все сообща делают общее дело». Глухой коридор с закрытыми дверями рождает у американцев ощущение заговора.
Для немца, пишет Холл, подобное рабочее помещение — воплощение жутких ночных кошмаров. Для немца распахнутая настежь дверь символизирует крайнюю степень беспорядка, каждое помещение должно быть снабжено надежными, часто двойными, дверями. Немцы, работающие в американских фирмах, жалуются, что они находятся под неусыпным наблюдением (раскрытые двери).
Не только немцы, но и другие европейцы окрестили новые стеклянные здания, которые строятся сейчас в Западной Европе по американскому образцу, «камерами отчуждения» и «фабрикой неврозов», так как они порождают у человека эмоцию острой неудовлетворенности, усталости и угнетения. Исключение в этом отношении, однако, составляют англичане. Англичане с детства не привыкли изолироваться от других: дети живут в общей детской комнате, затем учатся в пансионатах, где все находятся в общих помещениях; ставши взрослыми, англичане очень редко имеют отдельные кабинеты. Зато все англичане обладают набором «внутренних барьеров» психического свойства, что обозначается понятием «прайвеси», они уверены, что окружающие не нарушат их личный покой без специального приглашения.
В Англии, как правило, американцев считают говорящими несносно громко, отмечают их интонационную агрессию, тогда как для американца такое поведение — выражение расположения к собеседнику и отсутствия у говорящего к нему секретов. Англичане же, опасаясь нарушить «прайвеси» людей, находящихся с ними в одном помещении, говорят очень тихо, что у американца не вызывает ничего, кроме подозрения.
Таким образом, эмоционально-выразительные поведенческие комплексы в целом и их отдельные, в том числе паралингвистические интонационные компоненты, складываясь на универсальной биологической основе, всегда имеют в различных культурных условиях национально-специфическую форму. В частности, эмоционально-выразительные интонации речи приобретают звучание, регламентированное и нормированное общественной практикой.
Широко известные наблюдения зарубежных и советских авторов показали, что ребенок ориентируется в процессе эмоционального общения со взрослым прежде всего на интонационные компоненты поведенческих комплексов. Так, если ребенка в 8 мес. обучить на вопрос «Где тик-так?» показывать на часы, то он делает то же самое и на задаваемый с той же интонацией вопрос: «А ля-ля?» Ребенок показывает на окно и тогда, когда его спрашивают по-русски «Где окно?», и тогда, когда в контрольном эксперименте вопрос задается с той же интонацией, но по-немецки или по-французски. Ф.И.Фрадкина в своих обращениях к ребенку, не меняя интонации, заменяла слово «возьми» словом «гудит» или слова «ладушки-ладушки» словами «капитан-капитан» и получала на них в соответствующих предметных ситуациях одну и ту же поведенческую реакцию ребенка.
Так как в таком раннем возрасте ребенок еще не владеет родным языком, то очевидно, что во всех упомянутых экспериментах он ориентировался не на языковые интонационные конструкции взрослых, актуализирующие лексико-синтаксические структуры предложений и представляющие собой в физическом отношении закономерные изменения звуковысотных характеристик голоса (динамики частоты основного тона). Ребенок слышал и узнавал эмоционально-выразительные ситуационно обусловленные паралингвистические* интонации взрослых, которые он, кстати, уже умел воспроизводить самостоятельно.
Лишь позже, овладевая интонационными конструкциями родного языка, ребенок научается воспринимать и дифференцировать динамику частоты основного тона голоса. Первая стадия развития человеческого слуха, по мнению Б.М.Теплова, синкретично-тембровая. Она заключается в том, что правильно воспринимаются, запоминаются и воспроизводятся лишь направления тембровых изменений — подъемы и спуски мелодической кривой, тогда как высота звука, поглощаясь тембром, еще не воспринимается.
Мышление взрослого человека «очень часто совершается на уровне комплексного мышления, иногда опускаясь к еще более элементарным, более примитивным формам». По-видимому, в звучащей речи имеет место принципиально то же самое: взрослый человек очень часто пользуется в бытовой ситуационно обусловленной речи синкретичным тембровым слухом, обращаясь к анализу и оценке динамики частоты основного тона лишь тогда, когда он переходит к контекстной речи.
Следовательно, можно заключить, что для описания коммуникативно-познавательной активности детей раннего возраста адекватен не психолингвистический, а психопаралингвистический подход. Структурно-функциональные единицы психопаралингвистического описания нам предстоит квалифицировать, взяв за основу врожденные звуковые реакции детей (младенческие крики, гуление, лепет) и проследить за тем, как изменяется их звучание или, иначе, как они нормируются в определенной — русской — культурной среде.
У малыша первых лет жизни очень трудно описывать динамику его психического развития изолированно от динамики соматоневрологической.
«Развитие есть самообуславливаемый процесс, где синтезированы влияния среды и наследственности». Всякий новый этап в развитии ребенка нужно «изобразить как вытекающий с логической необходимостью из предшествующего этапа. Должны быть раскрыты логика самодвижения в развитии, единство и борьба противоположностей, заложенных в самом процессе». Многие современные психологи поддерживают это важнейшее положение Л. С. Выготского. «Несомненно, что социальные влияния и опыт деятельности преломляются через внутренние условия развития, в том числе анатомо-физиологическое созревание мозга ребенка. Сами «внутренние условия» во многом являются результатом внешних воздействий, но не сводятся к ним»4. Необходимость провести психологически содержательную периодизацию раннего детского возраста, которая учитывала бы диалектику биологических и социальных факторов, превращает психопаралингвистическую направленность нашего исследования в нейропсихопаралингвистическую.
Конечно, даже такой подход не является идеально полным по охвату всех сторон развития. Можно еще раз подчеркнуть, что «сложность состава в процессе развития не только не исключает, но предполагает первостепенное значение динамического и структурного объединения всех сторон и процессов развития в единое целое».
Судя по литературным данным, нейропсихопаралингвистический анализ раннего детского развития еще никем не проводился. Именно поэтому мы будем использовать для такого рода анализа наблюдения, выводы и экспериментальные факты, уже отраженные как в психолого-педагогической, так и в лингвистической, физиологической и неврологической литературе. Эти данные мы будем дополнять по мере надобности результатами наблюдений С.М.Носикрва, которые были обобщены нами под углом зрения интересующих нас вопросов.
ГЛАВА 2. КОММУНИКАТИВНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПЕРИОДЫ РАННЕГО ДЕТСКОГО ВОЗРАСТАСам по себе принцип максимально специализированного исследования отдельных функций, несомненно, в высшей степени важен. (Л. С. Выготский)
...Культура перерабатывает все природное поведение ребенка и перекраивает по-новому весь ход развития. (Л. С. Выготский)
1. Период младенческих криков (0 мес—2—3 мес.)Первый крик ребенка возникает как компонент стволовоподкорковой оборонительной реакции, обусловленной прекращением плацентарного кровообращения и охлаждением его тела во внешней атмосфере. Падение степени насыщения крови кислородом (химический фактор) «включает» врожденные синергии (сложные двигательные координации) дыхания, а падение температуры тела (физический фактор) — такие же врожденные синергии мышц тела и конечностей: возникает генерализованное тоническое напряжение мышц ребенка с беспорядочными движениями рук и ног.
Врожденные синергии терморегуляции, дыхания, а также сосания, глотания, кашля, зевоты, рвоты, мочеиспускания, дефекации и т. п. служат целям взаимодействия организма с факторами внешней среды, но факторами еще не социальными, а физическими и химическими. Младенец кашляет и чихает, чтобы удалить чужеродное тело из верхних дыхательных путей; посредством рвоты извергаются вредные физические и химические агенты из желудка, а посредством сосания и глотания физические продукты и химические вещества, наоборот, вводятся в желудок и т. п. В перечисленных синергиях скоординированы в едином поведенческом акте, с одной стороны, движения гладкой мускулатуры внутренних органов, а с другой стороны, движения поперечно-полосатой скелетной мускулатуры. Новая сложная синергия голосообразования образуется на наших глазах как побочное следствие врожденных синергии терморегуляции и дыхания; вначале она обслуживает оборонительное поведение ребенка. Существенно, что голосовая реакция во время первых дыхательных синергии младенца отсутствует, т.е. одного дыхательного фактора недостаточно для голосообразования.
В литературе существуют две концепции голосообразования: миоэластическая (аэродинамическая) и нейромоторная. Согласно первой концепции звуковая волна возникает вследствие вовлечения сомкнутых краев голосовых связок в колебательное движение под воздействием прорывающегося сквозь них воздуха из легких. Этой миоэластической концепции противостоит нейромоторная концепция, по которой колебательные сокращения голосовых связок осуществляртся под управляющим воздействием импульсов из центральной нервной системы. Каждая из концепций объясняет далеко не все фактические данные.
Обе концепции голосообразования лишь кажутся антагонистичными, на самом деле они описывают одно и то же явление с разных сторон. Условия, необходимые для голосообразования, возникают в периоде новорожденности случайно, когда под влиянием резкого возбуждения симпатической нервной системы изменяются физические свойства мышц тела и возрастает объемная скорость вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Стечение этих случайных факторов систематически получает положительное подкрепление, ибо, реализуясь в крике, они способствуют наискорейшему устранению матерью дискомфортных состояний младенца. Соответственно нервные импульсы к различным мышечным группам, породившим голосообразование, получают с каждым новым криком все более устойчивую системную координацию, начинает формироваться специфический функциональный механизм голосообразования с его двумя аспектами: аэродинамическим и нейромоторным.
А.Н.Гвоздев описывал крики новорожденных как выдыхания при суженной голосовой щели при более или менее раскрытой полости рта, вследствие чего получается звук гласного типа разной степени открытости. Раствор рта при этом непрерывно меняется, вместе с чем меняется и качество звука: получаются скользящие переходы от более широких звуков к более узким и, наоборот, смыкание и захлопывание рта вызывает впечатление смычных согласных. Характерно, подчеркивает А.Н.Гвоздев, что крик невозможно разбить на отдельные составляющие его элементы, выделить в нем те или иные звуки. Образно описывает звучание криков чешский психолог Е.Седлачкова. Она выделяет малоприятные на слух хриплые крики, крики-писки, дрожащие и тремолирующие крики и просто крики, отдаленно напоминающие гласные звуки, например: а-оǽ или оа, о ǽ, а ǽ, э ǽ, эа и т. п..
Характерно, что младенческие крики бесконечно вариативны по своим акустическим свойствам: ни один ребенок не кричит одинаково дважды и нет двух детей, крики которых подобны. Их невозможно запомнить и невозможно воспроизвести, ибо они не поддаются квалификации согласно каким-либо известным фонетическим признакам. Вместе с тем крики каждого ребенка обладают индивидуальными чертами, которые настолько хорошо выражены, что по особенностям криков можно опознать индивида так же безошибочно, как это делается по отпечаткам пальцев.
Отсутствие фонетических критериев для описания младенческих криков вынудило зарубежных ученых (X.Трали и Дж.Линда) выделить некоторые признаки на основе соответствующих спектрографических изображений. Ими были выделены три характерных сегмента спектрографической картины крика, обозначенные как «базовый крик» (фонация), «зашумленный крик» (дисфонация) и «сдвиг основной частоты голоса» (гиперфонация).
Спектрографическое изображение фонации всегда характеризуется началом с резко восходящим частотным контуром и таким же резким подъемом кривой интенсивности, с последующей относительно стабильной фазой как частотных, так и интенсивностных параметров крика, и снова таким же резким, как и начало, прекращением акустических и, следовательно, спектрографических явлений; высота основной частоты голоса в сегментах фонации редко бывает ниже 400 Гц.
Спектрографическая картина дисфонации появляется при энергичных спазматических мышечных сокращениях надглоточной области, что ведет к сужениям и деформациям верхних дыхательных путей. Голос младенца становится хриплым, менее звучным. Интенсивность звука на протяжении этой фазы может падать соответственно уменьшению его звучности или вокализации*, хотя в некоторых случаях, когда сужения надглоточного пространства не происходит и резонаторы остаются широко открытыми, интенсивность звука может даже возрастать. Частота шумовых сегментов, иногда резко сдвинутая в сторону высокого регистра, длительность зашумленных сегментов, соотношение зашумленных и вокализованных сегментов по оси времени могут быть весьма разными.
Своеобразные гиперфонационные сегменты крика спектрографически характеризуются исключительно резким сдвигом вверх частоты основного тона, что исследователи связывают как с особой степенью напряжения или укорочения голосовых связок, так и с особым состоянием резонаторов, подавляющих частоту основного тона и одновременно резко усиливающих один из обертонов. Ничего подобного в спектрограммах звучащих высказываний взрослых людей не бывает. Сегменты гиперфонации могут вклиниваться в сегменты фонации и дисфонации, могут сопровождать те и другие.
Не поддаваясь никакому фонетическому упорядочению и не соотносясь закономерно ни с выдохом, ни с вдохом, крики, их спектрографические выражения и другие проявления защитной реакции младенца находятся в четкой зависимости от динамики развития и степени вызвавшего их дискомфортного состояния. Так, в одном из экспериментов, который мы представим на рис. 4, реакция на щипок кожи заняла 32 дыхательных цикла: пробуждение младенца и генерализованное двигательное беспокойство получают только на седьмом дыхательном цикле отчетливое звуковое сопровождение в виде гиперфонации — в следующих дыхательных циклах суммарная интенсивность крика возрастает, гиперфонации предшествует все более заметно выраженная фонация, а с десятого цикла появляются и сегменты дисфонации, голос становится хриплым и в то же время особенно громким и высоким. Интервал от тринадцатого до восемнадцатого дыхательных циклов соответствует максимальному развитию оборонительной реакции. Затем она начинает ослабевать: длительность дисфонации уменьшается, интенсивность крика падает и появляется вокализация вдоха, затем реакция все более выражается только лишь фонацией; интенсивность крика продолжает падать и, наконец, звуковой эффект сводится к журчащему звуку на протяжении только выдоха — ребенок засыпает. Принципиально те же соотношения голосовых реакций и дыхательных шумов наблюдаются и в процессе отдельных дыхательных циклов; на высоте развития оборонительной реакции каждый выдох характеризуется начальной фонацией, переходящей в дисфонацию и гиперфонацию, и затем вновь конечной фонацией.
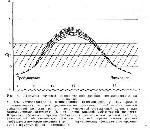
Итак, крики как целостная реакция выражают дискомфортные функциональные состояния, а каждый отдельный крик, сопряженный с одним дыхательным циклом, выражает относительную степень и фазу этого состояния. Максимальной звучности высоты, громкости и гиперфонационной мощности голос младенца достигает к концу восходящего участка кривой. На протяжении кульминационного участка кривой звуковая картина крика отличается наибольшей вариативностью (фонация и гиперфонация чередуются с дисфонацией). На нисходящем участке кривой реакция вновь становится более вокализованной, причем звучность, высота, громкость и мощность голоса постепенно падают. До и после вокализованных участков уровень звукового давления в тракте и напряжение голосовых связок оказываются слишком незначительными для того, чтобы возникло колебательное движение последних, и голос поглощается дыхательными шумами.
Таким образом, в звуковой структуре врожденных младенческих криков, возникающих в связи с развитием дискомфортных состояний, обнаруживаются переходящие друг в друга четыре зоны различной субъективной ценности. Там, где оборонительная реакция наиболее или наименее интенсивна (зоны максимальной и минимальной субъективной ценности), голосовая реакция искажается и маскируется шумами или вообще не выявляется, замещаясь шумами. Там же, где интенсивность оборонительной реакции умеренная (зоны умеренной субъективной ценности),— в начале криков и на их спаде,— там голосовая реакция наиболее отчетлива и отдаленно напоминает гласные звуки речи или журчание ручья.
Начиная с третьего месяца по характеру крика мать может определить состояние своего ребенка: мокрый, голодный, болит живот. Поэтому принято подразделять крики детей на три вида: крики «боли», крики «удовольствия» и крики «голода». Эти определения криков чисто условны. Крики «голода» при умеренной субъективной ценности данного состояния перейдут в крики «боли», если желание есть достигнет той степени, когда появятся спазмы в желудке и кишечнике. Напротив, крики «боли», чем бы они ни были вызваны, могут перейти в крики «голода», если боль потеряет свою интенсивность, хотя ребенок и не будет голодным. Поэтому кажется целесообразней говорить о криках, связанных с биологическими состояниями высокой субъективной ценности (крики «боли»), и о криках, связанных с биологическими состояниями умеренной субъективной ценности: прогрессивно развивающимися (крики «удовольствия») и регрессирующими (крики «голода»). В этой систематизации зону низкой субъективной ценности репрезентирует отсутствие голосовых реакций.
Дифференциация криков в прогрессивной или регрессивной динамике развития адаптивной поведенческой реакции зависит от роста или спада возбуждения симпатической* нервной системы, что имеет для нас принципиальное значение, ибо соответствующие эмоциональные состояния субъективно переживаются по-разному. Возникают два противоположных относительных «наклонения» одних и тех же биологически положительных эмоциональных состояний, что, заимствуя музыкальную терминологию, можно определить как развитие состояний мажорного и минорного характера. Интенсивно мотивированные, т. е. с биологической точки зрения эмоционально отрицательные, состояния не могут иметь такой качественной дифференциации — они для этого слишком интенсивны. Точно так же не имеют качественной дифференциации и эмоциональные состояния низкой субъективной ценности — их интенсивность еще слишком незначительна.
Многие исследователи уделяли внимание проприоцептивной (кинестетической) чувствительности в формировании детской речи. И.П.Павлов называл ее базальным компонентом речи. Имея в виду младенческие крики, обратим внимание на то, что двигательные синергии периода новорожденности сопровождаются кинестетическими импульсами от рецепторов, расположенных в сокращающихся мышцах. Эта импульсация замыкает кольцевые обратные связи, и в итоге двигательный эффект центрального нервного импульса затухает на периферии постепенно.
Эти постепенно затухающие ритмические импульсы, или импульсы вибрационного характера, имеют, надо полагать, исключительно большое значение в свойствах младенческого голоса. Вызванное голосовыми связками звуковое колебание воздушной среды в полостях речевого тракта обусловливает явления механического резонанса мышечных стенок этих полостей, причем резонанса избирательного по отношению к составляющим звук основному тону и его обретонам. Механический же резонанс мышечных стенок (и чем он сильнее, тем резче) порождает поток ритмических кинестетических стимуляций к соответствующим двигательным нервным структурам, и эффект резонанса становится нейромоторным.
Оба вида резонанса: и механический, и названный нами нейромоторным — создают условия для положительной интерференции частот и увеличения мощности голоса, т.е. для гиперфонации. В некоторых наблюдениях частота сегмента гиперфонации оказывается точной суммой частот предшествующего сегмента фонации.
Понятно, что короткость голосовых связок младенца благоприятствует включению в вибрацию мышечных стенок высокочастотных резонаторов. Условия для вибрации низкочастотных резонаторов могут возникнуть в заключительную фазу крика на спаде эмоционального состояния. И действительно, по некоторым данным, у половины детей крик заканчивается низкими звуками. Интересно отметить, что частота низких элементов крика может равняться частоте, характерной для голоса взрослого мужчины. Сдвиги частоты основного тона с появлением неожиданной мощности голоса новорожденных младенцев, вероятно, зависят от многих практически непредсказуемых факторов (объемной скорости выдыхаемого, а также вдыхаемого воздуха, динамики эмоционального состояния и пр.), и потому они отличаются нестабильностью их параметров и внезапностью их возникновения на протяжении дыхательных циклов. Другими словами, звуковые волны, образующиеся в речевом тракте, могут подвергаться не только положительной, но и отрицательной интерференции и, следовательно, мощность голоса может резко падать. Но эта внезапность и нестабильность гиперфонационных «сдвигов» и объясняет их функциональное назначение; они не дают притупиться восприятию слушателей: к крикам младенца трудно привыкнуть, они раздражают и волей-неволей приходится спешить для устранения вызвавшей их причины.
На протяжении последних дыхательных циклов, на фоне которых или вслед за которыми младенец снова впадает в сон, суммарная интенсивность крика редуцируется, а слуховое впечатление от него описывается авторами как журчание или ропот волн, т. е. как акустический феномен, явно имеющий элементы ритмической структуры. Такой звук, который сродни кошачьему мурлыканью, свидетельствует об устранении бывшего дискомфорта; он выражает персеверирующие вибрационные импульсы, вызванные к жизни уже угасшими центральными влияниями. В состоянии эмоционального возбуждения младенца поток кинестетических и тактильно-кинестетических раздражений от сокращающихся мышц и растягивающихся при этом кожи и слизистых оболочек поступает в центральную нервную систему на какой-то определенный микроинтервал времени раньше, чем соответствующие аутослуховые и аутозрительные раздражения, что и закладывает тот базальный компонент речи, о котором говорил И.П.Павлов. Эти последовательные полисенсорные образы становятся условием отражения звуковых и зрительно наблюдаемых проявлений эмоционального возбуждения других людей. Только в этих случаях слуховые и зрительные образы на тот же микроинтервал времени не отстают от тактильно-кинестетических, а предшествуют им. Те звуковые комплексы из внешней среды, тактильно-кинестетических эквивалентов которых у младенца нет, он слышать правильно не может. Те же эквиваленты, которые у него имеются, он не только правильно слышит, но и начинает подражательно воспроизводить.
2. Период гуления (2—3 мес.— 5—6 мес.)Наблюдения показали, что младенец уже первой недели жизни реагирует на речь человека, а с конца второй недели он прекращает крик, как только с ним начинают разговаривать. Замолкая, младенец внимательно следит за матерью и запечатлевает в памяти особенности ее эмоционально положительного поведения: неторопливые и плавные движения рук, головы и глаз, умеренные темп и громкость ее речи. Подражая матери, он постепенно снижает в ситуации такого же эмоционально положительного общения с нею интенсивность своих двигательных реакций и криков. Следовательно, мать совершенно бессознательно для себя достигает в процессе ухода за своим младенцем того, что элементы его оборонительного поведения становятся составными частями поведения коммуникативно-познавательного.
Имеются наблюдения, что такие врожденные голосовые реакции, как короткое гукание, а потом и певучее гуление, вначале мало отличаются от криков по необходимой координации движений. Следовательно, можно заключить, что разница между теми и другими проявлениями функциональной активности паллидар-ных подкорковых ядер мозга преимущественно количественная. В паллидарных синергиях большой интенсивности — криках — доминируют шумовые компоненты (дисфонация) и мощные вокализации (гиперфонация), а в тех же паллидарных синергиях умеренной интенсивности — гукании и гулении — преобладают умеренные по звучности, высоте, громкости и мощности вокализации (фонация), что придает им певучий тембр.
В поведенческих ситуациях высокой субъективной ценности (например, в ситуации голода и болей в животе) младенец, уже воспроизводящий звуковые комплексы гуления, сохраняет способность кричать громко и сопровождать свой крик резкими беспорядочными движениями рук и ног.
К 2,5—3 месяцам жизни коммуникативно и познавательно опосредованные комфортные состояния внутренней среды становятся потребностью ребенка, поэтому он снова и снова воспроизводит тот комплекс поведенческих реакций, который, как свидетельствует его опыт, стимулирует мать к эмоциональному общению с ним. В процессе общения с матерью он получает необходимый ему умеренный по интенсивности поток экстероцептивных ощущений, в том числе слуховых. Это необходимо для коммуникативно-познавательного развития, ибо спектральная чувствительность уха, по данным акустики, максимальна именно при умеренном уровне громкости звуков и она наиболее велика к частотам среднего диапазона.
Этот комплекс поведенческих реакций ребенка, получивший название комплекса оживления, состоит из умеренно выраженных движений конечностями, поворотов головы, взорных движений, улыбок и вокализаций, адресованных матери. Все компоненты комплекса оживления неотделимы друг от друга, синкретичны: ребенок первых месяцев жизни не может издавать звуки вне общей двигательной активности, как не может он и двигать руками и ногами, оставаясь молчаливым.
А.Н.Гвоздев характеризовал гуление в отличие от криков как «согласные, возникающие на фоне скользящего гласного и фонетически мало определенные с точки зрения их места образования». По преимуществу эти согласно-подобные компоненты гуления имеют гортанно-глоточно-заднеязычное происхождение, что и отражается в терминах «гукание», «воркование», «гуление». Согласно-подобные элементы обычно палатализованы, т. е. звучат мягко. По неопубликованным наблюдениям С.М.Толстой, гласно-подобные звуки гуления ближе всего к нейтральному е — звуку, при котором язык занимает срединное положение в полости рта. (Звучание криков ближе к а.) От звука бывают отклонения в сторону гласных верхнего подъема: ы, реже и, часты носовые звуки, редко встречаются огубленные вокализации, среди шумов согласного типа преобладают звуки задней артикуляции, очень разнообразные по способу образования, но доминирует фрикативный носовой заднеязычный звонкий звук. Иногда этот звук осложняется элементами взрыва. Наблюдается обилие шумов типа аффрикат, бывают хрюкающие и всхрапывающие звуки, звуки, обусловленные дрожанием нёбной занавески. Язычных звуков практически нет. Губные звуки представлены только в губно-губном варианте: по большей части они носовые и часто смягчены.
Каждый из этих звуков, представляющий собой результат сложной синергии, может стереотипно воспроизводиться повторно по механизму тактильно-кинестетической обратной связи. В первый аутоэхолалической фазе этого периода создаются слуховые копии тактильно-кинестетических образов гуления, которые делают возможным переход ко второй звукоподражательной фазе. В этой фазе универсальные, свойственные всем детям (без различия их национальной и культурной принадлежности) эмоционально-выразительные гласные тембры получают национально-специфическую шлифовку, а те из них, эквиваленты которых отсутствуют в материнской речи, затормаживаются. Так, затормаживаются, не получая подкрепления, звуковые комплексы гуления, осуществляемые на вдохе. Однако в оборонительных поведенческих комплексах голосообразование продолжает осуществляться в обеих фазах дыхательного цикла.
По мнению Р.Якобсона, освоение совокупности гласных звуков или вокализма обычно начинается с широкого гласного, затем узкий гласный начинает противополагаться широкому гласному, а спустя еще некоторое время возникает система из трех гласных, что и составляет вокалический минимум в живых языках мира: а, и, у. Имея в виду эти данные, следует думать, что раньше всего ребенком осваиваются национально-специфические варианты эмоционально-выразительных а-тембров, потом ии у-тембров, т. е. тех тембров, которые превалировали у него в разных типах криков.
Расцвет гуления падает на 4—6 месяцы жизни. Видимо, к этому времени ребенок полностью осваивает национальную специфику эмоционально-выразительного вокализма родной речи, что и объясняет следующий удивительный факт: взрослые американцы, датчане и китайцы могут опознать своих соотечественников среди 6-месячных младенцев по издаваемым ими звукам гуления.
Как известно, гласные звуки реализуются в речи в виде различных аллофонов, зависящих как от позиции гласных в слове (позиционные аллофоны), так и'от соседних с ними согласных (комбинаторные аллофоны). Тембр гласного наиболее отчетливо обнаруживается на протяжении его относительно стационарного участка, а поскольку такие участки характеризуют тембры основных позиционных аллофонов гласных, то, по-видимому, освоение родного вокализма начинается именно с них. Кстати, и такая особенность материнской речи, как ее напевность с подчеркнутым выделением гласных ударных слогов, способствует прояснению именно основных аллофонов гласных, находящихся под ударением. Тембры этих аллофонов [э, и, у, е, о, ы] имеют особое значение для коммуникации эмоциональных состояний.
Тембры позиционных аллофонов гласных из предударных слогов (и, у, ы, ъ, ь, л) менее ценны для опознания и выражения специфики эмоций, а ценность в этом отношении тембра гласных заударных слогов [э, ъ, ь] и вовсе ничтожна, в силу того что кратковременность и зашумленность звуков в этой позиции делают их тембр трудноопределимым.
Научаясь распознавать формантные* области отдельных аллофонов гласных родного языка, ребенок переходит к дифференциации соответствующих двигательных, в данном случае артикуляторных, сноровок. Так, в работе Е.Седлачковой были представлены частотные области реализации вокализаций чешских детей на ранних этапах развития (рис. 5). Сравнивая формантные области звуков гуления у детей разных возрастов, можно видеть, как происходит их прогрессивная дифференциация: область реализации ж-тембра исчезает; область реализации а-тембра становится более компактной; область реализации э-тембра начинает четко противопоставляться области реализации а-тембра; противопоставленность областей реализации итембров, , также еи о-тембров увеличивается.

Тембры национально-специфических гласных звуков, первоначально освоенные на материале материнской речи с характерным для ее голоса расширением частотного диапазона за счет высоких частот, затем начинают опознаваться и в голосах более низких регистров. По мере анатомического созревания голосового аппарата ребенка те же самые тембры начинают воспроизводиться в постепенно понижающемся регистре детского голоса. Если сопоставить рис. 5 и 6, то можно видеть, как частотные области отдельных гласных аллофонов, сохраняя принципиально одно и то же взаимное расположение, с возрастом перемещаются в область сравнительно более низких частот спектра.
То же самое, надо полагать, происходит и с умением слышать и воспроизводить краткое и длительное звучание того или иного качественно определенного тембра.
Если соотнести тембры десяти основных русских гласных [а, и, у, е, о, ы,л, ь, ъ, э] с субъективно-ценностной структурой периодически развивающихся голосовых реакций младенца (рис. 7), то можно констатировать, что а-, и-, уи е-тембры наиболее ярко выражают эмоции различных ценностных зон. Обладающие сравнительно наибольшей звучностью а-тембры произносятся при максимально открытом рте и резко укороченной с напряженными мышечными стенками глоткой, они выражают эмоции зоны высокой субъективной ценности; у взрослого человека а-тембры характеризуют аффективные эмоциональные состояния и подчеркнуто стеничные, волевые акты.
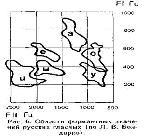
Функциональными антиподами а-тембров в русской речи являются е-тембры из зашумленных и потому незвучных безударных, чаще всего заударных слогов. Их артикуляция отличается нечеткостью, ибо они выражают эмоции зоны низкой субъективной ценности; во взрослой речи это тембры безразличия, равнодушия, незаинтересованности в составе астеничных, или безволевых, поведенческих актов.
Средней звучности аи у-тембры с .умеренным энергетическим потенциалом выражают относительную дифференциацию человеческих эмоций зоны мотивационного оптимума, они артикулируются при умеренно открытом рте и умеренно напряженных мышцах глотки, /f-тембры воспроизводятся при максимальном продвижении языка вперед и растягивании плотно прилежащих к зубам губ, как это бывает при улыбке. У взрослого человека это тембр широкого спектра мажорных чувств. У-тембры воспроизводятся с максимально отодвинутым кзади языком и округленными выдвинутыми вперед губами, как это бывает при плаче. Это тембр минорных чувств взрослого человека. Для младенческих криков периода новорожденности ии у-тембры не характерны, если не считать случайных высокочастотных писков и возникающих на спаде крика или в его начале звуков, напоминающих о и у. Для звуков гуления мажорные ы-тембры и минорные у-тембры становятся типичными.
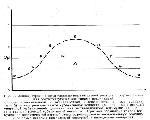
Переходные участки указанных четырех субъективно-ценностных зон представлены в русской речи [е, о, ы, ь, ъ, Л ] -тембрами. (Рис. 7 демонстрирует особенности эмоциональной семантики ыи л-тембров; ы-тембр служит выражению качественно противоречивых мажоро-минорных эмоций умеренной субъективной ценности, а л-тембр — качественно малоопределенных эмоций сниженной субъективной ценности.)
Выражая чувства человека различных субъективно-ценностных зон, тембры гласных имеют общественно регламентированную артикуляторно-акустическую форму, что позволит им в будущем выполнять роль служебных средств языка.
Для понимания дальнейшего развития коммуникативно-познавательных средств важно подчеркнуть, что в звуковых комплексах гуления обладают эмоциональными значениями лишь вокализованные участки. Связующие же их более или менее зашумленные участки эмоционально незначимы. При восприятии материнской речи ребенок точно так же принимает во внимание лишь ее вокализованные участки, а все то, что находится между ними, он игнорирует. Однако такое отношение к зашумленным участкам потока материнской речи постепенно изменяется. Период гуления завершается тем, что ребенок на грани первого полугодия начинает опознавать специфические гласные тембры из безударных слогов, в которых они слиты с шумовыми элементами слога. Переход к восприятию «трудных» зашумленных участков материнской речи связан с усилением коммуникативно-познавательной мотивации и, следовательно, активации соответствующих актов. Отсюда можно заключить, что в периоде освоения эмоционально-выразительного вокализма возрастает коммуникативно-познавательная активность ребенка вообще.
С точки зрения фонетики умение опознавать эмоциональные значения тембра зашумленных гласных означает, что ребенок перешел к бессознательному восприятию синкретичных сочетаний согласного и гласного звуков, т. е. сегментов речи меняющейся звучности. Однако, воспринимая такие сегменты меняющейся звучности, ребенок подвергает эмоциональной интерпретации по-прежнему лишь их вокальные или гласные компоненты.
Начиная непроизвольно различать, а потом и подражательно воспроизводить синкретично слитые с вокальными шумовые элементы материнской речи, ребенок нормирует их звучание в соответствии с закономерностями родной речи. Важнейшими в этом процессе нормирования оказываются и-образные тембровые переходы между шумовыми и вокальными элементами — основа будущих характернейших для русской речи мягких согласных., С этих-то переходных участков и начинается временное упорядочение шумовых частот в звуковых комплексах гуления.
Приобретая национально-специфическую форму, звуковые реакции ребенка получают в периоде гуления знаковую функцию. Вокальные компоненты этих реакций означают переживаемые ребенком функциональные состояния. По вокальным компонентам высказываний матери ребенок осуществляет бессознательные оценки ее функциональных состояний и в соответствии с этими оценками строит также бессознательно свое адаптичное поведение: либо тянется к ней и подражает ей, либо отворачивается и проявляет к ней агрессивные реакции. Молчащие взрослые или взрослые с эмоционально-невыразительными вокальными компонентами речи могут у ребенка периода гуления не вызвать ориентировочно-исследовательского поведения, а следовательно, и коммуникативно-познавательной активности.
3. Период раннего лепета (5—6 мес— 9—10 мес.)Ребенок бессознательно овладевает сегментами меняющейся звучности еще в период гуления. Предметом же его специальных усилий такие сегменты становятся в период лепета, когда в середине первого года жизни созревают стриарные подкорковые ядра и усложняется мотивационная сфера ребенка. Функционирование стриарных ядер начинается исподволь, что обнаруживается в появлении таких эмоциональных выразительных реакций, как смех и плач.
Смех и плач, как и все звуковые реакции доязыкового этапа развития, имеют универсальные биологические предпосылки и формирующиеся на их основе социальные опосредования. Ч.Дарвин, уделивший много внимания изучению эмоционально-выразительных реакций, отметил у своих трех детей появление первой улыбки в возрасте около 45 дней (1,5 мес), а смеха — около ПО дней (3—4 мес). Слезы при плаче появились у них одновременно с началом смеха. Современные исследования подтверждают те же сроки появления у детей улыбки, смеха и плача. С неврологической точки зрения синергии* смеха и плача могут проявиться при условии затормаживания более древних тонических палли-дарных синергии.
По данным ван Хуфа, гомологами человеческого смеха у млекопитающих, обезьян в первую очередь, являются вокализации, которые обычно отличаются высоким тоном и громкостью; у животных прослеживается отчетливая связь этих гомологов смеха с защитными и агрессивными звуковыми реакциями типа шипения.
Гомологами человеческой улыбки у обезьян являются две мимические реакции, обозначенные им как: 1) молчаливый оскал зубов и 2) игровая мимика с расслабленным открытым ртом. Человеческую улыбку, не сопровождаемую смехом и являющуюся знаком дружелюбия, узнавания и приветствия, автор ставит в параллель с первой из упомянутых мимических реакций животных — молчаливым оскалом зубов. Этот тип улыбки появляется у детей, пишет он, между 4—5 мес. жизни. Вторая мимическая реакция — игровая мимика с расслабленным ртом — наблюдается у животных на фоне свободных и легких, движений всего тела во время игры, шуточных борьбы и преследования, при щекотке и сопровождается дыханием по типу стаккато, которое звучит при вокализации (например, у шимпанзе) как «ахх, ахх, ахх». Такой же смех, по ван Хуфу, часто бывает у детей более старшего возраста во время игры; интенсивность его проявлений может колебаться от смеха с широко раскрытым ртом и откинутой головой до серии смешков или просто легкого невокализованного стаккатированного дыхания.
Имея в виду звуковые реакции детей, кажется возможным сблизить громкие вокализации животных, генетически связанные с защитными реакциями типа шипения, с младенческими криками. Тогда молчаливый оскал зубов обезьян можно рассматривать как ту же самую, но меньшую по интенсивности реакцию настороженности, готовности к борьбе. Настораживаются при виде незнакомого человека или новой игрушки и дети первых месяцев жизни. При этом появление близкого человека не снимает напряжения. Поэтому вряд ли на такой основе может вырасти улыбка дружелюбия, узнавания и приветствия. Скорее это основа для той чисто человеческой эмоционально-выразительной реакции, которую описал В. М. Бехтерев как реакцию сосредоточения или которую К.Сепп обозначил как выражение сосредоточенного внимания и которую он противопоставлял в равной мере и смеху (улыбке), и плачу. Игровая мимика с расслабленным открытым ртом в совокупности с другими реакциями поведенческого комплекса у обезьян легко аналогизируются с младенческим комплексом оживления. Отмечаемые ван Хуфом у детей более старшего возраста эмоциональные реакции во время игры в виде «легкого невокализованного стаккатированного дыхания» мы бы интерпретировали как серии выдохов, на протяжении каждого из которых звучность голоса нарастает.
Выдохи, имеющие восходящую звучность и представляющие в последовательном ряду элементы возрастающей интенсивности (поскольку грудная клетка в целом находится в стадии вдоха), образуют смех — одно из характерных проявлений чувств мажорной гаммы. Эмоционально-выразительный антипод смеха — плач — представляет собой одно из характерных проявлений чувств минорной гаммы. Звуковые элементы плача — всхлипывания — можно описать как более или менее вокализованные вдохи, от начала к концу каждого из которых звучность голоса убывает. Интенсивность всхлипываний в их последовательном ряду растет в силу выдыхательной установки грудной клетки в целом. Вокализованные элементы смеха тяготеют к и-, е-, ъ-тембрам, а аналогичные элементы плача — к у-, о-, «-тембрам; первые могут принимать форму взвизгивания, а вторые — воющих, стонущих звуков.
Из описания звуковой формы смеха и плача становится несомненной их генетическая связь с криками «удовольствия» и «голода», т. е. с функциональными состояниями умеренной интенсивности, но качественно противоположной направленности. Противоположная направленность смеха и плача подкрепляется анализом особенностей кровообращения при них, проведенным , советским неврологом Е.К.Сеппом. Согласно этим данным, при смехе количество артериальной крови, протекающей через мозг, усилено, и насыщенность ее кислородом повышена, следствием чего становится повышение возбудимости нервных клеток и обогащение ассоциативных процессов. При плаче, напротив, циркуляция крови в мозгу замедлена вследствие пониженного содержания в ней кислорода и повышенного — углекислоты, возбудимость мозга снижена, и в таком состоянии «самонаркоза» ассоциативные процессы обеднены.
Как наиболее интенсивный смех — хохот, так и наиболее интенсивный плач — рыдания тяготеют в звуковом отношении к сегментам восходяще-нисходящей звучности, а их вокализованный компонент — к а-тембрам; субъективно они связаны с болевыми ощущениями, возникающими в силу резких выдыхательных и вдыхательных движений грудной клетки, которые дезорганизуют мозговое кровообращение, а тем самым и функциональную активность мозга. Очень характерна тенденция и хохота, и рыданий переходить друг в друга, что Е.К.Сепп объяснил близостью соответствующих нервных центров и что в контексте представлений о зонном строении любых поведенческих реакций читается как выражение деятельности одного и того же отдела мозга, но протекающей в противоречивую переломную фазу высокой субъективной ценности. При очаговых поражениях этого отдела мозга возникают насильственный смех и плач. В состояниях высокой субъективной ценности такие больные независимо от характера переживаемой ими эмоции начинают то плакать, то смеяться.
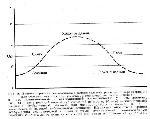
Представим в обобщенной форме субъективно-ценностную зонную организацию поведенческого акта, в который входят эмоционально-выразительные реакции смеха и плача (рис. 8). По-видимому, можно отнести познавательные образы смеха и плача к противопоставленным (мажорной и минорной) зонам умеренной ценности, а познавательные образы хохота, переходящего в рыдания, с одной стороны, и эмоционального нейтрального сосредоточенного внимания к чему-либо, с другой стороны, к противопоставленным зонам высокой и низкой субъективной ценности.
Врожденные реакции смеха и плача выражают наряду с криками и гулением особенности функционального состояния младенца. Однако накапливаемый коммуникативно-познавательный опыт постепенно убеждает ребенка в том, что материнские смех и плач в отличие от вокализаций служат выражению не столько ее функционального состояния, сколько ее эмоционального отношения к нему и к характеру его поведенческих реакций. Это бессознательное открытие усложняет мотивационную сферу ребенка. Знание того, как мать (ухаживающий взрослый) относится к ребенку, становится адаптивно более важным, чем знание ее самоощущения. Начинается дифференциация «своих» от «чужих»; начинается дифференциация лепетных сегментов восходящей звучности (рудиментов смеха) от лепетных сегментов нисходящей звучности (рудиментов плача), а также лепетных сегментов восходяще-нисходящей звучности — речевых аналогов хохота и рыданий.
Лепечущий ребенок, писал Р. Якобсон, может нагромождать артикуляции, несвойственные данному языку или даже языковой группе: согласные любого места образования, смягченные, огубленные, шипящие, аффрикаты, щелкающие звуки, усложненные гласные, дифтонги и т. п. В начале спонтанного лепета его сегменты, по наблюдениям С.М.Носикова, могут состоять из одних вокализаций, близких к а-тембру, которые ребенок произносит 2—6 раз, меняя при этом их длительность, напряженность и громкость или придавая им то твердый приступ, то мягкий х-образный конечный призвук, то назализованность. Несколько позже появляются аналогичные цепи, состоящие из вариантов о-, е-, у-, и-тембров. Еще позже появляются сегменты, в которых начальный шумовой и конечный голосовой компоненты синкретично слиты воедино, такие сегменты в ранний период лепета произносятся равноударно и часто с твердым приступом (м' а — м' а — м' а). На материале относительно более длительных лепетных сегментов обнаруживаются изменения в высоте звука и его интенсивности. Нестабильность звуковысотных и громкостных характеристик является отличительной чертой лепетных сегментов в возрасте 6—8 месяцев. Соотношения шумовых и вокализованных участков в повторно воспроизводимых сегментах спонтанного лепета меняются очень редко, изменения же заключаются в звуковой нюансировке тех и других. Лишь последний сегмент серии может частично или полностью отличаться от предыдущих
м'а — м'а — м'а — м'а — д'а; нъл — нъл — нъл; мъ — мъ — мaj)2.
Специальный интерес для нас представляет тот факт, что лепетные сегменты характеризуются меняющейся звучностью: они могут быть чистыми вокализациями и чистыми шумами, вокализациями с более или менее выраженными шумовыми призвуками и шумами с более или менее выраженными вокальными призвуками; на протяжении некоторых выделенных паузами лепетных сегментов вокализованные и шумовые участки могут возникать повторно. Другими словами, в спонтанном лепете встречаются самые разнообразные типы звучности: восходящей, нисходящей, восходяще-нисходящей (CV,VC,CVC), а также трудно поддающиеся схематизации. Зашумленных вокальных сегментов особенно много в начале периода лепета, что и дало основание Р. Якобсону заметить, что лепет начинается с неопределенных звуков, которые еще не являются ни согласными, ни гласными, или, что то же самое, являются и тем, и другим одновременно.
С. М. Носиков приводит в качестве типичных следующие примеры лепетных цепей:
1) н'-ьх—н'-ьх;
2) а ш'— а ш'— а ш' ;
3) ах — ах — ах — ах ;
4) м'а — м'а — м'а — м'а ;
5) т'а — т'а — т'а ;
6) a.j — a.j — a.j — a.j ;
7) woх— woх— woх.
Спонтанно появляющиеся универсальные для детей любой национальности лепетные сегменты воспроизводятся аутоэхолалически по механизму обратной тактильно-кинестетической связи. В этом механизме врожденные лепетные синергии активируются тактильно-кинестетическими копиями ауто-слуховых образов. В результате формируются как бы рельсы, используя которые ребенок начинает подражательно воспроизводить близкие к его собственным звукам слуховые раздражения из внешней среды. Значение тактильно-кинестетической чувствительности в процессе аутоэхолалического лепета косвенно подтверждается тем фактом, что длина лепетных цепей максимальна именно в конце этой начальной фазы периода раннего лепета.
Чем труднее произнесение лепетного сегмента, тем требуется более интенсивная мотивация. По критерию интенсивности мотивации все лепетные сегменты ребенка 9—10 мес. могут быть систематизированы в три группы: умеренной, высокой и низкой субъективной ценности (рис. 9).
Очевидна преемственность приведенных на рис. 9 субъективных ценностей ребенка с теми, которые были у него сформированы в процессе освоения эмоционально-выразительных реакций смеха и плача (см. рис. 8). Синкретичные лепетные сегменты восходяще-нисходящей звучности характеризуют наряду с хохотом-рыданиями аффективно напряженное поведение; синкретичные лепетные сегменты низкой субъективной ценности наряду с реакциями сосредоточения характеризуют так называемое эмоционально нейтральное поведение ребенка, а синкретичные лепетные сегменты CV и VC умеренной субъективной ценности характеризуют наряду с реакциями смеха и плача наиболее распространенные формы эмоционального поведения мажорного и минорного планов.
Основной структурной единицей русской речи, как известно, являются слоги типа СГ, т. е. единицы, соответствующие в структуре эмоционального высказывания лепетным сегментам восходящей звучности. В условиях близкого физического контакта со взрослым, когда ребенок получает не только слуховые, но также зрительные и тактильно-температурные познавательные образы эмоциональной речи, он подражательно воспроизводит составляющие ее единицы, подкрепляя тем самым сегменты восходящей звучности спонтанного лепета. В результате лепет ребенка начинает приобретать социально регламентированные черты: сегменты именно восходящей звучности начинают в нем отчетливо доминировать. Из великого множества врожденных лепетных синергии в обиходе ребенка остаются лишь те, которые систематически подкрепляются внешними звуковыми комплексами. В возрасте 8—9 мес. вариативность соотношений шумовых и вокальных элементов в сегментах лепета максимальна, затем число сегментов восходящей звучности неуклонно возрастает и с конца первого года их становится больше 80%.
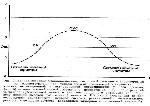
Лепетные сегменты CV и VC представляют собой единицы противопоставленных зон умеренной субъективной ценности. Согласно закону мотивационного оптимума в условиях именно умеренной мотивации создаются наилучшие возможности для подражательного воспроизведения единиц материнской речи, что и реализуется в их максимальной детализации.
Имея в виду классификацию типов русских слоговых единиц СГ по числу контрастирующих признаков между составляющими их согласными и гласными (табл. 1), можно принять, что наиболее употребительная в эмоциональной речи зрелого человека зона CV-сегментов имеет пять соответствующих внутренних градаций субъективной ценности. CV-сегменты с глухой смычкой любого вида обладают наибольшей субъективной ценностью в пределах единиц данной зоны, тогда как наименьшей субъективной ценностью обладают сегменты, равномерно зашумленные (вокализованные) на всем их протяжении (сонанты).
Существенно, что на данном этапе развития ребенком принимаются во внимание не физические характеристики конкретных согласных той или иной из их групп и даже не интегральные признаки данной группы в целом. Ведь операционной единицей для него еще не является слог СГ, описываемый совокупностью признаков слогового контраста. Ребенок оперирует всего лишь синкретичными сегментами с той или иной степенью восходящей звучности на его протяжении, которые он оценивает по субъективным критериям. Однако нельзя не отметить, что структура отдельных CV-сегментов, входящих в зону, и системная структура зоны в целом предопределяют характер будущих слоговых единиц СГ. Через их посредство оказываются предопределены и будущие конкретные согласные. Табл. 1 демонстрирует, в частности, почему развитие совокупности согласных звуков в детской речи начинается с взрывного звука, образуемого в передней части полости рта (лабиального взрывного, который в русском языке представлен согласным я), противопоставляемого потом соответствующему носовому(в русском языке согласному м). Противопоставление этих согласных звуков генетически предопределяется их соотношением с шумовыми максимумами из CV-сегментов, обладающих наибольшей и наименьшей субъективной ценностью в структуре данной зоны.
Наличие подобных же градаций субъективной ценности, хотя и значительно менее детализированных, возможно, следует допустить и для симметричной зоны синкретичных сегментов типа VC.

Слоговые сегменты русской речи типа Г обладают в систематизации сегментов восходящей звучности нулевой субъективной ценностью, но, чтобы придать таким сегментам слышимой речи нулевую оценку, ребенок должен полностью затормозить ранее сложившуюся у него систему субъективных оценок, в которой как раз чистые вокализации и составляли ценностные единицы. Сильный тормозной эффект необходим и для того, чтобы оценить сегменты восходящей звучности, в которых шумовой максимум образуется за счет сонантов, ведь в таких максимумах шумовые и вокальные элементы сосуществуют. Минимальное торможение предшествующих эмоциональных оценок можно предположить по отношению к сегментам с максимально выраженным контрастом между их шумовыми и вокальными максимумами. В контексте этих положений становится понятным смысл мощных тормозных влияний стриарных ядер на нижележащие в мозговой иерархии паллидарные ядра. Только при этом условии фазические врожденные синергии стриарных ядер могут реализоваться на фоне тонических врожденных синергии паллидарного уровня.
Усиленная акцентуация материнской речи, обращенной к ребенку, с обилием в ней эмоционально выделенных ударных слогов (Сашенька, дорогой ты мой), а также отмеченные К.И.Чуковским эпизоды страстных ритмических обращений кормящей матери к младенцу «Буцики, Муцики, Дуцики» или «рубашонка, шонка, шонка»), во время которых мать ласкает и целует его, ведут к тому, что ударные слоги в совокупности с их зашумленными предударными и заударными «соседями» получают в речи матери единое звучание меняющейся звучности: то нарастающей, то спадающей. Ощущая эти эффекты звучности, ребенок подражательно воспроизводит их в своих лепетных реакциях и начинает таким образом операционно осваивать звуковую структуру целостных псевдослов, соотносящихся в материнской речи уже не со слогами, а с частями фонетических слов, фонетическими словами и их сочетаниями.
Естественно, что такое возрастание объема операционных единиц означает для ребенка переход вновь на более высокий мотивационно-активационный уровень поведения, что, в частности, знаменует приближение следующего периода в коммуникативно-познавательном развитии ребенка — периода лепетных псевдослов.
4. Период лепетных псевдослов (9—10 мес— 12—14 мес.)Анализ и синтез — две стороны в диалектике работы мозга. Единство этих двух сторон в психофизиологическом развитии ребенка отчетливо обнаруживается к концу первого года жизни.
На протяжении всего первого года жизни ребенок отражает действительность в виде диффузных слитных комплексов ощущений: Это еще не «образы предметов», а «образы ситуаций»1. Тенденцию связывать на основе эмоционального впечатления самые разнообразные и не имеющие внутренней связи элементы в нерасчлененный единый образ Клапаред назвал синкретизмом детского восприятия, а Блонский — бессвязной связностью детского мышления. Л.С.Выготский описал то же явление как «тенденцию замещать недостаток объективных связей переизбытком субъективных связей и принимать связь впечатлений и мыслей за связь вещей». Это перепроизводство субъективных связей имеет, по Л.С.Выготскому, огромное значение для развития детского мышления, так как составляет основу для дальнейшего процесса отбора соответствующих действительности и проверяемых практически связей, в том числе связей, добавим мы, имеющих отношение к коммуникативному поведению.
Если вопрос матери: «Где мама?» — задавать младенцу первого полугодия жизни, лежащему у няни на руках, когда няня стоит в детской комнате, и подкрепить этот вопрос тем, что мать будет входить, целовать малыша и ласково с ним разговаривать, то у него вырабатывается условно рефлекторная реакция в виде поворота головы в сторону матери и ответной улыбки. Но эти знаки понимания заданного вопроса тотчас же исчезнут, стоит лишь задавать его не матерью, а няней или той же матерью, но в другой комнате или с другой интонацией или если изменить положение ребенка на няниных руках. Приводя этот пример, М.М.Кольцова сообщает, что во втором полугодии жизни такой нечленимый комплекс ощущений начинает дифференцироваться и ряд его компонентов перестает быть обязательным для того, чтобы ребенок повернулся в сторону матери и заулыбался ей в ответ на тот же вопрос. Становятся несущественными вестибулярные ощущения, многие зрительные, некоторые звуковые, но «общезвуковые» раздражения — тембр голоса матери и интонация вопроса — должны оставаться теми же самыми.
Дифференциации сенсорной стороны эмоционального поведения ребенка сопутствует и дифференциация его двигательной стороны. Вместо генерализованного двигательного оживления ребенок во втором полугодии жизни в ответ на эмоциональное обращение к нему поворачивает голову и взор в сторону приближающегося взрослого или похлопывает в ладоши, когда мать напевает: «Ладушки, ладушки...» и т. п.
Прогрессивной аналитической дифференциации подвергаются и сами «общезвуковые» интонационные компоненты синкретичных предметных комплексов. Под влиянием образцов материнской речи одни элементы спонтанных речевых реакций младенца подкрепляются и дифференцируются, другие затормаживаются.
Из «общезвуковых» комплексов сначала вычленяются и дифференцируются вокализации, потом сегменты меняющейся звучности. В последней четверти первого года ребенок начинает бессознательно оперировать цепями сегментов преимущественно восходящей звучности.
Таким образом, форма или означающие эмоционально-выразительных знаковых средств становятся все более аналитичными. Этот процесс наблюдается, однако, одновременно со встречным процессом возрастания синтетичности содержания соответствующих знаковых средств или их означаемых. Вокализации характеризуют эмоциональное состояние того, кто их воспроизводит (я), сегменты восходящей звучности — эмоциональное отношение этого лица к его партнеру (ты), цепи таких сегментов или псевдослова — эмоциональные значения предметных объектов коммуникативной ситуации (он, она, они) и, наконец цепи псевдослов — эмоциональные значения отношений между участниками коммуникативной ситуации, а также между участниками и предметными объектами (я — ты, ты — он, я — он, он — она и пр.).
В процессе операционного освоения цепей из сегментов восходящей звучности ребенок в конце периода раннего лепета переходит на более высокий уровень коммуникативно-познавательной активности. Это обстоятельство благоприятствует скачку в развитии мотивационной сферы ребенка — скачку, который его мать стимулирует спецификой своего эмоционального поведения. Осуществляя эмоциональное взаимодействие с ребенком, она систематически обращает его внимание на различные объекты окружающей действительности и тем самым «метит» их, по выражению А. Н. Леонтьева, своей эмоцией. Ребенок усваивает эти эмоциональные метки предметов вместе с соответствующими им звуковыми образами. Подражая, матери и используя уже доступные ему цепочки лепетных сегментов, он воспроизводит лепетные псевдослова, по форме все более приближающиеся к звуковой форме слов родного языка.
Наблюдения показывают, что первоначальные лепетные цепи из стереотипных вокализаций (а-а-а и т. п.) сменяются в 8—10 мес. цепями из стереотипных сегментов с шумовым началом (тя-тя-тя и т. п.); затем в 9—10 мес. появляются цепи из сегментов со стереотипным шумовым началом, но с уже меняющимся во-, кальным концом (тё-тя-те и т. п.) и, наконец, в 10—12 мес. появляются цепи из сегментов с меняющимися шумовыми началами (ва-ля, ма-ля, да-ля; па-на, па-па-на, а-ма-на, ба-ба-на и т. п.).
В цепях последнего рода, которые иногда называют «рифмованным вздором», отдельные сегменты оказываются выделенными сравнительно с остальными в данной цепи. Выделенность сегмента может восприниматься в связи с его относительно большей длительностью, громкостью, высотой тона. Иногда данный лепетный сегмент цепи оказывается выделенным одним средством, а другой — каким-либо иным. Чаще всего выделенность лепетного сегмента связана с относительно большей длительностью его вокального, шумового или того и другого компонентов одновременно, особенностью таких лепетных цепей нередко оказывается то, что как раз в их наиболее длительных сегментах находятся «безударные» гласные ь, ъ, э, тогда как перед ними и за ними в более кратких сегментах звучат гласные, характерные для ударных слогов сформированной речи. Чем старше ребенок, тем чаще выделенность лепетных сегментов обусловливается совокупностью нескольких средств, прежде всего длительности. Это соответствует представлению о природе ударения в потоке русской речи.
Очевидно, что отмеченная последовательность в формировании лепетных цепей связана с возрастающей сложностью тормозных влияний на уже освоенные ребенком синергии. Затормаживанию подвергаются воспроизводимые по механизму обратной тактильно-кинестетической связи то вокальные, то шумовые, ,то те и другие компоненты сегмента вместе, что делает возможным варьирование соответствующих элементов цепи или даже самих цепей.
На результат подобного рода «упражнений» оказывают влияние образцы материнской речи. Длина лепетных цепей в возрасте 8 мес. максимальна и составляет в среднем 4—5 сегментов, хотя в отдельных случаях она может достигать 12 сегментов. Затем среднее количество сегментов цепи начинает падать и составляет к 13—16 мес, по тому же автору, 2,5 сегмента, что близко к среднему числу слогов в словоформах русской речи — 2,3. Регламентируются и особенности качественной структуры лепетных сегментов в соответствии с их соотносительной длительностью в пределах данной цепи: наиболее выделенный по своей длительности сегмент начинает характеризоваться наиболее четкой структурой своих шумовых и вокальных компонентов, более же краткие сегменты характеризуются относительно стертой редуцированной звуковой структурой.
Подчёркнутая акцентуация материнской речи, безударные слоги в которой нередко произносятся шепотом, способствует тому, чтобы ребенок последней четверти первого года жизни осваивал в качестве эмоциональных псевдослов, прежде всего такие лепетные цепи, которые легко уподобляются коротким, а потом и более длинным словоформам аффективных высказываний матери. Чем выше, с точки зрения матери, ценность ее обращений к ребенку, тем больше контрастность ударных и безударных частей составляющих их словоформ. Словоформы матери, которые выражают эмоции высокой субъективной ценности, формируют из лепетных цепей ребенка псевдослова тоже высокой субъективной ценности.
Постепенно затухающие цепи доминируют в спонтанном лепете ребенка, чему соответствует преобладание в речи окружающих взрослых хореических* слов. Ребенок первого года жизни «живет в окружении хорея — размера, который соответствует его ритмической наклонности». Хорей преобладает в речевых обращениях взрослых к ребенку, большинство русских уменьшительных имен имеет размер хорея, хореичны колыбельные песни и пр. Как дифференцировка к хореическим псевдословам нисходящей звучности начинают накапливаться и ямбические псевдослова восходящей звучности.
Выделенность крайних сегментов лепетных псевдослов прослеживается с начала их возникновения. При этом резкое преобладание, выделенности начального сегмента в структуре псевдослова (до 90% от их общего числа) постепенно (к 13—14 мес.) уравнивается не менее частым выделением конечного сегмента. Позднее (к 18 мес.) эти структуры даже начинают отчетливо преобладать.
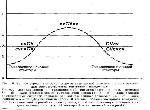
Существенно, что тембровая определенность при произнесении хореических псевдослов падает от их начала к концу, в силу чего они получают минорное звучание. Напротив, тембр при произнесении ямбических псевдослов проясняется от их начала к концу, что и делает звучание таких псевдослов мажорным. Мажорное звучание псевдослов ямбической структуры объясняет, почему при нормальном развитии ребенка именно они становятся постепенно преобладающими. Псевдослова как хореической, так и ямбической структуры относятся к эмоционально-выразительным средствам зоны мотивационного оптимума.
Наиболее длинные лепетные цепи с мало контрастирующими лепетными сегментами приобретают характер целостных псевдослов. Будучи наименее многочисленными, такие псевдослова, тем не менее обнаруживаются наряду с другими их типами и составляют совокупность псевдослов низкой субъективной ценности.
Представим структурные типы псевдослов в соответствии с их субъективно-ценностными зонами (рис. 10).
Падение в русской речи синтагматического ударения на ударный слог последнего слова в составе минимального высказывания — синтагмы способствует тому, что ребенок в конце описываемого периода начинает осваивать комплексы псевдослов как длинные конечно выделенные псевдослова.
Оперирование возросшими объемами слухоречевого материала означает принципиальное возрастание коммуникативно-познавательной активности ребенка, что служит подспудным началом приближения нового периода в его развитии.
5. Период позднего мелодического лепета (12—14 мес— 18—20 мес.)Вступление ребенка в начале второго года жизни в период позднего мелодического лепета вновь означает усложнение его мотивационной сферы с появлением нового типа мотивов. В периоде гуления закладывались бессознательные эмоциональные основы самоощущения или «я» личности, в периоде раннего лепета — отношение будущей личности к другому человеку — партнеру по коммуникативно-познавательному взаимодействию («ты»), а в периоде лепетных псевдослов — эмоциональные основы отношения личности к объектам коммуникативно-познавательной ситуации («он, они»). Теперь, в периоде позднего мелодического лепета, внимание ребенка привлекают те эмоциональные оценки, которые окружающие его взрослые дают отношениям между компонентами коммуникативно-познавательной ситуации (между ее партнерами, партнерами и предметами, предметами друг с другом). Поскольку эти оценки выражаются в эмоционально-выразительной речи мелодикой, то именно к мелодике ребенок прислушивается. Подражательно воспроизводя мелодические особенности речи взрослых вначале вместе с меняющейся звучностью голоса, ребенок продолжает регламентировать и нормировать свои эмоционально-выразительные «общезвуковые» голосовые или интонационные комплексы.
Переориентации внимания ребенка второго года жизни на эмоциональные оценки отношений между компонентами коммуникативно-познавательной ситуации способствуют особенности поведения взрослых. Экспериментальные исследования показали, что обращения взрослых-, особенно матери, к ребенку раннего возраста четко подразделены на смысловые части, которые воспроизводятся повторно и при этом в каждой из них интонационно выделяются их ключевые слова.
Минимальными смысловыми единицами высказывания служат, как известно, синтагмы. Академик Л.В.Щерба определял синтагму как «кратчайший отрезок речи, который мы можем выделять, нисколько ее не нарушая, и который в данном контексте и в данной ситуации соответствует единому понятию». Синтагма может состоять из нескольких слов или из одного слова. Приводя примеры синтагм, даваемые Л.В.Щербой: «Вокруг нас / все цвело / благоухало / и радовало взор»; или «Приятно / сидеть в уютной комнате / и слушать хорошую музыку», Л.Р.Зиндер и Ю.С.Маслов (1982) подчеркивают, что главное отличие слова от синтагмы связано не с их «форматом» (слово меньше или равно синтагме), а с их функцией. Слово обозначает понятия, которые уже выработались, закрепились и имеют устойчивое выражение в данном языковом коллективе. Синтагма же выражает те понятия, которые возникают в данной конкретной ситуации, и существуют только в данном акте мысли. Другими словами, это как раз те понятия, которые выражают отношения между компонентами коммуникативных ситуаций, к эмоциональному, субъективному отражению которых и привлекают внимание ребенка второго года жизни окружающие его взрослые.
Подражая взрослым в процессе эмоционального общения с ними и опираясь на выработанные в предыдущем периоде двигательные сноровки, ребенок приступает на втором году жизни к освоению синкретичных звуковых комплексов, соответствующих синтагмам речи взрослых, но не тождественных им, поскольку понятийное языковое содержание синтагмы ребенку этого возраста еще недоступно. Такие эмоционально-выразительные звуковые комплексы, коррелирующие с лексико-синтаксически оформленными синтагмами зрелой речи, будем называть по аналогии с псевдословами псевдосинтагмами.
Псевдосинтагма, так же как вокализации, лепетные сегменты Исходящей звучности и лепетные псевдослова, составляют звуковые компоненты эмоционально-выразительного поведения, в которое входят наряду с ними взорные и мимические движения, жесты и пантомима. Так, например, при побуждении малыша проглотить ложку супа мать произносит: «Глотай...» Малышу начала второго года жизни значение слова «глотай» может быть Л.ВЩерба. Языковая система и может быть еще неизвестно, но это в конкретной ситуации эмоционального взаимодействия с матерью и не нужно. Материнские обращения к ребенку, даже если они имеют структуру побудительных синтагм, часто заканчиваются повышением основного тона голоса. Б.М.Теплов считал, что подъем мелодической линии вверх, ее «незаконченность» выражает эмоциональное переживание, которое можно, А правда, очень приблизительно описать как чувство напряжения, Я не получающее разрешения. Ребенок, воспринимая такие побудительные синтагмы матери, например «Глотай...», видит, что мать не дает никакого знака окончания коммуникативного взаимо действия. Напротив, она продолжает смотреть на него и держать поднесенную к его рту ложку. Всем своим видом она показывает, что ждет от него ответной реакции. Напряженный неустойчивый тембр, которым завершилась голосовая реакция матери, тоже требует разрешения. Когда же ребенок выполнит то, что мать от него требует, от нее следует комплекс знаков одобрения — она перестает фиксировать его взором, опускает руку, улыбается и произносит совсем в другом тембре с нисходящим мелодическим движением слова похвалы (например: «Вот молодец»).
Таким образом, восходящий мелодический интервал в сопровождении изменения звука голоса в сторону неустойчивого тембр? выражает (и чем он круче, тем резче) возрастание субъективно? ценности эмоционального состояния говорящего, семантика чего объясняется изменением предметной ситуации, в нашем примера тем, что ложка супа из тарелки подносится ко рту ребенка. Нисходящий мелодический интервал в сопровождении изменений тембр; обратного типа выражает (и опять-таки, чем он круче, те?» резче) падение субъективной ценности эмоционального состояние говорящего, смысл которого также раскрывается в изменении коммуникативно-познавательной ситуации. Восходящее или нисходящее движение тембра, естественно, обнаруживается наиболее отчетливо в вокальной структуре выделенного сегмента ключевого слова данной синтагмы. В нашем примере таким участком вокальной структуры будет гласный, а ударного слога в слове глотай. Пониманию эмоциональных мелодических значений и усвоению национально-специфических оттенков их звуковой формы способствуют традиционные игры взрослых с детьми конца первого - начала второго года жизни. Такова, например, в русской культур игра в «козу». Взрослый разводит указательный и средний малыш; руки и, приближая их к тельцу ребенка, произносит с восходящим мелодическим движением тембра: «Коза-коза...», затем еле дует напряженная пауза, разрешающаяся тем, что взрослый, прикасаясь к ребенку, произносит: «Забодает». Прикосновение руки взрослого, часто с элементами щекочущих движений, перелом мелодического движения на ударном слоге слова «забодает» знаменуют кульминацию этого эмоционально положительного для ребенка акта общения со взрослым: эмоциональное переживание ребенка в этот момент достигает наивысшего напряжения. Кульминационный момент эмоционального переживания делает соответствующий сегмент звукового комплекса субъективно тоже наиболее ценным.
Аналитическая способность воспринимать мелодическое движение тембра на протяжении псевдосинтагмы отдельно от восприятия временной структуры псевдослов вырабатывается у ребенка постепенно в предметно детерминированных коммуникативно-познавательных ситуациях. Дифференцирующее значение коммуникативно-познавательных ситуаций в описываемом возрасте чрезвычайно велико. Колыбельная матери, обращенная к ребенку и связанная с ласками, и пение старшего брата, прыгающего и играющего около кроватки, — различие этих ситуаций огромно, пусть даже исполняется одна и та же мелодия. Для ребенка раннего и дошкольного возраста разница между поющим и играющим на инструменте на первых порах заметнее, чем между двумя мелодиями, исполненными одним и тем же способом.
Включенность мелодических подъемов и спусков в различные ситуационные контексты помогает дифференцировать не только мелодическую кривую высказывания взрослого от ритмических структур входящих в него отдельных слов, но и сами мелодические кривые друг от друга.
Итак, можно заключить, что материнская речь четко подразделяется на синтагмы для того, чтобы ребенок мог подражательно освоить совмещенные с фонетической формой синтагм лепетные псевдосинтагмы. Но ведь псевдосинтагмы состоят из мелодических интервалов, соединяющих тембр исходной, кульминационной и конечной точек высказывания. Поэтому псевдослова, репрезентирующие эти тембровые участки, и нужно, по-видимому, рассматривать в качестве системных коррелятов ключевых слов материнской речи. Выделяя ключевые слова, мать привлекает внимание ребенка к тембрам соответствующих псевдослов и тем самым помогает ему воспринимать эмоциональный, а затем и предметный смысл высказывания.
Наличие качественных изменений тембра голоса по мере восходяще-нисходящего движения мелодии характерно для эмоциональной речи. В этом отношении интересны экспериментальные наблюдения Е.В.Назайкинского относительно средств выражения вопросительной интонации в певческих эмоциональных высказываниях. Более яркая интонация вопроса, считает он, как правило, связана с наиболее верхними нотами, увеличивающими напряженность звучания. При этом вопросительные интонации «гармонизуются» устойчивыми мажорными трезвучиями чаще там, где имитируется бытовая, иначе говоря, ситуационно обусловленная Речь умеренной субъективной ценности; там же, где бывает необходимо подчеркнуть высокую субъективную ценность задаваемых вопросов (в драматических певческих партиях), используются с той же целью диссонирующие аккорды, армонизация вопросительных высказываний диссоциирующими аккордами характерна и для контекстной речи, особенно для случаев, где лексико-синтаксическая структура высказывания (отсутствие начального вопросительного слова) Не дает достаточных опор для квалификации его в качестве вопросительного.
Таким образом, звуковые особенности псевдосинтагм, на которые в зрелой речи «накладываются» фонетические формы синтагм, подчеркиваются или растормаживаются, по-видимому, в двух случаях: по мере роста субъективной ценности задаваемых вопросов и по мере падения ситуационной и контекстной языковой избыточности речи. В вопросно-ответных репликах социально-ролевых диалогов взрослых крутизна мелодических подъемов и спусков — свидетельство высокой субъективной ценности высказываний.
Ранее уже упоминалось, что высота голоса лепечущего ребенка непостоянна и колеблется в пределах как лепетных сегментов, так и лепетных псевдослов. Соответствующие стабилизирующие сноровки вырабатываются у ребенка под влиянием образцов речи матери. Анализ мелодических интервалов псевдослов в течение всего времени их формирования из лепетных цепей показал, что начала псевдослов чаще всего движением мелодии не выделяются, а если и выделяются, то скорее ее восходящим движением. Концы же псевдослов в большинстве случаев выделяются приблизительно в 70% случаев нисходящим движением мелодии и лишь в 17% случаев — восходящим.
На протяжении целостной псевдосинтагмы определенность исходного тембра сначала уменьшается, а затем, начиная с кульминационной вершины, начинает вновь возрастать; при этом предкульминационные и закульминационные отрезки псевдосинтагм могут быть резко укороченными.
Такие качественные изменения тембра, связанные с развитием мелодической кривой, становятся особенно заметными на сегментах речи, объединяющих несколько слов, т. е. на синтагмах. Согласно правилу С.И.Бернштейна, субъект слышит только то, что он умеет уже воспроизводить сам. Поэтому понятно, что тембровые изменения мелодики ребенок начинает слышать в эмоциональной речи взрослых, когда он уже операционно освоил воспроизведение лепетных цепей из 2—3 псевдослов, т. е. к концу первого года жизни. Расцвет модулированных лепетных монологов все же относится скорее всего к полутора годам.
Лепет ребенка полутора-двух лет, когда он в игровых ситуациях подражает социально-ролевому поведению взрослого, получил название jargon babbeing (лепетный жаргон). На расстоянии, кажется, что ребенок разговаривает, хотя на самом деле он лишь воспроизводит характерные для эмоциональной речи взрослого, расчлененной на синтагмы, подъемы и спуски мелодической кривой.
Имея в виду системную логику формирования вокализаций, сегментов восходящей звучности и псевдослов, можно допустить, что становление совокупности псевдосинтагм в периоде позднего мелодического лепета тоже начинается с единиц высокой субъективной ценности, характеризующихся наиболее резкими подъемами и спадами мелодической кривой, вначале на протяжении сравнительно кратковременных промежутков. Потом формируются функциональные единицы умеренной субъективной ценности с наиболее дифференцированными формами, характерными, с одной стороны, для начальной и, с другой стороны, для конечной части эмоциональной реакции. В последнюю очередь совокупность эмоционально-выразительных мелодических единиц пополняется псевдосинтагмами низкой субъективной ценности с нечеткой структурой. Представим принципиальную схему всех этих единиц (рис. 11).
Развитие операционно-технических средств эмоциональной выразительности в этом периоде завершается тем, что ребенок в своих адаптивно значимых подражательных усилиях начинает воспроизводить цепи из 2—3 псевдосинтагм, объединенных единой мелодической кривой. Эти операционные достижения вновь даются ребенку ценой интенсификации коммуникативно-познавательной Мотивации и в связи с этим энергетических трат.
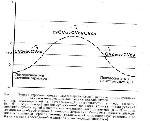
Клинические или диагностические методы требуют не только точного измерения, но и творческого истолкования. (Л.С.Выготский)
1. Основные диагностические задачи и их актуальностьПолвека развития отечественной дефектологии после смерти Л.С.Выготского, но в завещанном им направлении ознаменовались резкими изменениями всей дефектологической практики, в том числе диагностической. Однако те проблемы диагностики развития, которые останавливали на себе внимание Л.С.Выготского, остаются актуальными и по сей день, хотя, конечно, на более высоком уровне состояния науки в целом и дефектологии в частности.
По-прежнему актуально положение о том, что без разработанной теории развития дефектологическая диагностика или вязнет в эмпирии, или подменяется постановкой чисто медицинских диагнозов. И сегодня можно сказать вслед за Л.С.Выготским, что «развитие есть ключ к пониманию распада, а распад — ключ к пониманию развития». Выступая против сведения дефектологической диагностики к чисто медицинской, мы в то же время продолжаем бороться за многостороннее понимание термина «развитие». Диагностика развития не может ограничиваться только психическим ее аспектом. «Идеально полный диагноз развития охватывает все явления психического и социального порядка в связи с анатомическими и физиологическими симптомами развития». Так же как в 20—30-е годы, мы стремимся к преодолению чисто симптоматологического подхода в диагностике аномального развития и стараемся видеть за внешними симптомами внутреннюю причинную сущность процесса. Определяя природу того или иного вида отсталости ребенка, мы обращаем внимание на позитивные стороны его личности и на этой основе строим воспитательно-коррекционную работу. Значение в дефектологической диагностике качественных новообразований личности, динамических и структурных особенностей развития ребенка, первичных и системных вторичных (третичных) симптомов недоразвития и аномального развития не только не уменьшилось в наши дни, но, пожалуй, даже возросло, поскольку вырос и объем наших медико-педагогических знаний.
Особенно важно соблюдение отмеченных Л.С.Выготским принципов дефектологической диагностики, когда мы имеем дело с последствиями коммуникативно-познавательных аномалий раннего возраста. В этой сравнительно новой для дефектолога диагностической области все упомянутые выше положения имеют исключительно большое значение.
Перечислим основные диагностические задачи, встающие перед дефектологом, когда он заподозрит в основе той или иной типологической формы аномального развития ребенка недостаточную сформированность коммуникативно-познавательного опыта раннего возраста.
1. Описанные Нами пять следующих друг за другом периодов, в целом совпадающих с функциональными периодами, выделенными на основании совсем других признаков микроневропатологами (см. выше), детализируют, если использовать терминологию Д.Б.Эльконина (рис. 1), первую половину эпохи раннего детства. В систематизации Д.Б.Эльконина потребностно-моти-вационные новообразования обусловливаются сменой ведущей деятельности ребенка, в нашей же — сменой неосознаваемых им ведущих мотивирующих ощущений и образов, в пределах одной и той же деятельности «непосредственно эмоционального общения». Установление аномалий в периодике раннего возраста составляет первую диагностическую задачу.
2. В развитии каждого возрастного периода отчетливо обнаруживаются две фазы. Формы новых, более совершенных операционно-технических средств эмоциональной выразительности начинают вызревать незаметно и подспудно во второй фазе того или иного периода на фоне интенсификации соответствующей мотивации. Это приводит к расширению объема мотивирующих ощущений и образов и при соответствующих требованиях социальной среды к качественной перестройке субъективных ценностей ребенка. Возникает потребностно-мотивационное новообразование, которое диктует в свою очередь необходимость дальнейшего операционно-технического совершенствования — начинается первая фаза нового периода развития. Итак: «в выходе за предвидимые пределы или масштабы заключена сущность развития — и на уровне отдельного психического процесса, и применительно к индивидуальному развитию личности, и по отношению к развитию способностей человека в общественно-историческом процессе. Результат деятельности... всегда богаче, содержательнее Цели, поставленной в начале деятельности». Содержание второй Диагностической задачи заключается в установлении того, на какой фазе того или иного периода раннего возраста нарушалось или остановилось коммуникативно-познавательное развитие ребенка и что лежит в основе нарушения: потребностно-мотивационный или операционно-технический дефект или, наконец, недостаточность или неадекватность внешнесредовых воздействий.
3. Каждый шаг в развитии коммуникативно-познавательной потребности связан с относительной интенсификацией мотивационно-активационных усилий ребенка и изменением зоны мотивационно-активационного оптимума. Таким образом, вывод Н.С.Лейтеса о том, что каждый период школьного детства есть качественно своеобразная ступень развития активности ребенка, справедлив и по отношению к периодике раннего детского возраста, что очень важно для патогенетического* понимания разных форм аномального детства. Не менее важно для дефектолога и то, что высокая интенсивность коммуникативно-познавательных мотиваций может быть лишь итогом соответствующего развития, условием которого является предварительное падение интенсивности исходных оборонительных мотиваций. Интенсивная оборонительная мотивация сначала снижается, с тем, чтобы могла сформироваться коммуникативно-познавательная мотивация, а затем коммуникативно-познавательная мотивация постепенно интенсифицируется. Установление адекватности мотивационно-активационной стороны возрастным коммуникативно-познавательным задачам ребенка является третьей диагностической задачей.
4. Любое психическое новообразование предполагает своевременное созревание и полноценную активность определенных отделов центральной нервной системы: стволовых подкорковых и корковых. Поэтому четвертая диагностическая задача предполагает увязывание особенностей психического развития ребенка с результатами его неврологического, шире, клинического обследования с привлечением структурно-функциональных неврологических знаний для выяснения перспектив развития и направленности кор-рекционно-воспитательной работы.
Не все из этих задач могут быть убедительно решены в каждом случае аномального развития, но кажется целесообразным всегда иметь их в виду — и при проведении разовых обследований, и в процессе систематического педагогического взаимодействия с ребенком. Без педагогических фактов, как бы они ни были неполны, нет дефектологической диагностики.
Итак, понимание периодики раннего коммуникативного-познавательного развития и преемственности как самих периодов, так и их фаз позволяет, с одной стороны, лучше понимать патогенез различных аномалий развития у детей дошкольного и школьного возрастов, а с другой стороны, прогнозировать будущий тип аномального развития у детей с коммуникативно-познавательным расстройством раннего возраста.
Понимая патогенез или механизм той или иной формы аномального развития, мы получаем возможность проведения рациональной патогенетически обоснованной коррекционно-воспитательной работы, а делая обоснованные прогнозы аномального развития
ребенка, мы можем развернуть своевременную профилактическую лечебную и педагогическую работу, которая значительно уменьшит системные последствия коммуникативно-познавательных расстройств раннего возраста.
2. Возрастные нормативы эмоционального коммуникативно-познавательного развитияВнешние проявления потребностно-мотивационных и опера-ционно-технических новообразований образуют в совокупности определенные возрастные симптомокомплексы, выявляя которые диагност-дефектолог и судит о своевременном или задержанном (шире — аномальном) развитии обследуемого. Однако останавливаться в дефектологической диагностике на выявлении возрастных симптомокомплексов нельзя. Необходимо «...от изучения симптомокомплексов перейти к изучению процессов развития, обнаруживающих себя в этих симптомах», ибо «объектом научного исследования (как и объектом научной диагностики.— Е. В.) всегда является то, что обнаруживает себя в симптомах». Только вскрытие за внешней феноменологией внутренних причинных, патогенетических, или, как их называл Л.С.Выготский, каузально-генетических, связей может помочь квалификации того или иного возрастного симптомокомплекса в качестве патологического.
Первым шагом на пути такой квалификации становится оценка возрастной нормативности (ненормативности) выявленных симптомокомплексов, что уже принципиально невозможно без понимания закономерностей развития. Термин «нормативный» обозначает, по Л.С.Выготскому, тот тип психологии, который систематически вырабатывает объективные стандарты и описательные формулировки для сравнительной оценки умственных способностей и возможностей...
Наличие в распоряжении диагноста некоего эталонного или нормативного представления о структуре и динамике диагностицируемого явления или процесса является предпосылкой постановки любого диагноза. Диагностика аномального развития предполагает знание нормативных закономерностей соматического, сенсомоторного и психического развития ребенка. В таблице 2 представлены некоторые нормативы коммуникативно-познавательного развития ребенка раннего возраста, как они нам рисуются на основе наших исследований его звуковых эмоционально-выразительных реакций. (Аналогичные нормативы соматического и сенсомоторного развития можно найти в книге Л.Т.Журбы и Е.М.Мастюковой).
Таблица 2. Нормативные звуковые симптомокомплексы детей раннего возраста в соответствии с потребностно-мотивационными нормативами
| Периоды и их фаз | Ведущий источник мотивирующих ощущений и образов | Психические новообразования ребенка | ||
| Потребностно-мотивационная сфера ребенка | Операционно-техническая сфера ребенка (звуковые комплексы эмоциональной выразительности) | |||
| I | I | Дискомфортные состояния | Оборонительная (защитная) потребность | Интенсивные младенческие крики как одно из выражений врожденных программ оборонительного поведения |
| II | Дискомфортные и комфортные состояния, в частности связанная с ними интенсивность аутослуховых комплексов | Потребность в эмоциональном взаимодействии с матерью с «заражением» эмоцией той же интенсивности и переживанием аналогичного своего собственного эмоционального состояния | Крики сниженной интенсивности — первоначальные звуки коммуникативно-познавательного типа — гукание и гуление | |
| II | I | Эмоциональном поведение матери, в частности тембр гласных звуков ее речи | Потребность в эмоциональном взаимодействии с матерью с «заражением» эмоцией той же качественной специфики и переживанием аналогичного своего собственного эмоциональном состояния. | Подражательное гуление с воспроизведением в нем характерных для эмоциональной русской речи вокализаций |
| II | Эмоциональном поведение матери, в частности тембр гласных звуков в слоговых структурах меняющейся звучности | Та же потребность повышенной интенсивности | Подражательное гуление с воспроизведением в нем характерных для эмоциональной русской речи вокализаций в структуре первоначальных лепетных сегментов меняющейся звучности | |
| III | I | Эмоциональное поведение матери и замещающих ее лиц («своих взрослых»), в частности меняющаяся звучность слоговых единиц их речи | Потребность в эмоциональное взаимодействии с матерью и замещающими ее лицами («своими взрослыми») с отражением их эмоциональное отношения к себе | Подражательный лепет с воспроизведением в нем характерных для русской речи сегментов восходящей звучности |
| II | Эмоциональное поведение матери и «своих взрослых», в частности меняющаяся звучность слоговых ритмических структур их речи | Та же потребность повышенной интенсивности | Подражательный лепет с воспроизведением в нем сегментов восходящей звучности в структуре целостных псевдослов | |
| IV Период лепетных псевдослов (9—10 мес — 12—14 мес.) | I | Эмоциональное поведение матери и взрослых вообще, в частности ритмическая структура их речи | Потребность в эмоциональное взаимодействии со взрослыми вообще для отражения их эмоциональное отношения к предметным ситуациям и отдельным объектам этих ситуаций | Время «рифмованного вздора» с подражательным воспроизведением ребенком характерных для русской речи ритмических структур |
| II | Эмоциональное поведение матери и взрослых вообще, в частности ритмическая структура мелодических единиц их речи | Та же потребность повышенной интенсивности | Подражательное воспроизведение ритмических структур русской речи в структуре целостных псевдосинтагм | |
| V Период позднего мелодического лепета (12—14 мес— 18—20 мес.) | I | Эмоциональное поведение окружающих ребенка взрослых и детей, в частности мелодика их речи | Потребность в эмоциональное взаимодействии с окружающими взрослыми и детьми для отражения их эмоциональное отношения к взаимосвязям между коммуникантами, коммуникантами и объектами предметных ситуаций, объектами предметных ситуаций между собой | Поздний мелодический лепет с подражательным воспроизведением лепетных псевдосинтагм |
| II | Эмоциональное поведение окружающих ребенка взрослых и детей, в частности мелодика структурных частей высказывания | Та же потребность повышенной интенсивности | Поздний мелодический лепет с подражательным воспроизведением нескольких псевдосинтагм в структуре единого высказывания | |
Каждый новый период в развитии ребенка, естественно, означает функциональное созревание определенных мозговых структур, от обсуждения природы которых мы в данном пособии воздержимся. Каждая созревающая функциональная подсистема мозга начинает функционировать во вторую фазу уже завершающегося периода на фоне максимально интенсивных для этого периода мотивационных и, следовательно, активационных усилий индивида. Но расцвет соответствующих функциональных подсистем мозга наступает в первой фазе каждого следующего периода, когда социальные воздействия среды приведут к усложнению потребностно-мотивационной сферы ребенка и он сконцентрирует все свои бессознательные адаптивные усилия на операционно-техническом освоении соответствующих коммуникативно-познавательных средств. В таком постоянном опосредовании биологических факторов развития факторами социальными, и наоборот, и раскрывается источник самодвижения процесса детского развития в целом.
Приведем одно из наших наблюдений, в котором установление факта отставания коммуникативно-познавательного развития ребенка от возрастных нормативов раннего возраста оказалось достаточным для того, чтобы поставить диагноз временной задержки психического развития и активно вмешаться в перестройку условий, в которых находился ребенок.
Сережа Н. 6 мес. воспитывался дома и соматически хорошо развивался. Голос в криках был громким, но гуление и лепет мальчика почему-то не развивались. При осмотре ребенка обратило на себя внимание то, что его кроватка стоит впритык к радиоприемнику, который включен на большую мощность и, со слов матери, практически не выключается с утра до вечера.
Учитывая то обстоятельство, что для формирования коммуникативно-познавательной мотивации необходимо снижение мотивации оборонительной, что явно невозможно при столь большой интенсивности звукового потока над ухом ребенка, было рекомендовано отодвинуть кроватку в другой конец комнаты, снизить громкость радиопередач и включать радиоприемник лишь по мере надобности. Через месяц мать сообщила, что у ее мальчика активность лепета резко возросла.
Вернувшись к таблице возрастных нормативов (с. 66), обратим внимание на размерность или объем эмоционально-выразительных звуковых комплексов различных иерархических уровней. С каждым уровнем их размерность возрастает: лепетные сегменты восходящей звучности «больше» вокализаций, псевдослова «больше» лепетных сегментов, а псевдосинтагмы «больше» псевдослов. Единица каждого последующего уровня как бы вбирает в себя единицу предшествующего и за этот счет расширяется сама.
То же самое можно сказать и относительно значений этих единиц. Вокализации выражают эмоциональное состояние самого издающего их коммуниканта; сегменты восходящей звучности — эмоциональное отношение данного коммуниканта к его партнеру; псевдослова — эмоциональное отношение того, кто говорит, к предметной ситуации и ее отдельным компонентам, а псевдосинтагмы — эмоциональное отношение того, кто говорит, к сущест-
вующим между компонентами коммуникативно-познавательной ситуации взаимосвязям (между самими коммуникантами, коммуникантами и ее предметными компонентами, между предметными компонентами друг с другом).
Для наглядности сказанного сопоставим укрупняющиеся эмоционально-выразительные звуковые комплексы разных иерархических уровней, при этом учтем их субъективно-ценностные характеристики (см. гл. 2.1).
Таблица 3. Сопоставление эмоционально выразительных звуковых комплексов разных иерархических уровней, но одних и тех же ценностных зон
| Тип единиц | Зоны | |||
| высокой субъективной ценности | низкой субъективной ценности | мажорная зона умеренной субъективной ценности | минорная зона умеренной субъективной ценности | |
| Псевдосинтагмы | cvCVcvCVcv CVcvcCVccvcv | Псевдосинтагмы с нечеткой тембровой мелодикой | CVccvCV CVCVcvcvCV | CVcvcCVcv CVccCVcv |
| Псевдослова | cvCVcv cCVc | Псевдослова с нечеткой ритмической структурой | CVCV cvcvCV | CVcv CVcvcv |
| Консонантно-вокальные сегменты меняющейся звучности | CVC | Нечеткая кон-сонантно-вокальная структура | cv | vc |
| Вокализации | а-тембры | в-тембры | u-тембры | у-тембры |
Между единицами разных иерархических уровней, но одних и тех же ценностных зон существуют внутрисистемные функциональные связи, имеющие существенное значение в коммуникативно-познавательных процессах. (Наличие внутрисистемных функциональных связей между единицами разных зон одних и тех же иерархических уровней следует из самого зонного принципа их систематизации.)
Учет внутрисистемных связей в пределах одной и той же субъективно-ценностной зоны способствует решению диагностических и прогностических задач в дефектологии.
Практическую значимость этого утверждения можно продемонстрировать на следующем примере.
Алеша А. 3 г. Медицинский диагноз: хромосомная аномалия типа синдрома Рубинстайна-Тейби.
Родился в срок, закричал сразу, но развивался с резким отставанием от возрастных норм. Известно, что стал, ходить лишь в 1 г. 9 мес. Всегда был чрезмерно возбудим, боялся всего, часто становился агрессивным и злобным. В таких состояниях резко кричал, швырял предметы, бил и кусал окружающих. Играть не умеет, игрушки ломает, книжки рвет. Речевое развитие при нормальном слухе резко нарушено. С периода новорожденности много кричит и плачет. Голос громкий и резкий. Гуления и лепета не было. В возрасте около двух лет стал издавать резкие вокализации и свистеть. Элементарную бытовую речь понимает, но сам не говорит. Лишь на третьем году появились первые слова (мама, папа, баба), которые произносятся в присутствии данного лица. В общении со старшим братом замечено подобие лепетных цепочек из сегментов: па, ма и ба и, возможно, некоторых других звуков.
При осмотре констатируются множественные пороки развития: клюквовидный нос, антимонголоидный разрез глаз, большие частично открытые ноздри, длинные узкие ушные раковины, «карпий рот», с высоким, готическим нёбом, рост зубов в два ряда, высокое отхождение большого пальца на руках и частичная синдактилия на ногах, короткая широкая стопа, грыжа белой линии живота, валь-гусная установка стоп. (Ряд аналогичных пороков развития наблюдается и у матери ребенка.) Неврологически отмечается недостаточность стволово-подкорковых отделов мозга в виде сложного косоглазия, гипомимии, гипотонии, статической атаксии и интенционного тремора пальцев рук.
Алеша вступает в контакт только на короткий отрезок времени, почти не улыбается, все время насторожен, боится оторваться от матери, дает резкую ориентировочную реакцию оборонительного типа на появление людей, любые звуки, предлагаемые игрушки. Легко становится агрессивным и тогда кричит, ломает и бросает все попавшееся под руку. Отдельные движения и двигательные акты стереотипно повторяет. Удается установить, что ребенок понимает название отдельных предметов и в наглядной ситуации выполняет инструкции типа: «Принеси... дай... покажи...» В эмоциональном общении с матерью мальчик начинает гулить: произносит плавные гласноподобные звуки, наиболее близкие по тембру к А. По просьбе матери издает отрывистые с твердым приступом вокализации А-тембра. Великолепно свистит, издавая такие же, как и вокализации, короткие и резкие свисты.
Итак, у ребенка с множественными пороками развития и со стволово-подкорково-мозжечковой недостаточностью имеются тяжелые расстройства общепсихического и речевого развития. Обращает на себя внимание, что пороги врожденного оборонительного поведения у мальчика до сих пор очень низки, а следовательно, высоки пороги поведения коммуникативно-познавательного (см. с. 17). Заметим, что в отличие от предыдущего наблюдения (с. 68), где интенсивность оборонительных реакций поддерживалась внешнесредовыми факторами, в данном случае тот же самый функциональный результат зависит от патологического состояния мозга ребенка. В таких условиях коммуникативно-познавательное развитие, естественно, оказалось задержанным и коснулось по преимуществу той части опыта ребенка, который связан с предметными образами и предметными действиями высокой субъективной ценности. Этим объясняются его разнообразные страхи, агрессивность и неумение играть, а также доминирование до трех лет в звуковых реакциях резких криков. Понятно, что в появившемся гулении тоже преобладают выражающие эмоции высокой субъективной ценности А-тембры. Высокая субъективная ценность вокализаций ребенка подчеркивается наличием в них твердого приступа. Гласные корреляты вокализаций только этой же зоны и с таким же твердым приступом ребенок начинает произносить произвольно, из А-слогов построены первые слова ребенка. Бедность произвольных звуковых реакций дополняется свистами, которые следует причислить к звукам той же зоны высокой субъективной ценности.
Следовательно, патогенез аномального развития ребенка связан с патологически высоким и инертным врожденным оборонительным рефлексом, который в процессе нормального развития подавляется на протяжении первых месяцев жизни в эмоциональном общении с матерью. Высокая субъективная ценность постоянно переживаемых ребенком функциональных состояний предопределила как задержку коммуникативно-познавательного развития в целом, так и его развитие в пределах только этой зоны: для криков ребенка характерны преимущественные А-тембры и резкие шумовые звуки типа дисфонации; для гуления — вокализации преимущественно А-тембра с твердым приступом; для лепета — плохо выраженные короткие цепи А-сегментов восходящей звучности и, наконец, А-слоги в составе единичных первых слов.
Ясно, что успех коррекционно-воспитательной работы будет зависеть от того, в какой мере и как скоро удастся подавить оборонительную установку ребенка на внешнюю среду и воспитать у него коммуникативно-познавательные мотивы.
Имея в виду всю совокупность эмоционально-выразительных единиц, приобретаемую в раннем детском возрасте, со всеми их внутрисистемными горизонтальными и вертикальными функциональными связями, мы получаем последовательные срезы спиралевидной иерархической структуры. Каждый следующий иерархический срез и тем самым виток спирали есть результат более интенсивной адаптивно целесообразной мотивации коммуникативно-познавательного поведения и потому более интенсивного его энергообеспечения. Ясно, что эти общие положения, находя конкретное воплощение в нормативных закономерностях раннего детского развития, имеют прямое отношение к творческому патогенетическому истолкованию выявленных диагностом возрастных симптомокомплексов.
3. Место и значение нейропсихопаралингвистических данных в патогенетической квалификации расстройстваВ патогенетическом истолковании возрастных симптомокомплексов большое значение имеют сведения о том, в какие сроки развивались у ребенка врожденные звуковые реакции, как они преобразовывались в звукоподражательные, что провоцировало эмоциональное поведение ребенка, как с возрастом изменялась его мотивация и т. п.
Однако обычно, расспрашивая мать, логопед или врач ограничиваются самыми общими сведениями о его звуковых реакциях: сразу ли закричал младенец при рождении, был ли голос ребенка в периоде младенческих криков громким и звонким, когда он начал плакать и смеяться, когда — гулить и лепетать, когда появился подражательный лепет и в какой мере этот лепет был активен. Вопросы дефектолога о времени появления у ребенка первых слов и фраз, о порядке становления у него фонематического строя родной речи относятся уже к более продвинутому этапу развития.
Такой способ добывания фактов о раннем коммуникативно-познавательном развитии ребенка можно образно сравнить с тем методом исследования земных недр, когда исследователь судит о скрытых в земле богатствах по своим находкам на ее поверхности, не пользуясь при этом ни накопленными в современной науке знаниями о геологических, минералогических и других закономерностях, ни каким бы то ни было изыскательским оборудованием.
Можно рассматривать аналогом геолого-минералогических закономерностей в деле дефектологической диагностики нейро-психопаралингвистические закономерности развития ребенка раннего возраста, а одним из аналогов изыскательского оборудования — современный способ нейропсихопаралингвистического описания его речи. Овладев нейропсихопаралингвистическими знаниями и вооружившись соответствующими методами и приемами исследования (см. гл. 1 и гл. 2), диагност-дефектолог может рассчитывать на то, что он не растеряется перед тем обстоятельством, что «один и тот же факт (младенческий крик, звуки гуления или лепета.— Е. В.) не только имеет бесконечные степени выраженности, но и совершенно различное значение в зависимости от того, в составе какого синдрома он встречается и из каких моментов складывается».
В основе нейропсихопаралингвистического описания речи ребенка лежит слуховой метод ее фонетического анализа, что связано с записыванием речи ребенка на магнитную ленту, ее повторным прослушиванием и выборочным занесением в протокол характерных речевых реакций посредством специальных фонетических транскрипционных знаков.
Слуховой метод фонетического анализа звуковых реакций ребенка может дать бесценный материал для дефектологической диагностики, при этом, чем квалифицированнее произведено транскрибирование звуковых реакций ребенка, тем больше можно сделать на основе полученной записи диагностических и прогностических выводов. Так, таким путем можно дифференцировать первоначальные звуковые комплексы гуления и лепета различных субъективноценностных зон от звукоподражательных, звуковых комплексов тех же типов, уже более или менее социально регламентированных и нормированных, и др.
Для транскрибирования звуковых реакций можно использовать буквы как русского, так и латинского алфавита (основные транскрипционные знаки), применяя при этом по мере надобности дополнительные транскрипционные знаки. Чтобы облегчить дефектологу задачу фонетической транскрипции непосредственно прослушиваемых звуковых реакций или их магнитных записей, приведем наиболее употребительные в фонетике дополнительные транскрипционные знаки.
Таблица 4. Употребительные дополнительные знаки фонетической транскрипции (по Л. Р. Зиндеру)
| Фонетическая характеристика | Знак | Пример |
| Палатализация (смягчение) | ´ | с' |
Кроме слухового метода фонетического анализа, можно воспользоваться для исследования звуковых реакций детей раннего возраста экспериментально-фонетическими методиками — осциллографией, интонографией, спектрографией. Так, известно, что при многих заболеваниях раннего детского возраста младенческие крики приобретают патологические черты, что понятно, учитывая интимную связь их акустической структуры с особенностями протекания физиологических процессов в организме. По характеру младенческого крика можно заподозрить, а иногда и диагностировать не только заболевания нервной системы, но и внутренних органов ребенка. Поэтому крупные детские больницы все чаще оснащаются аппаратурой, позволяющей проводить объективный анализ акустической структуры младенческих криков, например спектрографами. В настоящем методическом пособии мы не останавливаемся ни на анализе патологических спектрограмм, ни на изложении экспериментально-фонетических методик вообще — это специальная тема.
Помогая разобраться в патогенезе аномального развития, нейропсихопаралингвистические данные способствуют также пониманию того, какое вторичное системное звучание получают аномалии коммуникативно-познавательного развития раннего возраста у детей более старших возрастов.
Сказанное поясним на примере двух детей с медицинским диагнозом тяжелого детского церебрального паралича с анартрией на почве родовой травмы. Такие дети, постоянно встречающиеся в учреждениях для детей с двигательными нарушениями, составляют своеобразную группу аномалий развития. Покажем значение ранних коммуникативно-познавательных расстройств в клинической картине этих детей, достигших уже школьного возраста. Разобрав вероятный, судя по данным нейропсихолингвистического анализа, механизм симптомообразования анартрии, сделаем прогностические выводы и обсудим связанные с ними некоторые итоги коррекционно-воспитательной работы.
Валерик С. 10 лет 6 мес. Физическое развитие ребенка соответствует 6—7 годам. В связи с тяжелыми спастическими параличами и атетоидно-хореиформным гиперкинезом мальчик до сих пор не ходит, не стоит, сидит лишь в специальном кресле. Может произвести ряд произвольных движений конечностями, самостоятельно не ест. Из-за гиперкинезов с трудом глотает, жевать не может. Зрение и слух сохранены. Смех и плач возможны, при этом голос звонкий.
Коммуникативно-познавательное развитие тяжело нарушено, но неравномерно. Понимая бытовую ситуационно обусловленную речь окружающих, не говорит, лишь издает на выдохе (иногда на вдохе) невнятные звуки, которые умеет интерпретировать в конкретной ситуации мать ребенка. Внеситуационную контекстную речь мальчик почти не понимает. В попытках речи жестикулирует, но мимика бедна; стереотипно улыбается. Считает до 100 и производит арифметические действия в пределах 20. Эмоционален, контактен и доброжелателен, но критика к себе и к окружающему снижена. Тянется к занятиям с логопедом, интересуется книжками с картинками. Пытается читать и повторять за логопедом отдельные слова и короткие фразы. При этом в издаваемых им звуках можно уловить элементы ритмической организации соответствующих слов. Очевидно, что данный симптомокомплекс в возрастном отношении ненормативен.
Чрезвычайный интерес представляет тот факт, что в числе симптомов развития 10-летнего ребенка констатируются симптомы, характерные для раннего детского возраста: в эмоционально насыщенных ситуациях (когда мальчика ласкает взрослый, когда он играет с игрушками или рассматривает красочные картинки Валерик начинает лепетать, а порой и гулить. Эти эмоционально-выразительные реакции, записанные на магнитную ленту, стали предметом нашего внимания.
Плавные звуковые комплексы гуления можно было транскрибировать приблизительно следующим образом: ǽе: во оуиам ываа овъвн въвъ°мава ǽуве у. Изредка встречались комплексы типа: въывъын:вуфнвнФ:. Прослушивая на магнитофоне свое собственное гуление, Валерик обнаруживает элементы младенческого комплекса оживления — двигательно активизируется и улыбается.
Наряду с гулением у ребенка наблюдаются и лепетные цепочки, характерные для раннего периода лепета. Чаще всего они состоят из отдельно повторяющихся вокализаций, среди которых первое место занимает вокализация А-тембра. Знаменательно, что в этих вокализациях наблюдается столько же различных тембровых реализаций, сколько было самих вокализаций. Так, вокализация А была произнесена 30-ью различными способами: с Х-образным призвуком (в начале и в конце вокализации), с призвуком W, с большим или меньшим сдвигом тембра в сторону к тембру э, с назализацией, с различными изменениями высоты и громкости звука и т. п. Реже в лепетные сегменты входили шумовые элементы, в том числе экзотичные для русской речи: щелкающие, напряженно-скрипучие, чавкающие, всхрапывающие. Чаще всего шумовые элементы были представлены сонорными звуками типа W или М, Н и 14-ью вариантами бокового плавного звука. Реже сонорных звуков наблюдались в лепете смычные звуки без четкого фокуса артикуляции или типа глухой смычки (губной, иногда заднеязычной) с различными призвуками. Среди лепетных сегментов отчетливо преобладали структуры восходящей звучности (CV).
Приведенные результаты фонетического анализа (слуховой метод) подтверждают квалификацию имеющихся у ребенка эмоционально-выразительных реакций как реакций гуления и лепета (см. гл. 2). Это в свою очередь дает основание для патогенетического толкования механизма развития у ребенка анартрии. Отмеченные особенности звуковых комплексов гуления и лепета свидетельствуют о том, что ребенок, достигший 10-летнего возраста, не только сохранил способность воспроизводить врожденные подкорковые (стриарные и паллидарные) синергии, но и воспроизводит их в первозданном социально нерегламентированном виде: вокализации отличаются крайне неустойчивым тембром, а в лепете много шумов, не свойственных русской речи, и смычек без четкого фокуса артикуляции. В то же время произвольное управление своими врожденными синергиями для артикуляции звуков и слов родной речи ребенку недоступно. При этом слух Валерика сохранен. Такое положение вещей может быть только в том случае, когда корковые аутослуховые образы разобщены от тактильно-кинестетических образов, возникающих вследствие врожденных синергии гуления и лепета. То, что такие подкорковые тактильно-кинестетические образы у ребенка имеются, говорит о сохранной способности спонтанного воспроизведения звуковых цепей, состоящих из одних и тех же элементов. Следовательно, произошедшее при родах кровоизлияние разрушило нервные связи между подкорковыми ядрами мозга и его корой, пощадив, однако, нервные клетки самих подкорковых ядер с их эфферентными путями.
Сохранившиеся врожденные подкорковые синергии обеспечивают ребенку возможность гуления и лепета в эмоциональных ситуациях, но они оказываются неуправляемыми ни со стороны слуховой коры (нет подражательных гуления и лепета с их социальной регламентацией), ни со стороны двигательной коры (попытки произвольной речи минимальны). Такое тяжелое недоразвитие речи, по-видимому, включает в себя и несформированность системы фонематических обобщений. Этим можно объяснить плохое понимание ребенком контекстной речи окружающих.
Прогноз речевого расстройства Валерика С. плохой. Восстановить проводимость пострадавших нервных путей нельзя — неврологические симптомы поражения мозга слишком грубы; значит, нельзя и рассчитывать на то, что удастся сделать врожденные подкорковые синергии произвольно управляемыми. Однако опыт показывает, что, каким бы тяжелым ни казалось очаговое поражение мозга, в нем всегда могут быть функциональные компоненты, даже в резидуальных состояниях. Эти функциональные компоненты очагового поражения можно и нужно попробовать устранить в процессе педагогической коррекционной работы.
Такая попытка была предпринята и в данном случае. Оказалось, что слуховая Деафферентация врожденных двигательных синергии является у ребенка неполной. По словам логопеда, он сделал успехи за время пребывания в стационаре: У него уменьшилась произносительная утомляемость, теперь он без особого напряжения занимается в течение часа (раньше 5—7 минут), в его попытках повторной речи появилось больше шумовых элементов, он стал лучше воспроизводить услышанные ритмические структуры. О том, что слуховая деафферентация врожденных двигательных синергии у ребенка не совсем полная, говорит, кстати, и факт начавшейся социальной регламентации его спонтанного лепета: в лепетных сегментах преобладают структуры CV.
К сожалению, успехи Валерика были чрезвычайно неустойчивы. Через 3—4 недели по выходе из больницы он стал терять выработанные у него речевые сноровки. В этом нам кажется повинной, прежде всего обусловленная гиперкинезами нестабильность тактильно-кинестетических образов, возникающих в процессе реализации врожденных синергии гуления и лепета.
Если прогноз в отношении развития устной речи у детей с анартрией при детском церебральном параличе малоперспективен, то в отношении их общего психического развития он может быть, по-видимому, не так уж плох. Чтобы убедиться в этом, разберем другой случай такой анартрии.
Володя С. 12 лет. (Стационирован повторно.) Роды у матери были длительными в связи с узким тазом, ребенок родился со стимуляцией, был обвит пуповиной. С раннего возраста отмечаются тяжелейшие двигательные расстройства: следит за предметами только с первого года, голову держит с 4 лет, сидит с 5 лет. Лепета у ребенка никогда не было, хотя смех и плач звонкие и громкие. При боли издает резкий крик, но произвольная голосовая реакция появилась лишь с 7—8 лет, она до сих пор нечетка и непостоянна, ребенок обращается к окружающим стоном.
Лабиринтно-тонические и шейно-тонические рефлексы живые. Распространенные пирамидно-экстрапирамидные нарушения мышечного тонуса, флексорная поза конечностей. Хореоатетоидный гиперкинез в мышцах тела, шеи, лица, конечностей. Стоит с поддержкой несколько секунд, не ходит. Руками владеет с трудом, движения размашисты и неточны. Атаксия взора. Анартрия. Зрение и слух сохранены.
Приведенные данные говорят за то, что поражение центральной нервной системы у Володи тяжелое и достаточно распространенное. Грубый хореиформный гиперкинез и отсутствие в анамнезе лепета свидетельствуют о тяжелейшем поражении стриарных подкорковых ядер, хотя, по-видимому, не все нервные клетки этих ядер пострадали: эмоционально-выразительные реакции смеха и плача у ребенка сохранены. Поражение мозга уровня стриарных ядер захватило и пирамидные пути, пострадали также экстрапирамидные и мозжечковые проводящие системы, о чем говорят двусторонние спастические параличи, до сих пор не заторможенные шейно-тонические и лабиринтно-тонические рефлексы, флексорные позы конечностей, атетоидный гиперкинез, появление голосовой реакции лишь в 7—8 лет и ее расстройства в настоящее время. Резкие (типа младенческих) крики при болевых ощущениях, обращения к окружающим посредством звуков-стонов можно рассматривать как проявления в условиях разрушения корково-подкорковых нервных связей незаторможенной врожденной активности сохранившихся нервных клеток паллидарных структур мозга.
Большой интерес представляет, что при таком тяжелейшем поражении подкорковых ядер и проводящих двигательных систем сенсорные системы ребенка, конечно, за исключением тактильно-кинестетических, относительно сохранены. С этим приходится связать тот факт, что психическое развитие ребенка, как свидетельствуют педагоги-дефектологи, в целом соответствует возрастной норме. Несмотря на имеющиеся у Володи резонерство и вязкость мышления, он учится в . IV классе по индивидуальной программе, инициативен в занятиях, интересуется учебными предметами, поэзией, играет в шахматы, понимает юмор и иронию, читает и объясняется с окружающими письменной речью, используя для этого магнитную азбуку.
Закономерен вопрос о том, каким же образом ребенок овладел языковыми средствами, необходимыми как для письменного общения, так и для абстрактного вербального мышления, если его «базальный компонент речи» (И.П.Павлов), связанный с кинестетической афферентацией своих собственных речевых движений, практически не эффективен из-за тяжелейших гиперкинезов. По-видимому, мать ребенка интуитивно нашла способ помочь Володе, научив его в 5—6 лет писать буквы в воздухе посредством размашистых движений рук (других движений он делать не может из-за гиперкинезов и атаксии). Эта работа была очень нелегкой, но настойчивость матери привела к тому, что у ребенка создалась, по-видимому, необходимая совокупность кинестетических и тактильно-кинестетических перешифровок зрительных образов букв, которая затем и стала играть роль «базального» компонента речи взамен недоступных ему тактильно-кинестетических образов речевых движений. Соотнося букву со звуком, мальчик освоил слоговой, а потом и фонемный анализ слов и стал «писать» (под диктовку и спонтанно). Труднее всего Володе дался навык чтения: из-за атаксии взора буквы и строчки сливались и понимание текста ускользало. Только к 3—4 классу процесс чтения, несмотря на связанное с ним утомление, стал вызывать у ребенка интерес, и он начал читать самостоятельно. Освоение же навыков письменной речи способствовало развитию абстрактного, основанного на использовании языковых средств, мышления.
Хотя и сегодня обследование обнаруживает отчетливые дефекты коммуникативно-познавательных процессов ребенка: несовершенство языковых средств (бедность словаря за счет главным образом слов, выражающих абстрактные понятия, недостаточность фонематического анализа слов и понимания сложных грамматических форм); ограниченность и замедленность коммуникативных процессов, тем не менее, можно рассматривать этот случай как поразительный успех специальной коррекционной работы — успех, достигнутый совместными усилиями любящей матери и семьи в содружестве с дефектологами специализированного учреждения.
Это второе наблюдение, кстати, подкрепляет сделанный ранее вывод о типологической квалификации анартрии при детском церебральном параличе как следствие первичного поражения подкорковых ядер мозга — функционального аппарата врожденных звуковых комплексов и нервных путей, по которым они субординируются коре мозга. У Володи такое очаговое поражение даже более тяжело, чем у Валерика, у него ни гуления, ни лепета вообще никогда не было. В симптомокомплексе аномального развития у этого 12-летнего мальчика, владеющего навыками письменной речи и играющего в шахматы, можно наблюдать в эмоциональных ситуациях не гуление и лепет, как у Валерика, а искаженные младенческие крики — симптом расторможенной, неуправляемой с уровня коры врожденной активности оставшихся сохранными подкорковых нервных структур. Эти и некоторые другие отличия в проявлениях анартрии и коммуникативно-познавательного поведения у двух описанных мальчиков показывают, что при одной и той же типологической квалификации аномального симптомокомплекса необходимая ребенку специализированная помощь может иметь частные варианты.
Поэтому, по утверждению дефектологов (И.И.Панченко, Л.А.Щербакова), для выяснения патогенеза анартрии и связанных снею системных коммуникативно-познавательных расстройств, а также для прогнозирования имеющихся компенсаторных возможностей нужно тщательное комплексное обследование ребенка врачами и педагогами в процессе длительного динамического наблюдения за ним.
На примере типологической квалификации анартрии у двух Детей с детским церебральным параличом можно, кстати, показать, чем дефектологический диагноз отличается от чисто медицинского или .простого эмпирического (как это понимал Л.С.Выготский). Приведем еще раз медицинские диагнозы обоих мальчиков: у Валерика С. детский церебральный паралич на почве родовой травмы, двусторонний спастико-гиперкинетический синдром с анартрией; у Володи С. детский церебральный паралич на почве родовой травмы, двусторонний спастико-атактико-гиперкинетический синдром с анартрией. В этих диагнозах отсутствует то, что Л.С.Выготский называл центральным, узловым и определяющим пунктом дефектологического диагноза,— в них не указан патогенез или механизм симптомообразования наблюдающихся у детей сложных двигательных синдромов с анартрией, который бы объяснял связь симптомокомплекса с этиологическим моментом — родовой травмой. (Мы не говорим уж о том, что используемый в обоих случаях термин «анартрия» является эмпирически-описательным диагнозом, повторяющим на научном языке то, с чем родители ребенка обращаются к врачу: «Мальчик не говорит, у него отсутствует речь»).
Дополним недостающий пункт диагноза. Имеющаяся у обоих детей анартрия является результатом двустороннего очагового поражения подкорковых ядер мозга (паллидарных и стриарных) и подкорково-кортикальных нервных путей с растормаживанием сохранившихся врожденных звуковых, двигательных синергии подкоркового уровня и невозможностью их использования в процессе произвольной артикуляции. Такое толкование механизма аномалии направляет внимание дефектолога на компенсаторное развитие у детей письменной речи и абстрактного мышления на основе использования относительно сохранившейся двигательной функции рук с опосредованием соответствуюших тактильно-кинестетических образов зрительными образами букв. Естественно, что при других типологических формах анартрии (например, при глухоте или при врожденном уродстве ротовой полости) механизм симптомообразования будет совсем иным, а следовательно, совсем иными будут как прогностические выводы, так и направленность коррекционно-педагогической работы.
ГЛАВА 4. АКТУАЛЬНОЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ И ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ ЯЗЫКОВОЕ РАЗВИТИЕОбучение речи зависит от решения более общих вопросов воспитания. (Л.С.Выготский)
1. Последовательность освоения формы и содержания поведенческих актовВажнейшей диагностической задачей для дефектологии на современном этапе развития советского общества является установление патогенетических корней коммуникативно-познавательного языкового недоразвития аномальных детей дошкольного и младшего школьного возраста, а также обоснованное прогнозирование перспектив языкового развития детей раннего и дошкольного возраста, уже имеющих известные аномалии эмоциональной коммуникации и эмоционального познания мира.
Принятый нейропсихопаралингвистический способ описания каждого из пяти периодов раннего детства делает весьма наглядными закономерности актуального и потенциального развития ребенка. В каждом периоде зона ближайшего развития потребностно-мотивационных состояний подготавливается в процессе операционно-технического обогащения предшествующего коммуникативно-познавательного поведения, и наоборот. При этом «...в содружестве, под руководством, с помощью ребенок всегда может сделать больше и решить труднейшие задачи, чем самостоятельно».
А.В.Запорожец (1978) писал, что дети обнаруживают повышенную чувствительность не ко всем, а к определенного рода воздействиям воспитательного и учебного характера; наиболее эффективно они овладевают не любыми, а лишь определенного рода содержаниями и определенными способами деятельности.
Можно полагать, что повышенная чувствительность ребенка к определенным эмоционально-выразительным типам знаковых воздействий в те или иные периоды раннего развития связана с созреванием соответствующих нервных структур и накоплением готовых к употреблению энергетических ресурсов. Но эти актуальные анатомо-физиологические предпосылки зоны ближайшего развития претворяются в действительность, во-первых, только в процессе эмоционального взаимодействия со взрослыми и, во-вторых, только подвергаясь при этом непрерывному социально обусловленному структурированию. Вне эмоционального общения со взрослым возможности сензитивных периодов раннего онтогенеза могут оказаться невосполнимо утерянными, а активность соответствующих нервных структур останется социально нерегламентированной. Следовательно, имея в виду формирование как эмоционально-выразительных предпосылок родного языка, так и самих функциональных единиц этого языка, мы имеем право сказать, что «...научиться речи вне общественной жизни так же нельзя, как нельзя, стоя на берегу, научиться плавать»2. В справедливости этого положения убедимся сначала на материале самых ранних (еще доязыковых) новообразований.ребенка.
В процессе воспитания младенца его мать, находясь с ним в эмоциональном общении, интенсивно осуществляет преобразование врожденных пищевых и оборонительных координации в социальные адаптивные реакции. Так, беспредметные синергии глазодвигательных мышц и мышц шеи преобразуются в составе комплекса оживления в следящие за предметом движения глаз и способствующие этому движения головы. Безусловный рефлексе схватывания — в условнорефлекторную реакцию взятия предметов под зрительным контролем, безусловнорефлекторная координация спонтанного гуления — в условнорефлекторное подражательное гуление и т. п.
Проследим преобразования врожденной безусловнорефлекторной синергии сосания. У новорожденных эта мышечная координация мотивируется состояниями голода и жажды. Как только эти состояния удовлетворяются, порог вызывания синергии сосания резко повышается. У хронически недоедающих детей порог вызывания синергии сосания, напротив, резко снижен, что ведет к тому, что они легко начинают сосать свои пальцы и разные предметы. В таком поведении реализуется поисковая деятельность, мотивируемая неудовлетворенной пищевой потребностью.
У младенца первых месяцев жизни врожденная синергия сосания выступает как акт актуального развития по отношению к его потенциальному коммуникативно-познавательному развитию. Наблюдения Л.Т.Журбы и Е.М.Мастюковой показывают, что уже «на 3—4 неделе у ребенка, если он спокоен и сыт, но не спит, в ответ на обращенный к нему ласковый голос, улыбку, особенно при их повторении (т. е. при явном сотрудничестве со взрослым.—Е. В.), может возникнуть так называемое ротовое внимание: ребенок «замирает», по круговой мышце рта часто прокатывается едва заметная волна сокращений, отчего губы слегка вытягиваются вперед, ребенок как бы «слушает» губами. В возрасте 1 мес. на обращение взрослого к ребенку вслед за этой реакцией начинает появляться улыбка». Такое слушание губами, предваряющее появление улыбки,— симптом начинающегося подчинения синергии, обслуживавшей пищевые потребности организма, целям социальной адаптации. При этом ясно, что вредным фактором в данный сензитивный период будет отсутствие эмоционального взаимодействия со взрослым (отсутствие его ласковых обращений и повторных улыбок).
Актуальное формирование у 2—3 месячного ребенка устойчивого эмоционально положительного взаимодействия с его матерью (комплекс оживления) становится теперь знаком близкого потенциального развития эмоционально значимых и национально-специфических вокализаций.
Характерная для И-тембров вторая форманта (FII) предполагает продвижение языка вперед, когда он разделяет полость рта на небольшую по объему часть впереди и большую сзади. Эмоционально положительная материнская речь, богатая улыбчатыми И-тембрами, становится поэтому социальным условием преодоления младенцем «пищевой» позиции губ и языка: подражая преимущественным тембрам своей матери, младенец учится тормозить экстрапирамидный тонус и обусловленную им заднюю позицию языка. Относительное передвижение языка вперед необходимо для артикуляции переднеязычных звуков, которые отсутствуют в звуках младенческих криков.
Сказанное позволяет поставить вопрос: в какой мере целесообразно пытаться успокаивать голодного ребенка соской? Не насыщаясь, ребенок усваивает вредную привычку, которая задерживает формирование синергии, необходимой для коммуникативно-познавательного развития. Положение языка и губ при сосании мешает освоению И-тембров, доминирующих в материнской речи. Ребенка следует своевременно кормить и поить, а часы его бодрствования посвящать эмоциональному общению с ним.
У-тембры характеризуются хорошо выраженной первой формантой (FI), выявлению которой способствует оттягивание языка назад с образованием маленького резонатора в задней части полости рта и большого в передней. Это объясняет, почему всякое торможение коммуникативно-познавательной активности, имеющей в этом возрасте форму эмоционального общения с матерью и тяготеющей к И-тембрам, растормаживая активность противоположного порядка, ведет к появлению в голосе У-тембров и растормаживанию синергии сосания. Так, С. М. Кривина замечает, что дети 3—6 мес. начинают сосать пальцы и тогда, когда их заставляют лежать мокрыми, и тогда, кеда они, лежа на животе, устают держать голову поднятой, и тогда, когда, уронив игрушку, они не могут достать ее. В связи с этими замечаниями можно сказать, что любовный материнский уход за ребенком первых месяцев жизни есть залог его своевременного коммуникативно-познавательного развития.
Концепция Л.С.Выготского о зоне ближайшего развития позволяет рассматривать совокупность эмоционально-выразительных коммуникативно-познавательных средств, формирующихся в раннем детском возрасте, как необходимую возрастную предпосылку будущего освоения ребенком родного языка. Психические новообразования раннего детского возраста в целом составляют функциональную основу наступившего с конца 1-го года сензитивного периода языкового развития.
Все обсуждавшиеся до сих пор периоды раннего детского развития являются единицами иного масштабного уровня, нежели подготавливаемый ими период языкового развития. Каждый период раннего детского возраста выступает как момент актуального развития по отношению к потенциальному развитию одного из аспектов родного языка (см. табл. 5), вследствие чего развитие эмоционально-выразительных и языковых средств в детском возрасте, вообще говоря, происходит параллельно, хотя развитие первых из них всегда опережает развитие соответствующих вторых.
Табл. 5 показывает, что эмоционально-выразительные знаковые средства являются функциональной основой формирования фонетических средств родного языка, другими словами, формообразующих средств языковых знаков, их означающих. Это соответствует положению. Л. С. Выготского о том, что форма родного языка осваивается ребенком раньше его содержания, или, иначе, раньше совокупности его означаемых. Соответствует это и приводившемуся ранее утверждению Н.А.Бернштейна о том, что мы хорошо слышим то, что уже умеем сами произносить.
Таблица 5. Средства актуального эмоционально-выразительного и потенциального языкового коммуникативно-познавательного развития
| Эмоционально-выразительные паралингвистические средства | Первоначальные языковые средства (фонетические формы или означающие знаков языка) |
| Варианты тембровых единиц умеренной интенсивности | Динамические единицы устного высказывания |
Воздействия социальной среды в процессе преобразования эмоционально-выразительных знаковых средств в фонетические формы родного языка затормаживают, как и в предшествующем постнатальном онтогенезе, избыточные функциональные возможности, оставляя и подкрепляя лишь те из них, которые оказываются необходимыми формирующейся личности для адаптации к конкретным условиям.
Этот процесс обучающего ограничения и в то же время дифференциации внутренних возможностей был много раз прослежен на примере освоения ребенком фонематического строя родного языка. Неоднократно внимание исследователей привлекалось к тому, как ребенок, произносивший с легкостью самые разнообразные гласнои согласноподобные звуки в периоде гуления и лепета, осваивает затем на протяжении всего дошкольного детства фонемный состав родного языка и потом уже никаких других звуков произносить не может без специального, подчас изнурительного обучения.
Обобщение фактов становления фонетических систем у детей любых национальностей дало крупнейшему лингвисту нашего века Р.О.Якобсону право сказать: «Всюду тщательное лингвистическое описание с удивительным постоянством подтверждает тот факт, что относительная хронология определенных новшеств везде остается одной и той же», хотя темп этих приобретений может быть различным. «Любая фонологическая система является стратифицированной структурой, образуя наложенные друг на друга пласты. Иерархия этих пластов является почти универсальной и постоянной. Она проявляется как в синхронии, так и в диахронии». В объяснении этой стратификации автор исходит из констатации того, что фонологическая стратификация строго следует принципу максимального контраста, а в последовательном ряду противоположений она восходит от простого и гомологического к сложному и дифференцированному. Думается, что материалы настоящего пособия позволяют перенести общий смысл приведенных положений Р.О.Якобсона на закономерности коммуникативно-познавательного развития раннего возраста в целом.
Эмоционально-выразительные средства тоже образуют стратифицированную структуру, каждый следующий уровень или пласт которой развивается на основе предшествующего пласта; каждый следующий пласт становится все более сложным и дифференцированным образованием. Эмоционально-выразительная стратификация знаковых средств тоже строго следует принципу максимального контраста. Так, на иерархическом уровне вокализаций И-тембры контрастируют У-тембрам; на уровне сегментов меняющейся звучности CV-сегменты контрастируют VC-сегментам; на уровне псевдослов структуры типа cvCV или cvcvCV контрастируют со структурами типа CVcv или CVcvcv, и, наконец, на уровне псевдосинтагм мелодические структуры с восходящим движением тембра контрастируют с мелодическими структурами, имеющими нисходящее движение тембра. Единицы эмоциональной выразительности (вокализации, сегменты меняющейся звучности, псевдослова и псевдосинтагмы) с подчеркнутыми структурными характеристиками контрастируют со структурно размытыми, нечеткими аналогичными единицами.
2. Субъективно-ценностные предпосылки начального языкового развитияЗвуковые комплексы различной интенсивности в процессе их дальнейших языковых опосредовании становятся компонентами актуального членения (АЧ) предложений: их темой и ремой. Понятие «тема» близко к понятиям «логический субъект суждения», «операционные условия предметного действия», «нечто известное и потому субъективно малоценное для личности»; а понятие «рема» близко к понятиям «логический предикат суждения», «цель предметного действия», «нечто новое и потому субъективно высокоценное для личности».
В коммуникативно-познавательном же развитии ребенка отчетливо прослеживается всегда большая степень вербализации субъективно-ценностных компонентов психологической ситуации и относящихся к ней сегментов высказываний, чем субъективно менее ценных. Проследим эту закономерность на примере еще внеязыковых эмоционально-выразительных обращений ребенка ко взрослому, которые появляются в его обиходе со второй половины первого года жизни.
Вербальные (а точнее, вокализованные) компоненты таких обращений возникают вначале лишь при некотором затруднении «объясниться», т.е. в ситуации повышенной субъективной ценности. Так, ребенок весь устремляется к нужному ему предмету, хватает его рукой, тянет ко рту. Если предмет по разным причинам (скользкий, тяжелый) выпадает из руки, то лишь тогда ребенок поворачивается ко взрослому, смотрит на него, начинает хныкать и, наконец, просительно интонирует «ааа» или «ыыы»1. Тот, к кому обращается ребенок, может понять смысл таких детских обращений-вокализаций, только имея в виду поведение его в целом и ценностную структуру всей коммуникативной ситуации.
Степень вербализации субъективно-ценностных компонентов высказываний постепенно увеличивается. На месте вокализаций появляются сегменты меняющейся звучности, а потом и псевдослова. Независимо от того, какая эмоционально-выразительная единица используется ребенком, она всегда реализует то, что А.Н.Гвоздев обозначает термином «слово-предложение»2. Материалы настоящего пособия демонстрируют, что усматривать в таких детских высказываниях языковые единицы, хотя бы и самые элементарные (слово-предложение), преждевременно. Эмоционально-выразительные высказывания детей раннего возраста изначально не являются, а постепенно становятся словами-предложениями в процессе коммуникативно-познавательного поведения, начиная с конца первого года жизни.
В свое время Л.С.Выготский подчеркнул, что слова ребенка совпадают со словами взрослого в их предметной отнесенности, т.е. они указывают на одни и те же предметы, относятся к одному и тому же кругу явлений, но они не совпадают в своем значении. «Такое совпадение в предметной отнесенности и несовпадение в значении слова, которые мы открыли как главнейшую особенность детского комплексного мышления, составляют... не исключение, но правило в развитии языка». «Нам думается, что различение значения слова и отношения его к тому или иному предмету, различение значения и названия в слове дает в наши руки ключ к правильному анализу развития детского мышления на его ранних ступенях».
Проведенное нами нейропсихопаралингвистическое исследование звуковых реакций детей раннего возраста дает основание говорить о том, что в этом возрасте «слова» ребенка еще не совпадают со словами взрослого даже в их предметной отнесенности, они лишь имеют одну и ту же зонно построенную субъективную ценность, на базе чего формируется в наглядной предметной ситуации индикативная или номинативная функция слова. Соответственно эмоционально-выразительные вокализации, сегменты меняющейся звучности и псевдослова превращаются в «слова-предложения», обладающие уже элементарной языковой функцией предметного соотнесения.
С учетом сделанной поправки упомянем, что в детских словах-предложениях раннего периода доминируют номинативные предложения следующего типа:
Эрик (1 г. 9 мес. 13 дн.), идя по дорожке парка, обращает внимание воспитательницы на все окружающее: «Дядя-дядя, тпр-тпр, ав-ав», а показывая на цветы, говорит: «А-а».
Зоя (1 г. 10 мес. 26 дн.) перечисляет все, что видит в окно, говоря: «Динь-динь, тетя, дядя».
В этих высказываниях детей находят внешнее выражение результаты или предикаты познавательных актов, обобщающих коммуникативными средствами разных типов предметно-образные и предметно-действенные впечатления.
Так же как вокализация детских целевых обращений ко взрослому, так и данные предикативные слова-предложения являются зародышевыми рематическими структурами по отношению к еще полностью экстралингвистическим темам сообщения.
Около двух лет, по наблюдению А.Н.Гвоздева, кроме номинативных предложений, появляются безличные и неопределенно-личные (тоже однословные) предложения («пахн'ит», «упала», «л'уба», «тар'ат» (предложение отворить дверь); «гл'идй-ка литайут сако (высоко) и т. д.). Примеры показывают, что и эти предложения являются предикатами суждений, построенных на обобщении полисенсорных предметных образов, или зародышевыми ремами высказываний.
Интересно делаемое А.Н.Гвоздевым вскользь замечание о том, что в этом же возрасте в детских предложениях, построенных по схеме подлежащее + сказуемое, подвергается внутренней дифференциации состав сказуемого (вернее, предиката мысли.— Е. В.), т. е. опять-таки субъективно наиболее ценный сегмент высказывания, тогда как состав подлежащего (субъекта мысли.— Е. В.) остается слабо расчлененным. С этим интересно сопоставить наблюдения Б. А. Серебренникова о том, что значительную роль в создании звуковых оболочек слов в разных языках мира играет звукоподражание, причем звукоподражательные глаголы (т. е. то, в чем чаще находит словесное выражение предикат мысли) встречаются значительно чаще, чем имена существительные.
Важнейшим стимулом в речевом развитии является, как известно, общение ребенка со взрослым. В этом общении исключительно важны вопросительные обращения к ребенку. Вопрос «оказывается сильнейшим двигателем, помогающим ребенку ориентироваться в сложной обстановке окружающего, уяснить сложную для него систему отношений между окружающими людьми и предметами».
На вопрос воспитательницы «Почему плачешь?» Зоя (1 год 8 мес. 10 дн.) отвечает о своем состоянии: «Бо-бо», но тут же указывает на место падения, добавляя: «Ипай, ипай» (упала). Следовательно, вопросы взрослого направляют движение детской речи-мысли, способствуют отбору необходимых предметно-образных впечатлений, а потом и вербальных следов памяти. В силу этого вопросительные высказывания взрослых и детские ответы к ним представляют собой функционально единое целое: с точки зрения теории актуального членения вопросы относятся к тематическим, а ответы — к рематическим элементам в каждой такой функциональной единице диалоговой речи. Лаконичная однословность ответов-рем находит свое объяснение, таким образом, не только в несовершенстве языковых средств, которыми располагает ребенок, но и в том, что соответствующие вопросы взрослых конкретизируют их смысл.
Подводя итог всему сказанному, нетрудно видеть принципиальную близость концепции Л.С.Выготского о зоне ближайшего развития и теории современной функциональной лингвистики об актуальном членении высказывания, хотя в первой из них разбираются закономерности коммуникативно-познавательного развития вообще, а во второй — закономерности отдельных коммуникативно-познавательных актов. Для диагноста-дефектолога чрезвычайно существенно, что, анализируя форму единичных коммуникативно-познавательных актов как нормального, так и аномального ребенка, можно делать выводы о его актуальном и потенциальном языковом развитии. Форма сегментов высказывания умеренной субъективной ценности демонстрирует уже освоенные ребенком языковые операции, тогда как форма сегментов высказывания сравнительно высокой субъективной ценности, напротив, характеризует те языковые операции, которые еще находятся в зоне его ближайшего развития и которыми он еще только начинает овладевать (самостоятельно или с помощью взрослого). Разберем это важнейшее диагностическое положение на конкретном материале.
Обратим внимание, прежде всего на тот факт, что, освоив эмоционально-выразительные вокализации и сегменты восходящей звучности в течение второй и третьей четвертей первого
года жизни, русские дети приступают к их языковому опосредованию значительно позже. Как известно, первые слова с устойчивой, не меняющейся в различных эмоциональных ситуациях формой входящих в них гласных и слогов СГ появляются у ребенка в четвертой четверти первого года, т. е. уже в периоде лепетных псевдослов. Другими словами, пока у ребенка не появятся мотивирующие ощущения и образы, источником которых служат предметная ситуация и входящие в нее объекты, и пока ребенок не освоит ценностную структуру звуковых компонентов этих образов, функциональное преобразование эмоционально-выразительных вокализаций и сегментов восходящей звучности в гласные и в слоги СГ произойти не может. Только теперь появляются условия для условнорефлекторной выработки ассоциативных связей между звуковой формой слова и чувственно данной вещью. Предметная отнесенность слова, а не его эмоциональное значение в речи взрослого человека начинает приобретать ведущий интерес в коммуникативно-познавательном поведении ребенка, в соответствии с чем вокализации и сегменты восходящей звучности начинают дифференцироваться в гласные родного языка и слоги СГ.
Этот своеобразный момент развития детей раннего возраста, еще сравнительно очень малоизученный, иллюстрирует, как нам кажется, следующие наблюдения.
Сережа В. 1 года 4 мес. Физическое развитие ребенка соответствует его возрасту. Он ловко лазает по диванам, креслам, хорошо ходит и выполняет предметные действия с игрушками. В покое, когда ребенок накормлен, он, играя, начинает лепетать и произносить звуковые комплексы типа позднего мелодического лепета. Наблюдение за ребенком в процессе выполнения им режимных моментов, игры и взаимодействия со взрослыми делает очевидным, что источником мотивирующих его поведение образов являются предметные ситуации, отдельные предметы и различные соотношения компонентов коммуникативно-познавательных ситуаций. Таким образом, согласно нормативам табл. 2 психическое развитие мальчика соответствует его возрасту.
Когда Сережа видит какой-либо падающий или уже упавший предмет, он произносит независимо от эмоционального значения предметной ситуации (упал стакан и разлился его чай, что вызвало недовольный возглас матери; упал на ровном месте сам Сережа, и все засмеялись; Сережа повторно уронил игрушку и его бабушка спокойно ее подняла и т. п.) «уПА» или «БАх». Следовательно, тембры вокальных и шумовых компонентов этих звуковых комплексов имеют не эмоционально-выразительное, а уже элементарное языковое (индикативное) значение, в силу чего следует их квалифицировать уже не как сегменты меняющейся звучности, а как простейшие ритмические структуры слов.
В ситуации, когда кто-нибудь смотрит в приоткрытую дверь или находится рядом за тем или иным экраном (шкафом в комнате или висящей на веревке простыней во дворе) или когда ребенок сам куда-нибудь заглядывает, он всегда, независимо от эмоционального значения указанных предметных ситуаций, произносит «куКУ»- Следовательно, и в данном случае сегменты «ку» следует отнести к числу слогов СГ двуслоговой ритмической структуры, служащей функции индикации или номинации определенной предметной ситуации.
Любая ситуация с собакой фиксируется речевой реакцией «авв-ABB», а с кошкой — улыбкой и поглаживающими движениями руки в сопровождении звуков «ЙССС». Последний из этих двух примеров особенно интересен: здесь целый эмоционально-выразительный комплекс, состоящий не только из звуков, но и из определенных движений руки, приобрел номинативную функцию и стал соотноситься с кошкой в любой эмоциональной ситуации — и тогда, когда она ласкается и мурлычет, и тогда, когда просто идет по двору, и тогда, когда отказывается играть с Сережей и показывает когти.
Все другие свои высказывания мальчик тоже сопровождает выразительными мимикой и жестами, но они в отличие от примера с кошкой изменяются от случая к случаю в зависимости от природы предметных ситуаций. Так, все транспортные средства — настоящие и игрушечные, а также и все игрушки вообще обозначаются звуковым комплексом «биБЙ» и нередко сопровождаются жестом, показывающим их размеры. Этот же звуковой комплекс употребляется во всех ситуациях, когда что-то, имеющее отношение к машинам, механизмам, просто вещам из металла, а также их изображениям, начинает перемещаться, но в этом случае он сопровождается соответствующими движениями руки и взора.
Если Сережу попросить, то он может вслед за матерью назвать еще несколько предметных объектов, но уже в менее определенной звуковой форме. Так, бабушку он называет то «БАбаба», то «БАба-баба», даже тогда, когда повторяет за матерью слово «баба», что показывает несовершенство необходимых тормозных импульсов при воспроизведении звукового комплекса, а возможно, несовершенство и его звукового образа, когда последовательность нескольких сегментов восходящей звучности воспринимается только лишь как синкретичная нисходящая дуга звучности.
В случае падения игрушечной собаки Сережа может произнести или звуковой комплекс «уПа» или звуковой комплекс «авв-АВВ». В первом случае он просто сообщает взрослому, на которого смотрит, факт падения собаки. Во втором случае Сережа хочет, чтобы взрослый поднял и подал ему игрушку, к которой он тянется рукой и на которую указывает пальцем. Этот пример хорошо иллюстрирует положение о том, что в первую очередь подвергается вербализации субъективно наиболее ценный сегмент речи-мысли, ее предикат.
Таким образом, наблюдение дает яркие примеры того, как субъективные связи впечатлений постепенно заменяются, хотя и конкретно-фактическими, как их называл Л.С.Выготский, но еще случайными связями родства предметов по цвету, форме, соучастию в единой практической ситуации и пр. Таковы случайные связи паровоза, велосипеда, утюга и спичечной коробки, на которой изображен автомобиль, обусловленные тем фактом, что все они могут перемещаться неважно как: по рельсам, дороге, гладильной доске или плоскости пола; и неважно, посредством какой силы и с какой целью. Так как форма и содержание составляют диалектическое единство, то с изменением содержания звукового комплекса изменяется и его форма: вокализации приобретают все более дифференцированные черты русских гласных, а сегменты восходящей звучности — признаки слогового контраста. Такие преобразования при этом начинаются с субъективно наиболее ценных компонентов предметной ситуадии и с субъективно наиболее ценных сегментов высказывания.
3. Начальные механизмы языковой номинацииВ структуре звуковых комплексов спонтанного гуления глас-ноподобные тембры не имеют какой бы то ни было социально регламентированной формы. В процессе звукоподражательного гуления они приобретают черты наиболее выделенных в материнской речи гласных ударных слогов. Теперь, осваивая во взаимодействии со взрослым индикативную или номинативную функцию слов и используя имеющиеся у него разнообразные типы псевдослов (с сегментом восходящей звучности, выделенным длительностью в начале, середине или в конце псевдослова), ребенок осваивает в своих подражательных усилиях типичные для русского языка гласные звуки.
Преимущественно эту линию развития представляют, по-видимому, те дети второго года жизни, которых И.А.Сикорский характеризовал как детей с бойкой речью. Речь их кажется бойкой, по мнению автора, в силу того, что общение словами начинается у них с отработки точной ритмической структуры слов. При этом звуковой состав ритмических структур остается очень приблизительным. По выражению И.А.Сикорского, ребенок произносит «скелет» нужного слова по слоговому составу, по ударению и по голосовому оттенку (т. е. тембру), например: «титиТЙ» (кирпичи), «тиТЙти» (бисквиты), «ниНЙка» (взглянй-ка), «дадаДАд» (лимонад), «акаЗА» (стрекоза) и т. п. Автор подчеркивает, что такие слова ребенка обильны гласными; его язык не выдерживает двух или трех согласных сразу, т. е. в основе его слов лежат псевдослова, построенные из сегментов восходящей звучности. В современной литературе аналогичные наблюдения представлены А. К- Марковой: «нидаДА» (никогда); «таДЙди, лиДИди» (четыре); «ПАтити» (ландыши); «бадыДАна» (обезьяна); «татаТУля», «патаТУля» (температура); «питиТЕт» (велосипед) ; «дадиДЙня» (занавеска); «панюНЮню» (половину) и пр. у ребенка 2 лет.
Исследования А.Н.Гвоздева показали, что первоначальный словарь ребенка состоит из слов-корней. Русский язык располагает, по данным Гриббла, 1250 корнями, из которых лишь 130 корней двусложны, а все остальные односложны и 1125 из односложных корней имеют форму закрытого слога. Так как, согласно взглядам современной фонетики, конечный согласный в словах структуры СГС имеет редуцированный гласный призвук (СГСГ), то, за небольшим исключением, все слова-корни, с которых начинается освоение словаря родного языка, относятся по существу к распространеннейшим хореическим псевдословам типа «мама». Языковое опосредование этих псевдослов и превращение их в слова-корни начинается с преобразования сегментов восходящей звучности, отличающихся сравнительно высокой субъективной ценностью и потому стоящих под ударением, в слоги СГ, описываемые определенными признаками слогового контраста.
Так, по-видимому, начинается языковое развитие тех детей второго года жизни, которых И А.Сикорский характеризовал как беспомощных в речевом отношении. Эти дети второй группы пренебрегают ритмикой речи и сосредоточивают свои усилия на правильном произнесении ударного слога, репрезентирующего в ней то или иное слово-корень. Автор излагает весь процесс следующим образом. Первые из употребляемых для обозначения
слов слоги состоят из согласного и гласного звуков или только из гласного, причем вначале они неясны и неотчетливы. Первыми из согласных появляются губные л и б, потом уже язычные согласные. Правильная артикуляция звуков достигается постепенно, в процессе тренировки своего произнесения под контролем слуха. Так, один и тот же звук с вначале произносится на месте целой группы звуков (з, ш, ж); затем там, где должен быть ш, ребенок начинает произносить звук с все с большим «смягчением», и постепенно артикуляция становится типичной для звука ш. Наиболее трудны звуки, требующие сложной координации различных движений: ш, ж, р, л, иногда з. Стечения согласных в словах на начальном этапе развития речи несвойственны и этой второй группе детей.
Переинтерпретируем тот же самый процесс в свете современных представлений о признаках слогового контраста. Слог СГ — минимальная произносительная единица речи — служит, по этому автору, условием существования в ней аллофонов гласных и согласных фонем. Различия согласного и гласного звуков в слоге СГ называются контрастом. Любой слог может быть охарактеризован числом реализующихся в нем контрастов. Известны следующие слоговые контрасты (в терминах акустических характеристик):
1. Контраст по громкости — от минимума на глухом взрывном согласном к максимуму на гласном; ослабление контраста происходит как за счет увеличения громкости согласного (наиболее громкие — сонанты), так и за счет уменьшения громкости гласного (наименее громкие — и, ы, у).
2. Контраст по формантной структуре — от полного ее отсутствия на глухом взрывном к четкой формантной структуре гласного. Контраст этот ослабляется за счет появления формант в согласных (максимально «формантные» — сонанты) и за счет ослабления некоторых формант в гласных.
3. Контраст по длительности — от мгновенного шума взрывных к длительному звучанию гласных. Контраст исчезает в слогах с любыми другими согласными.
4. Контраст по участию голосовых связок — от глухого согласного к гласному. Контраст исчезает в слогах со звонкими согласными.
5. Контраст по месту образования, связанный с начальной и конечной частотой второй форманты гласного. Максимальный контраст — в А-слогах с мягкими согласными, минимальный — в И-слогах. Контраст ослабляется по мере сближения места образования согласного и гласного. При этом ослабление контраста максимально в заударных слогах: слоги с сонантами или звонкими щелевыми согласными часто бывает невозможно разделить на 2 элемента, соответствующие согласному и гласному, в результате полного исчезновения контраста между этими элементами».
В русском языке возможны 175 слогов типа СГ и 21 слог, образующийся конечным согласным перед абсолютной паузой. Как указывалось уже выше, в таком положении характеристики согласных свидетельствуют о появлении отдельного слога. Число безударных слогов типа СГ меньше за счет того, что не все гласные встречаются в безударном положении. Таким образом, несомненно, что семиотические возможности слога СГ, описываемого признаками слогового контраста, значительно богаче, чем лепетного сегмента восходящей звучности, на основе которого такой слог формируется и через, посредство которого он реализуется субъектом в звуковом потоке речи.
Теперь вернемся к описанию И.А.Сикорским процесса освоения звуковой формы слов-корней детьми второй группы. Судя по этому описанию, первоначально осваивается максимально контрастный и коррелирующий с субъективно наиболее ценным сегментом восходящей звучности слог ПА: самая яркая из всех возможных дуга восходящей звучности дифференцируется согласно пяти признакам слогового контраста.
Процесс постепенной дифференциации дуги восходящей звучности по нарастающему числу признаков слогового контраста намечается И.А.Сикорским на материале слогов с начальным щелевым согласным. Тот же процесс фактически упоминается, хотя и не получает должного толкования, в работе А.К.Марковой.
Поскольку теория слоговых контрастов была разработана всего немногим больше 10 лет тому назад, а лепетные сегменты восходящей звучности как эмоционально-выразительная основа их формирования впервые излагается в настоящем пособии, то систематического исследования преобразования таких лепетных сегментов у детей второго года в слоги СГ, обладающие разным числом признаков слогового контраста, пока еще нет. Тем не менее, используя наблюдения И.А.Сикорского и А.К.Марковой, представим себе в общих чертах дальнейший ход языкового опосредования эмоционально-выразительных псевдослов.
Как бы ни начался этот процесс — с дифференциации ритмической структуры звукового облика слова или с дифференциации признаков слогового контраста в его ударном сегменте восходящей звучности, начало этого процесса всегда связано с преобразованием, прежде всего выделенного сегмента в слове взрослых (его предударно-ударной части у детей первой группы и его ударного начального слога у детей второй группы). При этом интересно, что уточнение ритмической организации слов-корней у детей первой группы часто проходит, по данным И.А.Сикорского, через некоторую промежуточную стадию, во время которой ребенок вводит в слово, чтобы избежать трудных для него стечений
согласных, гласные и, таким образом, увеличивает число слогов слова взрослых. Так, знаменательное слово с отрицательной частицей не знаю произносится сначала «ненаю», затем «незанаю» или «незинаю», только потом не знаю. То же самое в наблюдениях А.К.Марковой: деньги — «дёники», жилки — «дйлики», дятлы — «дядили». С современной точки зрения очевидно, что в этих наблюдениях было отмечено, как дети представляют вначале каждый согласный слова взрослого в виде синкретичного сегмента восходящей звучности. Лишь потом, когда эти сегменты превратятся в слоги СГ, становится возможной редукция вокального компонента одного из них.
У детей второй группы процесс языкового опосредования, начавшись с начального ударного слога в словах взрослых, имеющих структуру СГСГ, затем охватывает начальные безударные или неначальные ударные слоги слов иной ритмической структуры. В соответствии с этим слово молоко обозначается многими детьми «мо» или «ко» и лишь позже «моКО» и т. п.
Постепенно обе тенденции языкового опосредования псевдослов, как.бы конкурирующие у детей первой и второй групп, совмещаются. При этом бывает, что не сразу устанавливается стабильный порядок слогов в слове, что И.А.Сикорский иллюстрирует таким примером: «галавйт» («авали» — искаженное говорит). Пример понятен, если учесть, что слоги ла и ва, а также ей и ли имеют один и тот же набор признаков слогового контраста,
Становясь слогами русской речи, сегменты восходящей звучности утрачивают свои абсолютные ценностные характеристики (см. табл., с. 50). Их субъективная ценность становится производным такой целостной предметной ситуации или одного из ее компонентов. Показателен в этом отношении пример того, как уже упоминавшийся нами ребенок 1 года 4 мес. Сережа В. употреблял звукосочетание «Н'А»'. Он произносил этот синкретичный звуковой комплекс в самых разнообразных ситуациях: когда он что-нибудь давал, а равно и брал или когда он хотел, чтобы ему что-нибудь дали, а равно и у него что-нибудь взяли. И только в одном-единственном случае, связанном с мотивом высокой субъективной ценности, а именно с желанием пить (стояли очень жаркие и душные дни лета), мальчик, протягивая руку, требовательно произносил не «Н'А», а «Д'А» (дай). Это говорит о том, как высокая субъективная ценность прогнозируемого результата коммуникативного акта способствует шлифовке его формы, в данном случае употреблению односложного слова дай, признаки слогового контраста в начальном произносимом слоге да которого несколько отличаются от таковых в дифференцируемом тоже односложном слове на. Наблюдение подтверждает, что ситуация высокой субъективной ценности способствует языковой дифференциации синкретичных звуковых комплексов ребенка.
Патогенез двух выделенных А.Р.Лурия форм артикуляторной апраксии — кинетической и кинестетической — связан с распадом тех условнорефлекторных механизмов, которые формируются у детей второго года жизни и становление которых было описано \\ А. Сикорским у детей первой и второй групп. Можно подкрепить эту мысль материалами о том, как происходит языковое опосредование эмоционально-выразительных псевдослов и их составных частей у детей раннего возраста.
Кинестетическая артикуляторная апраксия у лиц с уже сложившейся речью представляет собой распад слоговых артикуля-торных обобщений типа СГ с растормаживанием вследствие этого единиц более элементарного функционального уровня — синкретичных сегментов восходящей звучности. Распад слоговых артикуляторных обобщений, или, иначе, артикуляторных признаков слогового контраста, естественно, ведет к тому, что согласный звук слога СГ теряет свою качественную определенность и слоги — производные одного и того же сегмента восходящей звучности начинают смешиваться. Больной повторно воспроизводит этот сегмент и под контролем слуха пытается придать ему необходимую артикуляторную форму (как говорил А.Р.Лурия, «поиск артикуляторного уклада»).
Кинетическая артикуляторная апраксия, также у лиц с уже сформированной речью, демонстрирует распад ритмических слоговых структур на отдельные слоги СГ (послоговая речь). Естественно,.что при этом возрастает вокализация соответствующих звуковых комплексов: ведь составные компоненты аффрикат (ц = т + с; ч' = т' + ш) и стечения согласных получают более или менее выраженные гласные призвуки. Больной, стремясь преодолеть послоговость речи, непроизвольно повышает субъективную ценность используемых им артикуляторных единиц, в связи с чем возникают характерные замены щелевых согласных звуков смычными, а звонких согласных звуков — глухими (см. табл. 1).
Послоговая речь больных с кинетической артикуляторной ап-раксией убеждает в том, что стечения согласных нормативной русской речи представляют собой вторичное явление. По-видимому, процесс языкового опосредования псевдослов завершается тем, что под влиянием образцов речи взрослых степень их вокализации уменьшается. Как показали подсчеты С. М. Носикова, соотношение шумовых и вокальных элементов в составе лепетных псевдослов прогрессивно изменяется с уменьшением числа вокальных элементов. К полутора годам это соотношение достигает нормативной для русской речи величины, равной 1,37.
Падение степени вокализации псевдослов должно быть связано с развитием тормозных влияний на ранее сложившиеся автоматизмы. Редукция гласных открытых слогов СГ представляется следствием ускоренного темпа реализации некоторых сегментов артикуляторной программы целостной ритмической структуры слова: каждый следующий слог начинает артикулироваться до того, как кончится реализация предыдущего, в результате чего и получаются стечения согласных. Одновременно с падением вокализации псевдослов должно происходить и ограничение числа типов стечений согласных, возможных в русской речи.
Из двучленных сочетаний согласных нормативны в русской речи лишь 24. Сочетания же шумовых элементов в лепетных цепях могут быть очень вариативны. Из этого следует, что ребенок начала второго года, подражая эмоционально-выразительной речи взрослых, осваивает не только стечения согласных, но и характерные для родной речи типы таких стечений.
Опираясь на материалы работы Г.М.Богомазова, можно представить себе, что это за стечения. Он подразделил все двучленные стечения русских согласных на высокочастотные, характерные для начальных частей слова и начинающие морфему, которые он назвал удобными, и на относительно низкочастотные, характерные для конечных частей слова и встречающиеся на морфемных стыках, которые были названы неудобными. Удобные стечения согласных состоят из хорошо контрастных фонетических элементов, в силу чего они, по мнению автора, легко воспринимаются и непринужденно артикулируются. Неудобные стечения согласных трудны для восприятия и артикуляции, ибо их фонетические элементы малоконтрастны.
Анализ показывает, что удобные стечения согласных (взрывной П + дрожащий, взрывной или аффриката + гетерогенный сонант, щелевой + плавный), характерные для начальных частей слов взрослой речи, относятся, за одним исключением (щелевой + гоморганный взрывной или аффриката), к числу сегментов с восходящей дугой звучности, тогда как неудобные стечения согласных, характерные для конечных частей слов взрослой речи, более вариативны в этом отношении и относятся к числу сегментов с восходящей, нисходящей и неменяющейся дугой звучности (взрывной или аффриката -(- носовой, сонант + щелевой, сонант + сонант и пр.). Есть все основания думать, что такое распределение удобных и неудобных стечений согласных в словоформах взрослой речи является отголоском структурных особенностей детских псевдослов, восходящая звучность которых до ударного слога и нисходящая после него искажается грамматическими аффиксами, наиболее многообразными в заударной позиции слова взрослых.
Первые слова со стечениями согласных появились у ребенка, бывшего под наблюдением А.К.Марковой, в возрасте 1 г. и 3—4 мес: картина — «кантй», «тахтй». Этот пример демонстрирует, что, несмотря на неверный и неустойчивый состав согласных стечения, ребенок правильно воспроизводит его тип — во всех трех стечениях (нт, хт и исходном рт) имеет место нисходящая дуга I звучности.
Освоение звуковой формы слов взрослых с характерными 1 для них многочисленными стечениями согласных, направлен-I ность изменений звучности которых нередко, особенно в заударной позиции слова, противоречит направленности изменений звучности целостного звукового облика слова, наступает обычно уже в дошкольном возрасте. По сути дела это есть следствие преодоления последних остатков так называемого физиологического косноязычия. Само же явление физиологического косноязычия представляется нам как выражение процессов языкового опосредования эмоционально-выразительных вокализаций, сегментов восходящей звучности и целых псевдослов с преобразованием их в аллофоны гласных, слоги С Г., слоговые ритмические структуры и фонемные последовательности родной речи.
4. Начальные механизмы языкового выражения мыслиЕсли начальные этапы языкового опосредования псевдослов и превращения их в слова-номинации более или менее можно себе представить, синтезируя имеющиеся в литературе сведения, то по отношению к псевдосинтагмам сделать то же самое значительно труднее. Это и понятно, ведь само учение о синтагме, минимальном отрезке речи — мысли, по терминологии акад. Л. В. Щербы, значительно моложе учения о слове.
Однако, имея в виду изложенные системные закономерности, можно думать, что прежде всего начальному языковому опосредованию подвергаются псевдосинтагмы, занимающие позиции сравнительно высокой субъективной ценности в целостной коммуникативно-познавательной ситуации. Таковы все упоминавшиеся выше детские слова-предложения, составляющие функциональное единство с экстралингвистическими субъективно менее ценными компонентами предметно-образных и предметно-действенных ситуаций1. На материале таких коротких эмоционально-выразительных высказываний, которые, используя лингвистические критерии, можно условно отнести к числу номинативных, безличных и неопределенно-личных односоставных рематических предложений, ребенок середины второго года жизни и начинает, по-видимому, освоение обобщенных коммуникативных типов синтагм и их национально-специфических мелодических форм.
Так же как это было при освоении предметной отнесенности слова, псевдосинтагмы теряют свое ведущее эмоциональное коммуникативно-познавательное значение, но зато, подчиняясь предметно-образному и предметно-действенному смыслу ситуации в целом, приобретают обобщенное предметно-ситуационное значение восклицания, вопроса и утверждения (повествования). Так, в интонации восклицательного высказывания с крутым подъемом мелодической кривой и таким же крутым ее спадом обобщаются самые разнообразные эмоционально-выразительные псевдосинтагмы высокой субъективной ценности. Псевдосинтагмы умеренной субъективной ценности, будучи дифференцированными на единицы мажорного типа с восходящим мелодическим контуром и единицы минорного типа с нисходящим мелодическим контуром, дают начало синтагмам соответственно вопросительного и утвердительного (повествовательного) характера. В вопросительных интонациях находят обобщенное выражение самые разнообразные коммуникативно-познавательные состояния, характеризующиеся ростом эмоционального напряжения; в утвердительных интонациях — те коммуникативно-познавательные состояния, которые характеризуются падением эмоционального напряжения.
Освоению этих типов синтагм (вопросительных и утвердительных) много способствуют диалоги ребенка с окружающими взрослыми. Ведь вопросно-ответная форма диалога претворяет в себе общий принцип коммуникативно-познавательного взаимодействия, когда детерминируемое познавательными образами внешней среды эмоциональное возбуждение одного коммуниканта гасится ответной репликой второго коммуниканта. Именно поэтому вопросительные реплики оформляются восходящим движением мелодии, а ответные — нисходящим.
I Миша!
II Я^здесь. Что?
I Поди ко мне.
II Зачем?
I Будем завтракать. Ты проголодался?
II Да. Котлетку дашь?
I Нет, котлетки на^обед.
Каждая пара реплик (вопрос и ответ на него) функционально образует эмоционально-выразительное единство. Такое единство отображает целостное эмоциональное событие: оклик матери:
«Миша!»—и отзыв ребенка: «Я'~^здесь»; вопрос ребенка:
«Что?» — и ответ матери: «Поди ко^мне» — и т. д. Содержательное единство вопроса и ответа выражается единством звуковой формы: восходящий мелодический интервал переходит в нисходящий.
Чем круче и уже мелодические интервалы, тем вопрос и ответ звучат настоятельнее (определеннее, категоричнее); такого рода реплики характерны для диалогов, ведущихся в состояниях высокой субъективной ценности или аффекта. Напротив, диалоги низкой субъективной ценности становятся мелодически невыразительными.
Мелодическое единство вопроса и ответа, реализуясь в самостоятельных высказываниях двух разных коммуникантов, может быть не слишком очевидно из-за числа и структуры слов, входящих в каждое из них. Так, в ответной реплике «Поди ко^мне» нисходящее движение мелодии оформляется лишь в самом конце слова: «ко^мне»; до этого момента тембровая динамика имеет преимущественно восходящее направление. В вопросительной реплике «Что ты от меня хочешь?», наоборот, ключевое слово стоит в начальной позиции, в силу чего восходящий мелодический интервал чрезвычайно узок, а вслед за ним имеет место преимущественно нисходящее движение мелодии. Подобные примеры демонстрируют зависимость восходяще-нисходящей мелодики вопросно-ответных единств от составляющих их слов.
При начальном языковом опосредовании псевдосинтагм ребенок осваивает лишь индикативную или номинативную функцию синтагм взрослых, так же как это было раньше, на начальном этапе языкового освоения слов взрослых. Синтагмы детей конца второго года жизни такие же фрагменты комплексного мышления, как и их слова; они соотносятся с отдельными аспектами предметных ситуаций, но еще их не символизируют. В этом отношении интересны факты, собранные О.И.Яровенко.
Наблюдения за речью двухлетних детей показали, что они употребляют интонации и повествовательного, и вопросительного, и восклицательного типов, но произвольно воспроизвести или скопировать эти интонации вслед за педагогом они не могут. Эта способность появляется у детей с трех с половиной лет, при этом воспроизведение восклицательных предложений педагога для них составляет наибольшую трудность. Больше того, взрослые аудито-. ры опознавали лучше восклицательную интонацию высказываний, вырезанных из магнитных записей спонтанной речи этих детей, чем восклицательную интонацию высказываний, повторенных детьми за педагогом.
Очевидно, что коммуникативные типы речевой интонации обследованных детей еще включены в целостную предметную ситуацию, неотделимы от нее и эта интимная связь с ситуацией характеризует в первую очередь высказывания высокой субъективной ценности, т. е. интенсивно мотивированные восклицательные высказывания.
Мощным стимулом к освоению национально-специфической формы синтагм, обладающих функцией предметного соотнесения, Должно служить чтение ребенку вслух детских книг и рассказывание ему сказок. Интонации в подобных устных текстах всегда наглядно мотивированы предметной ситуацией и социальными ролями персонажей. Дети часто, давно уже зная текст такой книги или сказки наизусть, просят взрослых рассказать их еще и еще раз, явно внимая их интонационным особенностям.
Так как эмоционально-выразительные интонации обусловливаются ситуацией, к факторам которой относятся как текущие, так и актуализируемые из памяти предметные пространственно-временные, социальные и потребностные обстоятельства, то эти интонации бесконечно вариативны даже при повторном чтении одной и той же сказки одним и тем же взрослым. Тем не менее обобщенное вопросительное или утвердительное, а также восклицательное значение этих интонаций, несмотря на всю их эмоционально-выразительную вариативность, остается одним и тем же.
«Прискакал к теремку заяц.
— Кто в тереме живет?
— Я, комар-пискун.
— Я, лягушка-квакушка.
— Я, мышка-норушка. А ты кто?
— А я зайчик-поскакайчик, длинные уши.
— Иди к нам жить». И т. п.
Неизменность и элементарность понятийного содержания таких текстов способствуют начальному языковому обобщению бесконечно вариативных эмоционально-выразительных интонаций.
Постепенно, в процесс языкового опосредования втягиваются псевдосинтагмы, состоящие не из одного, а из двух-трех псевдослов; в роли единиц изменяющейся субъективной ценности оказываются целые псевдослова: несущие синтагматическое ударение и свободные от него. Как всегда, субъективно наиболее ценная единица подвергается более прогрессивному языковому опосредованию, чем единицы умеренной субъективной ценности, зато эти последние оказываются более сложно дифференцированными.
Большой интерес представляет появление у ребенка вопросительных высказываний с начальными вопросительными словами. Окружающая нас действительность текуча, в ней отсутствуют строгие разграничительные линии. Процесс языкового познания этой действительности связан с выделением каких-то отдельных предметов, с их наименованием, с их отождествлением между собой, с превращением непрерывного в дискретное, текучего в жесткое. Одной из важнейших функций языковых звуковых комплексов (по Б.А.Серебренникову) является «функция метки или возбудителя». Ребенок, приступая к освоению родного языка, застает разветвленную систему таких языковых меток, характеризующих данный объект или данное явление с точки зрения его цвета, формы, величины, изменчивости и характера этой изменчивости, пространственных и временных характеристик, количественной меры, принадлежности тому или иному лицу, причинно-следственных отношений с другими объектами, явлениями и пр. Задавая бесконечные вопросы (кто? что? какой? чей? сколько? где? когда? как? зачем? и почему?), ребенок направляет мысль собеседника в интересующем его направлении и получает в ответ соответствующую языковую метку.
Такие вопросительные слова составляют субъективно самое ценное в высказывании ребенка. В определенной предметной ситуации все высказывание может вообще свестись к вопросительному слову, подчас в сопровождении жеста или взорного движения. Высокая субъективная ценность вопросительных слов структурно закрепляется, во-первых, тем, что они начинают высказывание (Кто это? Чей ножик? Как это сделать? Какая сегодня погода? Зачем мыть руки? Сколько котят?), и, во-вторых, тем, что их ударные слоги, часто начинающие собой слово, обладают большим числом признаков слогового контраста. Таковы ударные слоги с глухими взрывными согласными в словах кто, что, какой, сколько, которые, как и слоги с глухими аффрикатами в словах чей, зачем (см. табл. 1). В ряде этих слогов слоговой контраст начального шумового и конечного вокального максимумов усиливается тем, что слог начинается стечением согласных кт, ск. В вопросительных словах где и когда стечение звонких взрывных согласных гд тоже позволяет приравнять ударные слоги этих слов к категории единиц высокой субъективной ценности. Разговорная манера произнесения вопросительного слова почему с редукцией одного, а то и обоих предударных слогов делает и этот ударный слог резко контрастным и, следовательно, относящимся к единицам высокой субъективной ценности.
Способствуя дальнейшей дифференциации предметной отнесенности первых предикатов мысли ребенка, вопросительные слова кладут начало таким процессам обобщающей работы мозга, которые заканчиваются бессознательным освоением различных частей речи: существительных (кто? ч т о?), глаголов (что делает? в каком состоянии находится?), прилагательных, причастий (какой?), наречий, деепричастий (как?), обстоятельств места и времени (когда? где?), числительных (сколько? который?), притяжательных местоимений (чей?).
Конечно, большинство намеченных в данной главе путей начального языкового опосредования эмоциональных коммуникативно-познавательных средств ребенка раннего возраста нуждаются в специальной экспериментально-теоретической разработке. Однако уже сейчас ясно, что между исходными и производными процессами языкового опосредования эмоционально-выразительных единиц разных иерархических уровней и субъективно-ценностных зон возникают сложные внутрисистемные зависимости. В результате нормально развивающийся ребенок овладевает в дошкольном возрасте бытовой ситуационно обусловленной речью, связанной, во-первых, со способностью языковой индикации (номинации) объектов, а также явлений действительности и их отдельных признаков и, во-вторых, с комплексным мышлением. Все это становится актуальной предпосылкой зоны ближайшего развития сигнификативной* функции родного языка, абстрактного мышления и контекстной речи. Но для того чтобы эти потенции развития могли реализоваться, у ребенка должны быть сформированы новообразования в потребностно-мотивационной сфере, что в свою очередь зависит от поведения окружающих ребенка взрослых, ставящих его перед необходимостью еще более сложной социальной адаптации*.
Таким образом, развитие у ребенка речи и мышления детерминируется и в самом деле более общими вопросами воспитания, на что обращал внимание Л.С.Выготский (см. эпиграф к настоящей главе). В связи с этим и диагностика аномалий начала языкового (речевого и интеллектуального) развития должна строиться при учете актуального развития у ребенка, с одной стороны, эмоционально-выразительных коммуникативно-познавательных средств, а с другой стороны, его мотивационно-потреб-ностной сферы или формирующейся системы субъективных ценностей. Только при этом условии, обнаруживая отставание ребенка от возрастных нормативов, мы вместо, например, простой констатации научным языком наличия у него задержки или речевой аномалии (имеется анартрия, алалия и пр.) сможем поставить дефектологический диагноз, объясняющий патогенез или механизм симптомообразования патологического синдрома и приводящий вследствие и на основе этого к конкретным практическим выводам относительно прогноза и рациональных путей педагогической коррекции.
Имея в виду закономерности эмоционального коммуникативно-познавательного развития в раннем возрасте и их значение для последующего языкового развития (речевого и мыслительного), обратимся к патогенетическому анализу некоторых типологических форм дефектологической клиники.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. КОММУНИКАТИВНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА РАННЕГО ВОЗРАСТА В ПАТОГЕНЕЗЕ ТИПОЛОГИЧЕСКИХ ФОРМ АНОМАЛЬНОГО РАЗВИТИЯПуть дефектологического исследования ребенка описывает... как бы круг, который начинается с установления симптомов, далее загибает от этих симптомов к процессу, лежащему в их центре, в их основе, и приводит нас к диагнозу; далее он снова должен повести нас от диагноза к симптому, но уже раскрывая причинную мотивировку происхождения этих симптомов. Если наш диагноз верен, то он должен доказать свою истинность с помощью раскрытия механизма симптомообразования, он должен сделать нам понятной ту внешнюю картину проявлений, в которых обнаруживает себя данный процесс развития. (Л. С. Выготский)
Изложенная выше система представлений о раннем детском развитии роли, которую в нем играют средства эмоционального познания окружающей действительности и эмоциональной коммуникации, позволяют задуматься над некоторыми формами аномального развития, патогенез или механизмы симптомообразования которых еще не до конца ясны: над синдромом госпитализма, синдромом раннего детского аутизма, олигофреническим слабоумием, алалией и ранней глухотой.
Используя положения многих авторов, а также опираясь на материалы своего собственного исследования, можно предложить следующую схему поэтапного развития коммуникативно-познавательной способности. Эта "схема поможет нам в анализе механизма симптомообразования при отдельных формах аномального развития (табл. 6).
Таблица показывает, что прогрессивно развивающиеся формы познания окружающего мира и способы коммуникации, формирующиеся в социальной среде на базе врожденных биологических предпосылок, зависят от ведущей активности то одних, то других отделов мозговой коры. Патологические процессы, поражая кору мозга неравномерно и в состояниях большей или меньшей зрелости ее нервных клеток, имеют различные клинические проявления и различные системные последствия для будущего коммуникативно-познавательного развития ребенка. Остановимся на патогенетическом анализе нескольких типологических форм аномального развития, принимая во внимание изложенные выше ней ропсихопаралингвистичесике закономерности раннего возраста.
Пусть наши диагностические и прогностические суждения на этом пути «будут описательны, полны еще не установившихся недостаточно определенных и четких положений, пусть они имеют еще колеблющиеся контуры, но пусть вместе с тем они с самого начала будут методологически и методически правильно поставлены т е будут диагнозами в истинном смысле слова». В творческом обсуждении дефектологической общественностью результатов нейропсихопаралингвистического подхода к диагностическим проблемам аномального детства случайное и ошибочное будет отброшено, а закономерное подтверждено и повторно выверено.
Таблица 6. Последовательные уровни развития коммуникативно-познавательной способности ребенка

Имея в виду табл. 6, можно определить синдром госпитализма как результат того, что универсальные биологически обусловленные эмоциональные реакции не получают естественного развития в связи с отсутствием или неполноценностью необходимых для этого обучающих воздействий со стороны окружающей ребенка раннего возраста социальной среды.
Работникам учреждений для детей раннего возраста хорошо известно, как легко они «заражаются» эмоцией окружающих. Стоит одному заплакать, как плач раздается уже из всех кроваток - только лишь воспитатель наклонится к одному ребенку и, ласково разговаривая с ним, вызовет у него радостный возглас, как уже все дети заулыбались и, повизгивая, тянут ручонки к взрослому. Такое «стадное» поведение основывается на системе отношений между звуковыми и, шире, двигательно-вегетативными поведенческими комплексами и их зонной мотивационно-активационной семантикой, которая в свою очередь является всего лишь психическим выражением непрерывно протекающих функциональных состояний организма.
Эти системные отношения объясняют универсальность эмоционального «заражения» — поведения, характерного не только для детей, но и для животных. Так, жизнерадостный предрассветный крик самого чуткого к физическим и химическим факторам наступающего утра петуха подхватывают все другие петухи; яростный лай собаки, первой учуявшей чужака, воспроизводят все другие соседские собаки; тоскливый вой голодного волка подхватывают все члены волчьей стаи и т. д.
Чем моложе ребенок и чем, следовательно, меньше отмеченные системные отношения опосредованы у него иерархически организованным опытом личности, тем способность к эмоциональному «заражению» у него резче. Это и обосновывает давно найденное педагогической практикой правило: проводя коррекционную работу с детьми, имеющими различные аномалии коммуникативно-познавательного развития, необходимо облекать ее в эмоциональные формы и, чем моложе дети, тем делать это последовательнее и строже.
«Заражаясь» эмоциями матери или другого взрослого, ребенок изменяет свои собственные функциональные состояния во всем многообразии их физиологических параметров. Эту зависимость и должен осознать дефектолог, будь он врачом, воспитателем или педагогом специального профиля. «Недостаточное внимание нервно-психическому развитию детей, в частности развитию у них положительных эмоций, отрицательно влияет на физическое развитие ребенка и может быть одной из причин гипотрофии».
Возраст от 2 до 6—7 мес. нередко относят к числу критических. В это время происходит так называемая первичная социализация ребенка, смысл которой, по-видимому, имеет отношение к интенсивно формирующемуся в это время психофизиологическому единству матери с ее ребенком. Именно поэтому материнские эмоции нужны малышу с самых первых дней его жизни. Отрыв ребенка от матери в возрасте до 6—7 мес, пока их психофизиологическое единство еще только формируется, переносится сравнительно легко; он быстро привыкает к новой обстановке и к новым людям. Разлука же с матерью или с замещающими ее лицами в возрасте с 6—7 мес. и до 3 лет приводит к тяжелейшим расстройствам развития, получившим название синдрома госпитализма.
Излагаемые в настоящей книге представления помогают пониманию давно известных фактов из истории детских приютов и больниц. В обзоре В.В.Антонова сообщается, что в начале века в американских детских больницах умирало практически 100% поступивших детей в возрасте до года. Причину этого сначала искали в питании, потом в инфекциях, но никакие мероприятия не улучшали положения: дети были апатичны, чрезвычайно восприимчивы к респираторным инфекциям, мало ели и спали, почти не улыбались и в конце концов умирали. Лишь когда в одной из детских больниц открыли доступ матерям к своим детям, психическое состояние детей резко улучшилось, несмотря на повышение вероятности инфекционных заболеваний; смертность снизилась до среднего по стране уровня. Автор приводит данные одной работы, в которой было проанализировано положение в двух детских приютах. В одном, хотя дети жили там постоянно, матери свободно посещали детей, ласкали их и кормили. В другом приюте дети совершенно не общались с матерями. В первом приюте резких отклонений от нормального развития у детей не было, и там за 2 года не умер ни один ребенок; во втором приюте отклонения от нормального развития были резко выражены, а смертность достигала 37%.
Наиболее тяжелые и стойкие нарушения психики развивались у приютских детей, лишенных матерей, во второй половине первого года жизни, однако и отсутствие контакта с матерью на втором и третьем году жизни также оказывало серьезное патогенное влияние. Даже если потом детей усыновляли и они, живя в семьях, пользовались любовью и вниманием приемных родителей, их способность к нормальным взаимоотношениям с другими оказывалась весьма ограниченной. Для них были характерны агрессивность, жестокость, раздражительность и импульсивность. Игры их были лишены эмоциональности, их отличали неразборчивость в выборе друзей и поверхностность в отношениях с ними. Им не хватало целеустремленности, а многие их действия носили инфантильный характер.
Синдром госпитализма и его последствия были промоделированы М. Харлоу и его соавторами на макаках-резусах. Детеныши обезьян, лишенные в детстве взаимодействия с их матерями, были апатичны, целыми днями сидели в одной позе или стереотипно повторяли какое-либо одно движение. Временами они впадали в приступы самоистязания или яростной агрессии к живым и неживым объектам. Вырастая, они плохо контактировали с особями своего вида. Самки, воспитанные без матерей, сами не обнаруживали материнского поведения, были равнодушны или агрессивны к своим детенышам, иногда замучивали их до смерти.
Таким образом, по-видимому, можно утверждать, что в течение критического периода первичной социализации ребенка над биологическими ценностями организма надстраиваются вторая шкала — субъективные ценности личности.
«Заражая» младенца эмоциями мажорной зоны, мать стимулирует его интерес к внешнему миру, а поскольку удовлетворение этого интереса сопряжено с тратами физиологических ресурсов, то она стимулирует в определенном направлении и обменные процессы, и дифференциацию тканей в организме своего младенца. Наоборот, «заражая» младенца эмоциями минорной зоны, мы подавляем не только его интерес к внешнему миру, но и определенные биологические процессы его организма. Не лучше, когда окружающие ребенка взрослые «заражают» его эмоциями зоны качественно неспецифичных аффектов. Эти энергоемкие эмоции истощают нервную систему ребенка и могут привести к нейросоматическим расстройствам. Незаинтересованное выполнение взрослым режимных моментов, его равнодушное, безразличное отношение к маленькому ребенку исключает возможность вообще какого бы то ни было эмоционального «заражения». С таким взрослым у ребенка не возникает потребности общения, а потому не развивается познавательный опыт и не формируются необходимые коммуникативно-познавательные средства. Возникает угроза тяжелой задержки психического развития, в патогенезе которой имеют значение расстройства системного взаимодействия ребенка со взрослым с неизбежным вследствие этого дефицитом необходимых ему экстероцептивных ощущений. А согласно исследованиям Н.М.Щелованова, организация мозговой коры идет неправильно или задерживается, при отсутствии или дефиците внешних раздражений.
В результате недостатка экстероцептивных сенсорных комплексов интероцептивные афферентные потоки продолжают оставаться ведущими, как это было и до рождения ребенка; именно эти потоки становятся объектом предметных опосредовании, что может стать поводом психопатизации формирующейся личности по инравертированному типу. Для такой личности первоначальные субъективные ценности окажутся связанными с впечатлениями не от внешней, а от внутренней среды организма. Эта точка зрения находит подтверждение в опыте педагогов и психологов. Так, М.И.Лисина пишет, что при тяжелом дефиците общения дети вплоть до трех лет остаются как бы «функционально интровертированными»; чтобы вывести младенца из нормальной только для новорожденных погруженности во внутренние ощущения и переключить его на внешний мир, нужно вызвать у него интерес к взрослому. Интерес же к взрослому, любознательность к внешнему миру и коммуникативно-познавательная активность вызываются и поддерживаются, как мы видели, исходящими от взрослого «заражающими» эмоциями прежде всего мажорного типа.
Такое, несомненно, патологическое или аномальное развитие личности малыша обусловливается всего лишь его педагогической, а точнее сказать, воспитательской запущенностью. Поэтому можно еще раз повторить, что для младенческого возраста эмоциональное общение ребенка со взрослым не роскошь, а первейшая необходимость, условие формирования его психики по человечески социальному типу. «Темп и последовательность в формировании у ребенка первого года различных умений зависят главным образом от условий воспитания и от того, на что направлены воздействия воспитывающих его людей». Лишение младенца эмоционального внимания взрослого ведет в этом раннем возрасте не только к дефициту неких навыков и знаний, как при педагогической запущенности детей школьного возраста, но, прежде всего к аномальному развитию личности ребенка.
Тембры материнской речи являются для ребенка важнейшими компонентами познавательного образа его матери. В связи с этим позволительно предположить, что способ бессознательно происходящей зонной систематизации ребенком таких тембров аналогичен способу систематизации его первоначального познавательного опыта вообще. Можно думать, что первоначальный познавательный опыт ребенка систематизируется, как и тембры эмоционально-выразительных реакций: вокализаций, смеха и плача, сегментов меняющейся звучности и т. д., соответственно четырем субъективно-ценностным зонам. Обеспечение ребенку раннего возраста материнского ухода позволяет с наибольшей уверенностью предполагать, что в его первоначальном познавательном опыте будут доминировать образы мажорного типа, что составляет одну из предпосылок развития познавательного интереса к внешнему миру и коммуникативной активности.
Профилактикой синдрома госпитализма у детей раннего возраста, воспитывающихся в домах ребенка, служит вся атмосфера детского учреждения в форме эмоциональной любовной заботы о малышах. Первейшей задачей всех членов коллектива, будь то воспитатели, врачи, няни, санитарки, является формирование у ребенка познавательного интереса к окружающему и потребности в эмоциональном взаимодействии со взрослым. Эмоциональная экстравертированность, жизнерадостность, речевая раскованность — это те качества всех членов коллектива, которые в значительной степени обеспечат нормальное физическое и психическое развитие детей.
Убирая помещение, купая, одевая или осматривая ребенка, взрослые не должны молчать или игнорировать обращенные на них взоры малышей, наоборот, они должны привлекать их внимание к своим действиям, к своей речи и постоянно ласково стимулировать их к подражанию. При этом все члены персонала должны помнить, что ребенок может подражать тому, что в общей форме он уже сам может делать, поэтому они должны быть знакомы с нормативами раннего развития. Нужно творчески разнообразить убранство помещений, избегая стереотипной расстановки кроваток, однообразного расположения игрушек и картинок на стенах, унылого однообразия в своей собственной одежде, прическе и т. п. В частности, не годятся для таких учреждений белые халаты обслуживающего персонала. Напротив, разнообразные яркие платья, цветастые косынки и передники, вызывая на себя ориентировочные реакции детей, будут стимулировать их познавательные интересы и коммуникативную активность.
Следует заметить, однако, что, так как ориентировочная коммуникативно-познавательная активность предполагает угасание оборонительной активности, то одним из условий нормального физического и психического развития детей становится так же устранение из их окружения всего того, что может пугать и устрашать: резких звуков (хлопанье дверьми, грохотание посудой и ведрами, перебранка персонала, громкая музыка); резких зрительных впечатлений (мощные, не защищенные абажуром источники света, внезапные движения в поле зрения ребенка); резких запахов, грубых обращений, шлепков и т. п.
Каждый случай госпитализма — это обвинение в невежестве, бездушии и формализме воспитывавших ребенка взрослых.
ГЛАВА 6. СИНДРОМ РАННЕГО ДЕТСКОГО АУТИЗМАЭта сравнительно нечастая аномалия развития с до сих пор неясным и дискуссионным патогенезом предстает в свете изложенных в настоящем пособии материалов, как своего рода антипод синдрома госпитализма. Если при госпитализме развитие коммуникативно-познавательной способности ребенка резко нарушается, в силу того, что полноценные биологические программы эмоционального поведения ребенка не подвергаются своевременно социальным обучающим воздействиям, то пр« детском аутизме такие полноценные обучающие воздействия падают на патологически измененный мозговой субстрат биологических программ эмоционального поведения.
Кажется правильной точка зрения В.Е.Кагана относительно того, что изучение и сопоставление этиопатогенеза, нейропсихологических и нейрофизиологических особенностей в разных синдромах аутизма заслуживают самого пристального внимания. Это поможет дифференциации клинически разных аутистических синдромов у детей, без чего невозможно построить обоснованную и эффективную систему терапии и реадаптации. Думается, что использование изложенных в настоящей книге данных относительно формы, семантики и периодов развития коммуникативно-познавательных средств может способствовать совершенствованию как дифференциальной диагностики аутистических синдромов раннего детства, так и разработке соответствующих патогенетически обоснованных коррекционных мероприятий.
Обсудим характерные симптомы раннего детского аутизма. За основу возьмем описание этого синдрома в работе В.Е.Кагана.
Сопоставляя аутистические синдромы у детей, В.Е.Каган связывает ранний детский аутизм с экзогенными вредностями, воздействующими на организм внутриутробно и во время родов. Это соответствует представлению о том, что при этом синдроме страдают эмоциональные предпосылки коммуникативно-познавательного поведения: ведь они обеспечиваются стволово-подкорковыми структурами мозга, которые именно в это время наиболее интенсивно формируются, в силу чего оказываются наиболее подверженными вредоносным воздействиям.
Ведущим симптомом аутизма является снижение «потребности в общении» (с матерью, взрослыми, сверстниками). Дети не переносят взгляда им в глаза, не просятся на руки, не льнут к взявшей их матери, не обнаруживают «комплекса оживления» при контакте с матерью, не нуждаются в ласке и сами не ласкаются. Надо полагать, что потребность в эмоциональном общении расстроена у детей в силу разрушения патологическим процессом в стволово-подкорковых отделах мозга соответствующих врожденных программ поведения. Ведь реакции зрительного, тактильного и слухового контакта с матерью относятся к числу человеческих аналогов импринтингового - поведения молодых птиц и животных. Именно в сенсорных эквивалентах этих реакций находят свое первоначальное предметное выражение эмоциональные состояния младенца. При отсутствии этих выработанных в длительном эволюционном процессе программ взгляд матери, звуки ее голоса, приближение и прикосновение могут вызывать только лишь оборонительную реакцию в виде различных вариантов реакций отстранения и избегания: отворачивания и отведения глаз, нежелания слушать, прикасаться, вступать в какое бы то ни было общение, одним словом, то или иное негативное поведение.
Снижение порогов безусловных оборонительных реакций там, где в норме снижаются пороги ориентировочного коммуникативно-познавательного поведения, выражается в более старшем возрасте отгороженностью от окружающих, настороженностью, подозрительностью и отказом от сотрудничества с ними, безразличием к сверстникам и игнорированием их, неспособностью адаптироваться к жизни в детском учреждении и т. п. То же оборонительное поведение ребенка, но пассивного типа оборачивается реакциями зависимости и подчиняемости, резкой застенчивостью и неумением защитить себя. Активация безусловных оборонительных рефлексов может объяснить и такие особенности аутистичного ребенка, как его повышенную чувствительность к звукам, яркому свету, быстрым движениям и вследствие этого его любовь к различным укромным затененным уголкам, к одиночеству.
Оборонительная поведенческая установка создает богатую почву для всевозможных страхов, когда ничтожные изменения привычного окружения могут дать повод к бурным эмоциональным реакциям. Отсюда «феномен тождества», или стремление к поддержанию неизменности окружения.
В предыдущих главах неоднократно обращалось внимание на то, что ребенок отражает из внешней среды лишь те структуры, принципиальные аналоги которым он уже умеет генерировать сам (закономерность Л.С.Выготского и С.И.Бернштейна). По-видимому, эту закономерность надо привлечь и к объяснению «черствости» аутичного ребенка. При патологическом разрушении у него нервных структур, обеспечивающих вегетативно-Двигательные компоненты эмоционального поведения, он теряет и способность понимания эмоционального поведения окружающих, и способность сопереживания и эмоционального «заражения».
Своеобразие мимики аутичного ребенка (лицо принца) есть скорее всего результат выпадения неосознаваемых вегетативно-двигательных реакций, сопровождающих динамику непрерывно текущих эмоциональных состояний человека (и тем более ребенка) в многообразии их предметных опосредовании.
Недостаточность или разрушение врожденных программ поведения глубоко расстраивает эмоциональные коммуникативно-познавательные процессы. С одной стороны, глубокие расстройства этих процессов ведут к тому, что у ребенка не формируются средства и способы эмоционально-выразительного знакового отражения действительности. Не знающий эмоционального контакта с матерью и другими взрослыми, он не может в подражательном взаимодействии с ними преобразовать свои спонтанно вызревающие синергии в национально-специфические знаки эмоционального общения. Последовательно появляющиеся паллидарные и стриарные синергии остаются социально неупорядоченными, что и выражается в характерном для аутич-ных детей двигательном поведении: разнообразных напоминающих гиперкинезы двигательных стереотипиях, ритмично повторяемых по механизму обратной тактильно-кинестетической связи (сгибания и разгибания пальцев рук, потряхивания и вращения кистями рук, бегание по кругу, подпрыгивания, вращения вокруг своей оси и пр.), моторных штампах, однообразном верчении предметов и т. п. Так же неупорядочены и речевые синергии. Достаточно развитые гуление и лепет не социализируются, звукоподражательные и звукоизобразительные комплексы отсутствуют, дети стереотипно повторяют бессмысленные звуковые комплексы, иногда имеющие форму слов, вычурно интонируют.
С другой стороны, клетки мозговой коры аутичных детей получают по системе проекционных афферентных путей комплексы раздражителей от рецепторов органов чувств, на основе чего у них формируются навыки предметного восприятия, речевого гнозиса и праксиса и особенно языкового мышления. Однако все эти психические приобретения ребенка оказываются субъективно малоупорядоченными, лишенными зонных субъективно-ценностных характеристик, и потому используются ребенком сплошь и рядом механически.
Л.С.Выготский, а потом и А.Н.Леонтьев не раз обращали внимание на значение субъективных смыслов познавательной деятельности, что придает поведению человека качество пристрастности. «По отношению к познавательным процессам, смысл является тем, что делает эти процессы пристрастными, что вообще сообщает мышлению психологически содержательный характер, принципиально отличающий интеллектуальные процессы, происходящие в человеческой голове, от тех, иногда очень сложных процессов вычисления, которые производятся счетными машинами... проблема формирования и развития мышления не может быть целиком сведена к проблеме овладения знаниями, умственными умениями и навыками...». Теперь на патологическом материале можно убедиться в справедливости этих слов. При раннем детском аутизме дети могут овладевать знаниями, умственными умениями и навыками, но при отсутствии у них врожденных программ эмоционального поведения и, следовательно, при тяжелом дефекте субъективных зонных оценок познавательного опыта все это функционирует машинообразно и потому не обеспечивает или плохо обеспечивает цели адаптивного поведения личности.
Иллюстрацией сказанному могут служить гипертрофированно развитые у ряда детей счетные навыки, как, например, у Вовы Р. Мальчик 7 лет, находясь в лечебном учреждении по поводу выраженных расстройств социального контакта и нарушений практических навыков самообслуживания, случайно стал свидетелем разговора санитарок об ошибочном начислении одной из них заработной платы. Он вмешался в разговор: «Сколько ты получаешь?» — и тут же сообщил причитающуюся ей сумму, совпавшую с результатом последующих длительных пересчетов в бухгалтерии.
Гипертрофированная способность механического формального оперирования языковыми знаками может проявляться у детей и в так называемой попугайной, патефонной и механической х речи, когда они эхолалически воспроизводят большие по объему речевые тексты, интонируя их то с необычными модуляциями, то абсолютно точно, то вообще плохо. Эти высказывания, лишенные какого бы то ни было субъективного, личностного смысла, воспроизводятся «полевым образом» по ассоциации с какими-то факторами, остающимися неясными для окружающих (отставленные эхолалии), но они не могут быть актуализированы произвольно в зависимости от иерархии личностных мотивов и целей, глубоко патологичной у таких детей.
В этом же ряду коммуникативно-познавательных особенностей детей с ранним детским аутизмом можно упомянуть склонность детей школьного возраста к формальному регистрированию различных абстрактных знаковых объектов: газетных заголовков, названий улиц и т. п. Патологические, в своем х роде насильственные, не имеющие для ребенка смысла высказывания могут сочетаться с аналогичным двигательным поведением, иногда достаточно сложным. «Использование речи - пишет В. Е. Каган - как правило, отмечено ригидностью, негибкостью. Предпочтение «звучных» слов и оборотов, «каллиграфичность» речи выглядят неуместными, а речь в целом производит впечатление искусственности, неестественности и штампованности. Другими словами, ребенок говорит так, как это делают современные электронные машины, без свойственных нормальной человеческой речи эмоциональной гибкости и ситуационно вариативных изменений формы языковых знаков в целях выражения личностных оттенков смысла.
В целом можно думать, что поведение аутичного ребенка организуется как бы по двум ценностным шкалам. Во-первых, это более или менее редуцированная чисто субъективная шкала биологических ценностей, а во-вторых, наоборот, это чисто объективная шкала общественных знаковых ценностей, например языковых понятий. Промежуточной же ценностной шкалы, посредством которой существующие вне субъекта знаковые ценности, опосредуясь биологическим опытом вида, преобразуются в знаковые ценности личности, у ребенка нет. В силу этого обе другие крайние шкалы претерпевают известные деафферентационные изменения. Редуцированная биологическая ценностная шкала растормаживается (в соответствии со старым дезинтеграционным законом Джексона), и все раздражения из внешней среды, приобретая высокую значимость, актуализируют оборонительное поведение ребенка. Ценностная шкала объективных понятий, выраженных абстрактными языковыми знаками, тоже подвергается своеобразному растормаживанию, в результате чего особую значимость получают формальные операции с различными знаковыми единицами.
Частными выражениями этих изменений в ценностной организации опыта личности являются такие характерные симптомы раннего детского аутизма, как возможность успешного оперирования обобщающими понятиями при трудностях в наглядно-действенном поведении; формирование монологической речи раньше диалогической; обилие в речи «умных» слов при неумении пользоваться утвердительными и отрицательными частицами да и нет; освоение значения местоимения он раньше, чем значений местоимений ты и тем более я; способность осознания другого человека как объекта, а себя как субъекта, но неспособность видеть в другом человеке субъекта, а в себе самом объекта; иногда встречающаяся беглость речи, легкость генерирования идей, отдаленность и оригинальность понятийных ассоциаций и несостоятельность в практической жизни (неумение вступить в общение, завязать дружеские отношения, защитить себя, найти практически адекватные приложения своих идей).
Таким образом, можно высказать гипотезу, что патогенетическая загадочность синдрома детского аутизма и неясность механизмов симптомообразования при нем в известной мере устраняется, если принять во внимание оговоренную выше иерархическую структуру коммуникативно-познавательной способности человека (табл. 6, с. 102). Нейропсихопаралингвистическое изучение этого синдрома несомненно будет способствовать его отграничению от клинически сходных форм детского аутизма, в том числе шизофренического, а также от тех своеобразных дизонтогений, один из вариантов которых был описан Л.А.Булаховой.
Принципы коррекционно-воспитательной работы при раннем детском аутизме еще только разрабатываются. Тем не менее очевидной основой этой работы являются целенаправленное подавление чрезмерно интенсивного безусловного оборонительного рефлекса и коммуникативно-познавательная переориентация оборонительных реакций ребенка умеренной интенсивности, т. е. то, что бессознательно делает мать в первые месяцы жизни младенца. От успешности этой работы зависят перспективы коррекционно-воспитательной работы в целом.
Поскольку диагноз раннего детского аутизма редко ставится раньше, чем в три года, то можно утверждать, что коррекционно-воспитательная работа с детьми этой категории всегда требует как от педагога, так и от родителей систематичности, упорства, терпения и огромного такта. Чем старше ребенок и, следовательно, чем больше у него успели закрепиться оборонительные установки поведения, во-первых, и чем больше было упущено благоприятных возрастных возможностей развития, во-вторых, тем перспективы коррекционно-воспитательной работы становятся более пессимистичными.
Мы не будем обсуждать уже используемые в практике приемы угашения эмоционально отрицательных в силу их интенсивности ориентировочных реакций ребенка (постоянная доброжелательность, спокойное поощрение всякого успеха, исключение «лобовых» приемов взаимодействия с ним и пр.). Обратим внимание на необходимость строгого соблюдения уже неоднократно упоминавшегося принципа, согласно которому можно направлять сознательные усилия ребенка лишь на то, что он бессознательно, в общей форме умеет делать сам. Наблюдая за ребенком, педагог выявляет такие его актуальные возможности и на их основе планирует зону ближайшего развития. Для реализации этой зоны ближайшего развития педагог формирует доступную пониманию ребенка мотивацию. При этом педагог терпеливо повторно показывает, чего он добивается, воспроизводя соответствующие действия сначала без ребенка, потом с его пассивной помощью и, наконец, побуждая его к самостоятельным активным действиям.
Поскольку при раннем детском аутизме операционно-техническое оснащение коммуникативно-познавательной деятельности Ребенка формируется в обратной последовательности, по сравнению с нормальным развитием, то и вся направленность коррекционно-воспитательной работы приобретает такой же «извращенный» характер: формирование мотивов абстрактного мышления и контекстной речи опережает формирование мотивов конкретного комплексного мышления и ситуационно обусловленной речи. Мотивы же чисто эмоционального познания и эмоциональной коммуникации, лежащие в основе коммуникативно-познавательного развития здорового ребенка, при раннем детском аутизме вырабатываются в последнюю очередь, причем внимание ребенка привлекается к эмоциональной семантике сначала отношений между компонентами коммуникативно-познавательной ситуации, потом — ее компонентов (он, она, они), еще позже — активности коммуникативного партнера (ты) и в последнюю очередь — субъекта коммуникативного акта (я).
Эта общая направленность формирования мотивационно-потребностных новообразований ребенка, естественно, должна дифференцироваться в соответствии с его индивидуальными особенностями, которые раскрываются по мере проведения коррекционно-воспитательной работы. Поэтому к достоинствам педагога, работающего с детьми этой категории, следует добавить постоянную тонкую наблюдательность. В частности, чем раньше удалось начать коррекционно-воспитательную работу с ребенком, тем «извращенная» направленность может стать менее глобальной, для чего необходим опять-таки тщательный анализ клинических проявлений раннего детского аутизма.
ГЛАВА 7. ОЛИГОФРЕНИЯНесмотря на то, что олигофрения в отличие от синдромов госпитализма и раннего детского аутизма относится к наиболее частым аномалиям развития и изучение ее имеет давнюю историю, патогенез* ее до конца тоже неясен. Возрастающая в наши дни социальная значимость олигофрении делает задачу изучения ее патогенеза особенно актуальной.
Сделать эту форму аномального развития предметом наших размышлений тем более целесообразно, что сквозь всю историю ее изучения идет дискуссия о том, какое место в механизме симптомообразования олигофрении занимает дефект эмоционально-волевой сферы ребенка.
«В проблеме умственной отсталости,— писал Л.С.Выготский,— до самого последнего времени выдвигается на первый план в качестве основного момента интеллектуальная недостаточность ребенка, его слабоумие. Это закреплено в самом названии этих детей, которых обозначают обычно слабоумными, или умственно отсталыми. Все остальные стороны личности такого ребенка рассматриваются обычно как возникающие вторично в зависимости от основного интеллектуального дефекта. Многие склонны даже не видеть существенного отличия в аффективной и волевой сфере этих детей и детей нормальных».
Со стороны многих исследователей такое интеллектуалистическое направление встречало уже давно оппозицию. Так, по Сегену, в основе олигофрении лежит расстройство волевых процессов, при этом не только высших, но и самых элементарных. Антиинтеллектуалистические тенденции в понимании патогенеза олигофрении получили наибольшее выражение в теории Курта Левина. Эта теория пытается, по свидетельству Л. С. Выготского, выдвинуть в центр проблемы аффективные нарушения, «не только отодвигая к периферии интеллектуальную недостаточность, но даже стремясь вывести ее из центральных расстройств аффекта и воли».
Заслугой Л.С.Выготского является то, что, подвергнув критическому рассмотрению проблему, он поставил в центр своего собственного экспериментального исследования отношения между интеллектуальными и аффективными процессами. В результате он разработал психологическую концепцию, краеугольным камнем которой является, по его выражению, идея единства интеллекта и аффекта в развитии нормального и слабоумного ребенка.
Лишь на самых начальных ступенях развития интеллекта действительно обнаруживается, по мнению Л.С.Выготского, его более или менее непосредственная зависимость от аффекта как такового. В ходе же дальнейшего развития меняются и совершенствуются не только интеллектуальные функции сами по себе, но и отношения интеллекта и аффекта. Нельзя вывести природу мышления из него самого, как нельзя вывести и природу воли, игнорируя все те сложнейшие отношения связей и зависимостей, в которых она фактически развивается. Мышления и аффект представляют собой части единого целого. Всякой ступени в развитии мышления соответствует своя ступень в развитии аффекта. Изменчивость межфункциональных связей составляет главное и основное содержание всего психологического -развития нормальных и аномальных детей. «... Нужно рассматривать отношения между интеллектом и аффектом, образующие центральный пункт всей интересующей нас проблемы, не как вещь, а как процесс»2.
Эти положения Л.С.Выготского нашли отражение в концепции детского развития Д.Б.Эльконина. Схема Д.Б.Эльконина, приведенная на с. 13. показывает, как в каждой возрастной эпохе (раннего детства, детства и подростничества) эмоциональные (или мотивационно-потребностные психические) новообразования становятся базой для развития интеллектуально-познавательных (или операционно-технических) новообразований, а также как в переходные моменты между эпохами интеллектуально-познавательные психические новообразования становятся базой для развития эмоциональных.
Такой же спиралевидный, процесс развития имеет место и в раннем детском возрасте, наиболее опасном с точки зрения возможности формирования олигофрении. В главе 2 было показано, как в каждом периоде раннего детского возраста коммуникативно-познавательное развитие начинается в зоне высокой субъективной ценности ребенка или, иначе, на фоне максимально возможной для него мотивации и тем самым максимально возможных активационных усилий, но расцвет соответствующих коммуникативно-познавательных средств происходит в зоне моти-вационного (и активационного) оптимума. С другой стороны, в материалах той же главы 2 обращалось внимание на то, что коммуникативно-познавательная активность ребенка, получая своевременное подкрепление со стороны взрослых, стимулирует развитие его эмоциональной сферы. Мотивационно-активационные возможности ребенка возрастают, он начинает оперировать большими объемами сенсорной информации, что становится естественной предпосылкой формирования в соответствующих социальных условиях новых субъективных ценностей развивающейся личности. Можно думать, что в патогенезе олигофренического слабоумия имеют место и значение расстройства этого периодического взаимодействия между эмоциональным, мотивационно-потребностным и интеллектуально-познавательным, операционно-техническим аспектами развивающейся психики ребенка.
Проверим свое предположение итогами исследования олигофрении, проведенными после Л.С.Выготского медиками, генетиками, социологами и другими специалистами. В своих широкоизвестных клинических лекциях врач Г.Е.Сухарева определяет олигофрению уже без всяких сомнений как тотальное психическое недоразвитие, но с преимущественным поражением наиболее дифференцированных специфически человеческих функций мышления и речи при относительной сохранности эмоциональной стороны личности (ее «ядра»), и особенно эволюционно древних инстинктивных эмоций.
Если взять еще более близкие к нам по времени дефектологические работы М.С.Певзнер, то можно найти в них еще следующий шаг в разработке проблемы. Считая, что одной из самых сложных задач в проблеме олигофрении остается компенсация дефекта, М.С.Певзнер стремится к клинической дифференциации синдрома и соответствующих механизмов симп-томообразования. Основной патогенетический фактор, обусловливающий олигофреническое слабоумие, она видит в диффузном недоразвитии или поражении коры больших полушарий головного мозга, что клинически проявляется неосложненной формой олигофрении с отсутствием при ней у детей первичных нарушений эмоционально-волевой сферы.
Таким образом, независимо от времени работы того или иного автора (первая треть XX в., его середина или последняя треть), его компетенции (психолого-педагогическая, врачебная или дефектологическая) и вариантов авторской точки зрения все приходят к выводу, что при олигофреническом слабоумии наряду с интеллектуально-познавательной сферой ребенка страдает и его эмоционально-волевая сфера, однако последняя страдает не столь глобально: ее элементарный, инстинктивный или первичный уровень организации остается, как правило, пощаженным.
В системе терминологии, используемой в настоящем методическом пособии, речь идет о сохранности у детей-олигофренов биологически обусловленных (элементарных), т. е. врожденных (инстинктивных), или, иначе, универсальных, не подвергшихся социальному опосредованию (первичных) эмоциональных программ поведения. Следовательно, согласно схеме на с. 102, при олигофрении страдают производные стороны эмоционально-волевой сферы, которые развиваются после рождения ребенка в процессе разного рода социальных опосредовании. Так как эти преобразования происходят в процессе постепенно усложняющейся коммуникативно-познавательной деятельности ребенка, то естественно, что эмоционально-волевая неполноценность ребенка-олигофрена сплавлена с его интеллектуально-познавательной неполноценностью.
Таким образом, получается, что при олигофрении в целом должны быть сравнительно сохранены в структурно-функциональном отношении как раз те мозговые структуры, которые у детей с синдромами госпитализма и раннего детского аутизма или развиваются аномально, или оказываются биологически неполноценными.
Теперь попробуем выяснить, какой этап коммуникативно-познавательного развития (см. схему на с. 102) нарушен при олигофрении в наибольшей степени. Обратимся к фактам.
Прежде всего, повторим, что биологически обусловленные эмоциональные реакции при олигофрении остаются пощаженными патологическим процессом. Даже идиоты понимают, по данным Г. Е.Сухаревой, эмоционально-выразительные интонации ухаживающих за ними людей и выражают нечленораздельными звуками, криками и визгами свои органические состояния (сытость, голод, холод и т. п.).
В то же время социальное коммуникативно-познавательное поведение идиотов резко недоразвито. Они негативно реагируют на все новое, при этом реактивность на внешние раздражения резко снижена, внимание нестойко. Предоставленные самим себе, они остаются неподвижными или производят стереотипные действия врожденного характера (раскачиваются, ползают). Речь отсутствует или сводится к нечленораздельным бессмысленным звукам. Периодически у них наступает двигательное возбуждение.
Примитивности этого предметно неорганизованного двигательного и речевого поведения соответствует и примитивизм эмоциональных реакций идиотов. Наиболее характерны для них аффекты злобы и гнева, протекающие с агрессивным поведением, когда они, как животные, кусаются и царапают себя - и окружающих, Характерны для них и реакции страха, обычно на все новое. У многих идиотов нет ни слез, ни плача, ни смеха.
Имея в виду эти данные, заимствованные из лекций Г.Е.Сухаревой, можно сделать первый вывод о том, что при самой тяжелой степени олигофрении-идиотии нарушены все три этапа развития коммуникативно-познавательной способности. В основе этого недоразвития лежат низкие пороги оборонительных реакций, что ведет к торможению проявлений ориентировочно-исследовательского поведения, а неполноценность врожденных программ эмоционально-выразительных комплексов, таких, как, например, плач и смех, лишает ребенка естественных предпосылок развития знаковых эмоционально-выразительных средств.
Как известно, в некоторых случаях идиоты научаются ходить, приобретают некоторые навыки самообслуживания и даже начатки речи. Они привязываются к людям, которые за ними ухаживают и которые их кормят. Однако эти привязанности формируются по врожденному механизму эмоционального «заражения»; дети «любят» ухаживающего взрослого, пока его видят, и тотчас же забывают, как только он уходит.
Зададим себе вопрос: могут ли при таком недостаточном операционно-техническом опосредовании врожденных программ эмоционального поведения сформироваться более сложные мотивационно-потребностные состояния? По-видимому, нет. Соответственно останавливается и дальнейшее операционно-техническое развитие ребенка. На примере раннего детского аутизма мы видели, что при тяжелейших дефектах врожденных эмоциональных программ резко дисгармоничное развитие речи и мышления все же происходит. При идиотии и этого нет, что говорит о первичной неполноценности у детей Самих клеток различных полей мозговой коры. Недостаточность самого субстрата операционно-технических новообразований становится тормозом прогрессивного развития мотивационно-потребностной сферы. Таким образом, при идиотии обоюдное взаимодействие мотивационно-потребностной и операционно-технической сторон развития расстроено уже на первом уровне формирования коммуникативно-познавательной способности (табл. 6).
У имбецилов недоразвитие коммуникативно-познавательной способности не столь глубоко. У них есть потребность в общении с людьми и в познании внешнего мира. Благодаря ярко выраженной способности к эмоциональному подражанию они механически усваивают разного рода поведенческие штампы, которыми стереотипно пользуются в соответствующих ситуациях. К употреблению в постоянно изменяющихся условиях эти штампы непригодны. К числу таких косных штампов относятся и слова имбецилов, которые не имеют ни внеситуаци-онных значений, ни устойчивых звуковых форм. По существу их речь находится на уровне начального формирования предметной отнесенности слова, что и объясняет несовершенство ее звуковой формы.
В зависимости от стечения ряда факторов могут формироваться разные эмоциональные типы: недоверчивых, угрюмых, жестоких, избивающих маленьких, скупых и бережливых собственников; ласковых, чувствительных к похвале резонеров и пр. В любом случае эмоции имбецилов в зонном отношении одноцветны и монотонны, тугоподвижны; дети не умеют концентрировать внимание, негативны. Однако богатство эмоционально-выразительных движений и повышенная подражательность нередко позволяют им достаточно хорошо ориентироваться в практических ситуациях и овладевать элементарными машинообразными видами труда.
Приведенные факты позволяют сделать второй вывод о том, что при олигофрении в степени имбецильности первый этап развития коммуникативно-познавательной способности сохранен, тогда как резко недоразвиты второй и третий этапы. Порочный круг в виде торможения операционно-технического развития со стороны неполноценной мотивационно потребност-ной сферы и обратно в виде торможения мотивационно-потреб-ностного развития со стороны неполноценной операционно-технической сферы у них не так глобален, как при идиотии.
Дебилы подвергались наиболее массовым и разносторонним исследованиям, которые, однако, привели к единодушному мнению всех исследователей. При олигофрении в степени дебильности конкретное комплексное мышление более или менее удовлетворительно, основная трудность этих детей заключается в переходе от конкретного чувственного познания внешнего мира к рациональному и абстрактному. Мышление этих детей, по мнению Г.Е.Сухаревой, находится на той стадии, когда ведущим в познавательной деятельности является установление частных, сугубо конкретных связей и когда они не могут отвлечься от конкретного.
Слабость абстрактного мышления детей-олигофренов часто маскируется богатой по внешней форме речью. Однако эти языковые формы имеют всего лишь ситуационно-предметную отнесенность. Произносимые слова и предложения не имеют сигнификативных значений. В результате слабости абстрактного мышления суждения дебилов несамостоятельны. Заимствованы также их взгляды и формы поведения. Различные шаблоны применяются ими при решении любых интеллектуальных задач.
Эмоционально-волевая сфера детей-дебилов более развита, чем у имбецилов, но она всегда тоже дефектна. Дети недостаточно способны к самообладанию, не умеют подавлять влечения, поведение их импульсивно при повышенной внушаемости и подражательности; им не свойственны комплексные эмоциональные переживания здоровых сверстников.
Следовательно, при олигофрении в степени дебильности недоразвит лишь третий этап коммуникативно-познавательной способности, связанный с сигнификативной функцией слова и абстрактным языковым мышлением, тогда как первые два относительно сформированы.
Таким образом, хотя патогенез олигофрении в целом обусловлен диффузным поражением и недоразвитием коры больших полушарий, этот патологический процесс при разной тяжести олигофрении имеет не только разную выраженность, но и разную распространенность. При идиотии страдают нервные клетки всей коры, при дебильности, по-видимому, лишь нервные клетки преимущественно третичных полей коры, обеспечивающих абстрактное языковое мышление и построенную по языковым правилам контекстную речь. Преимущественная распространенность патологического процесса в мозговой коре имбецилов меньше, чем у идиотов, но больше, чем у дебилов; скорее всего функциональная способность нервных клеток проекционных полей коры у них сравнительно сохранена.
В дефектологии последних лет М.С.Певзнер разрабатывает представления о различной качественной структуре дефекта у обучающихся во вспомогательной школе олигофренов-дебилов. Она выделяет пять клинических форм, требующих особого подхода дефектолога при проведении коррекционно-воспитательной работы. В первой из них имеется диффузное поражение или недоразвитие коры головного мозга. В других клинических формах этот основной патогенетический фактор олигофрении осложняется нарушениями ликвороциркуляции в оболочках мозга, очаговой недостаточностью того или иного анализатора мозга, астенизацией или психопатизацией ребенка. При олигрофрении в степени имбецильности и тем более при идиотии, имеющиеся в нашем распоряжении средства диагностики вскрывают лишь тяжесть дефекта, что затрудняет проведение дифференцированной коррекционно-воспитательной работы.
Изложенный выше подход к различению уровня развития коммуникативно-познавательной способности ребенка позволяет рассматривать идиотию, имбецильность и дебильность не только как разные степени тяжести олигофрении, но и как качественно разные состояния. При идиотии недостаточно сформирована исходная коммуникативно-познавательная потребность и у ребенка отсутствуют более или менее все коммуникативно-познавательные средства: национально-специфические эмоциональные, конкретное комплексное мышление и ситуационно обусловленная речь, абстрактное мышление и внеситуационная контекстная речь. При имбецильности эмоциональный аспект коммуникативно-познавательной способности уже сформирован — развиты, иногда виртуозно, национально-специфические эмоционально-выразительные знаковые комплексы, включающие в себя мимику, пантомиму, жесты и паралингвистические интонации. Однако единицы таких интонаций (вокализации, сегменты восходящей звучности, псевдослова и псевдосинтагмы) не приобрели у них устойчивых знаковых форм, т. е. еще не стали фонетическими формами родного языка. При дебильности коммуникативно-познавательная потребность мотивируется уже предметной социальной средой, у детей развиты конкретное комплексное мышление и ситуационно обусловленная речь; в процессе речи дети пользуются номинативной функцией языковых единиц, репрезентированных синкретичными слоговыми структурами.
Совершенствование патогенетической обоснованности коррекционно-воспитательной работы с ее дифференциацией и индивидуализацией имеет большое значение для олигофренопедагогики. Общеизвестная трудность работы олигофренопедагога объясняется в значительной мере тем, что эта аномалия связана с большим или меньшим дефектом обеих сторон коммуникативно-познавательной деятельности: мотивационно-потребностной и опе-рационно-технической.
Олигофренопедагог должен хорошо представлять себе последовательность и преемственность этапов в формировании коммуникативно-познавательной способности (табл. 6) и взаимодополнительность мотивационно-потребностных и операционно-технических новообразований на каждом из них.
Так, не создав у дебильного ребенка мотива к овладению языковыми (фонологическими, лексическими и грамматическими) правилами родного языка, т. е. не сделав для него адаптивно необходимым общение посредством контекстной речи и познание ее содержания, нельзя рассчитывать на развитие его абстрактного мышления и овладение им этими языковыми правилами. Но само создание такой мотивации предполагает уже хорошо сформированное конкретное комплексное мышление и наличие у ребенка развернутых форм речи в наглядной ситуации.
У ребенка-имбецила необходимо формировать потребность предметного познания действительности, что связано с умением названия предметов и явлений действительности посредством устойчивых по звуковому составу языковых форм. Адекватной базой для этой работы является достаточная сформированность у него эмоционально-выразительных коммуникативно-познавательных средств: национально-специфических вокализаций, сегментов восходящей звучности, псевдослов и псевдосинтагм, ведь фонетические формы языка суть обобщения отдельных классов этих эмоционально-выразительных паралингвистических единиц (табл. 5).
Понимание подобных системных закономерностей подскажет олигофренопедагогу разные способы использования наглядных средств обучения. При выработке абстрактного мышления предметные образы, создаваемые наглядными средствами обучения, служат источником формирования языковых обобщений, а при выработке комплексного мышления в предметных образах те же наглядные средства служат обобщенному выражению разнотравных эмоциональных или субъективно-ценностных впечатлении ребенка.
Так же должны быть дифференцированы и средства эмоционального воздействия на умственно отсталого ребенка в зависимости от качественной структуры дефекта при идиотии, имбецильности и дебильности. При формировании абстрактного мышления повышенная эмоциональность педагога может лишь мешать ребенку-дебилу сосредоточить свое внимание на изучаемых языковых обобщениях: при формировании комплексного мышления у ребенка-имбецила поведение педагога, в том числе и речевое, должно, наоборот, отличаться богатством национально-специфических эмоционально-выразительных форм; наконец, универсальная биологическая эмоциональность необходима для педагогического воздействия на ребенка-идиота.
Говоря в целом, педагог всегда должен учитывать специфику единиц зоны ближайшего развития ребенка.
При олигофрении любой степени тяжести недоразвитие высоких уровней коммуникативно-познавательной способности ведет к функциональной гипертрофии и расторможенности ее низких уровней, что клинически выражается, в частности, склонностью детей-олигофренов к примитивным аффективно-волевым реакциям. Эти реакции тем примитивнее, чем тяжелее олигофренический дефект и, следовательно, чем меньше биологические предпосылки коммуникативно-познавательной способности подверглись структурному упорядочиванию под влиянием социальных факторов.
ГЛАВА 8. АЛАЛИЯМеханизм симптомообразования при алалии относится к числу наиболее спорных в дефектологии, что отчасти объясняется неопределенностью самого термина «алалия» — безречие. Неговорящие дети на почве глухоты, тяжелой умственной отсталости и тяжелых дизартрических расстройств (анартрики) в настоящее время обычно исключаются из числа детей, которым ставится диагноз «алалия».
Но даже при таком суженном понимании термина природа расстройства отстается очень спорной, хотя все единодушны в целесообразности выделения двух форм алалии — моторной (экспрессивной) и сенсорной (импрессивной).
Наиболее распространена точка зрения, согласно которой в основе моторной алалии лежит артикуляторная апраксия, а в основе сенсорной алалии — речевая слуховая агнозия. Присоединяясь в целом к этой точке зрения, мы хотели бы обратить внимание на то, что указанные патогенетические факторы алалии могут сочетаться в практически наблюдаемых речевых синдромах с довольно большим числом других факторов: парезами артикуляторной мускулатуры, дистонией, атаксией, нарушениями побуждения к речи (или речевой инактивностью), элементарной сенсорной недостаточностью того или иного типа пр., что никак не дает права к сведению к ним природы алалии. Системные (вторичные и третичные) последствия первичной недостаточности артикуляторного праксиса и речевого слухового гнозиса в виде разнообразной патологии языковых обобщений — фонологических, лексических и грамматических — тоже не меняют, а лишь усложняют патогенез алалии, хотя значимость этих системных расстройств у детей дошкольного и школьного возрастов может быть настолько велика, что они приобретают в глазах исследователей иногда как бы самодовлеющий характер. К этому особенно склонны те исследователи, которые забывают, что как праксис, так и гнозис относятся к числу высших психических функций* человека и имеют знаковый характер, ибо они формируются в социальной среде и в процессах восприятия предметов и манипулирования с ними, в силу чего все навыки гнозиса и праксиса относительны и зависят от культуры данного общества. Они зависят в том числе от языковой культуры общества, так как при формировании речи в функции предмета с относительными национально-специфическими характеристиками выступает фонетическое слово (а также их функциональные сочетания или синтагмы). Таким образом, апраксические и агностические синдромы, в том числе синдромы моторной и сенсорной аналии, резко отличаются не только от элементарных моторных и сенсорных синдромов, но и от первичных расстройств языковых обобщений. Конечно, системное языковое недоразвитие может сочетаться у отдельных детей-алаликов с первичными языковыми расстройствами в той же мере, как и с элементарными моторными и сенсорными расстройствами.
Имея в виду схему на с. 102, патогенез алалии надо связать с патологией преимущественно второго этапа развития коммуникативно-познавательной способности. В отличие от олигофрении при алалии страдает развитие не коммуникативно-познавательной способности в целом, а лишь ее операционно-технические средства. Такая избирательность аномалии, обусловленная значительно более локальными очаговыми поражениями мозга в пределах только речедвигательного и речеслухового анализаторов мозга, проявляется клинически в относительной сохранности у ребенка мотивационно-потребностной стороны личности и даже мышления (Н.Н.Траугот, В.К.Орфинская, С.С.Ляпидевский, Л.В.Мелехова, С.Н.Шаховская и др.). Так, по данным Е.Ф.Соботович, сравнительное изучение мыслительных операций у олигофренов и детей с моторной алалией показывает, что моторные алалики в отличие от олигофренов способны к установлению причинно-следственных связей, Умозаключениям, абстракции и обобщениям. Они овладевают приемами логического мышления и способны к переносу полученных знаний.
Вместе с тем Е.Ф.Соботович обращает внимание на то, что детей с моторной алалией отличает от их нормальных сверстников несколько более низкий уровень обобщения, недостаточная гибкость и динамичность мышления, более замедленный темп усвоения тех или иных закономерностей, недостаточная осознанность и доказательность мышления. Автор справедливо считает, что в генезе найденных ею расстройств мышления у моторных алаликов большая роль принадлежит глубокой языковой неполноценности. Но дело не только в этом, ибо выявленные нарушения мышления «проявлялись при выполнении не только вербальных, но и невербальных заданий».
Р.Е.Левина подразделяет речевое недоразвитие на три уровня. Первый уровень речевого недоразвития характеризуется полным или почти полным неумением детей пользоваться речью, в силу чего они общаются при помощи лепетных звуков и жестов. Второй уровень связан с постоянным употреблением детьми ограниченного по объему и весьма искаженного по фонетической форме запаса широко распространенных слов. У детей третьего уровня отсутствуют грубо выраженные языковые (фонетические, лексические и грамматические) затруднения. Сопоставляя эти представления с данными нашей схемы об этапах развития коммуникативно-познавательной способности (с. 102), мы видим, что уровни речевого недоразвития, по Р.Е.Левиной, соответствуют патологии коммуникативного аспекта отдельных этапов. Следовательно, связывая патогенез алалии преимущественно с аномалией развития второго этапа формирования коммуникативно-познавательной способности, мы будем иметь в виду детей прежде всего второго уровня недоразвития речи (по Р.Е.Левиной).
«Можно считать установленным,— писал Л.С.Выготский,— что ступени обобщения ребенка строго соответствуют ступеням, по которым развивается его общение. Всякая новая ступень в обобщении ребенка означает и новую ступень в возможности общения». Конкретизация этого общего положения была сделана в главе 4, где проводилась мысль о том, что первоначальные языковые опосредования эмоционально-выразительных вокализаций и сегментов восходящей звучности в составе целостных псевдослов и псевдосинтагм происходят в процессе освоения ребенком знаковой (номинативной) функции единиц и речи-мысли. Тембровые варианты умеренной интенсивности становятся динамическими единицами высказывания, вокализации преобразуются в гласные звуки, лепетные сегменты восходящей звучности — в слоги СГ, а лепетные псевдослова и псевдосинтагмы — в ритмические слоговые структуры слов и мелодические типы синтагм, имеющих ту же предметную отнесенность, что слова и синтагмы взрослых. Имея ту же предметную отнесенность, первые детские слова и синтагмы еще резко отличаются от тех же речевых единиц взрослого по своим значениям, что внешне обнаруживается, по нашему мнению, несовершенством их фонетической формы: так называемым физиологическим нарушением звукопроизношения.
Имеющийся сегодня в нашем распоряжении фактический материал позволяет утверждать, что формирование у детей второго года жизни номинативной функции речи-мысли и есть, иначе говоря, становление навыков речевого слухового гнозиса и артикуляторного праксиса (кинестетического и кинетического). Соответствующие аномалии развития и будут тем, что обозначается термином «алалия».
Конкретизируя эти общие положения, можно думать, что патогенез, или механизм симптомообразования, моторной алалии связан с трудностями языкового опосредования как эмоционально-выразительных псевдослов как вокализаций, так и отдельных сегментов восходящей звучности, а также тех и других одновременно. В первом случае в клинической картине можно ожидать симптомы, сходные с артикуляторной апраксией кинетического типа, во втором — с артикуляторной апраксией кинестетического типа.
Можно также допустить, что одна из форм моторной алалии должна быть связана с нарушением процессов языкового опосредования эмоционально-выразительных псевдосинтагм; алаликов такого рода, возможно, удастся обнаружить при использовании приемов нейропсихопаралингвистического и нейропсихолингвистического методов в группе детей с симптомами кинетической артикуляторной апраксии.
Эти представления находят фактическую поддержку в работах многих современных педагогов, психологов и дефектологов.
Во-первых, все исследователи обращают внимание на позднее речевое развитие детей-алаликов с поздним появлением у них и плохой выраженностью, вплоть до полного отсутствия, врожденных эмоционально-выразительных реакций гуления и лепета. Это очень важный факт, объясняющий, почему первые слова, и тем более первые фразы, появляются у детей-алаликов со значительным запозданием: ведь у них дефектны естественные эмоционально-выразительные предпосылки речи.
Во-вторых, появляется все больше работ, в которых констатируется задержанное при моторной алалии развитие языковой номинации чувственно отражаемой предметной действительности.
Это становится в свою очередь основой запоздалого и дефектного формирования сигнификативной функции слова. Последнее же связано с вычленением из синкретичных слогов, в которые преобразуются эмоционально-выразительные сегменты восходящей звучности в процессе языковой номинации, согласных и гласных фонем родного языка.
В главе 4 говорилось о том, что первые обращения ребенка ко взрослому во второй половине первого года жизни, которые дают начало языковой номинации и слоговой структуре речи, всегда связаны с ситуациями повышенной эмоциональности, причем вербализации подвергается не вся его мысль, а только субъективно самый ценный элемент. Его высказывания, напоминающие по форме назывные предложения, состоят психологически из одних предикатов, тогда как ситуационный субъект высказывания представляется невербально или экстралингвистически. Имея в виду эти положения, читаем у С.Н.Шаховской: «Речевая активность детей резко снижена. Иногда ребенок пользуется речью только в период эмоционального возбуждения... Высказывания аналогичны известным в грамматике русского языка назывным предложениям. Они сжаты, выразительны, часто подкрепляются яркой интонацией и соответствующей жестикуляцией. Одно-два слова передают суть содержания, основную мысль. Речь связана только с какой-либо конкретной ситуацией, понятна только в контексте, в соответствии с той или иной обстановкой». Высказанное положение автор иллюстрирует на примере сюжетной картинки «Каток»: «Снег. Вова... Бух! Бо-бо! А-а-а» (интонация плача). Сходство такой речи с высказываниями детей второго года жизни несомненно (см. образцы, приведенные на с. 85, 86, гл. 4).
Сделанное сопоставление показывает, что повышенная мотивация коммуникативного акта, приводящая к состоянию эмоционального возбуждения, необходима для нормального развития номинативной функции языка как здоровых детей второго года жизни, так и ребенка-алалика. Своеобразная структура речи моторного алалика свидетельствует о степени субъективных трудностей для него акта речи.
Развитие коммуникативных средств ребенка в процессе логопедической работы уменьшает для него субъективную трудность речи, и она все чаще начинает осуществляться в зоне мотива-ционного оптимума, что позволяет наиболее экономно тратить энергетические ресурсы и вербализовать не только самые ценные элементы речи — мысли. Речь алалика приобретает более плавно развернутую форму, у него появляется возможность сосредоточить внимание на адекватности используемых им лексических единиц, их грамматических форм и синтаксисе фраз. Однако каждый паз, когда ребенок затрудняется в выражении своей мысли, мотивация его речевого акта возрастает и у него вновь появляются короткие эмоциональные слова-предложения номинативного типа, построенные из фонемно плохо дифференцированных синкретичных слогов. Показательны в этом отношении протоколы описания той же сюжетной картинки «Каток» детьми-алаликами меньшей степени тяжести. Протокол 2: «Мама, и Таня,/и Маша,/и все пошли на каток. / Папа / здесь нет. / Работе. / Много девочки ездили на катоке. / Мальчик упала, / заплакал. / Не плачь! / Боль-шая!/Мальчик сидели,/сидит на заборю./Другая./Маленький/».
Протокол 3: «Здесь нарисован каток. / Залили ребята / на стадионе/зимой./Была собрание/и решили./Вот./Все катались./ Один мальчик смотрел кверху/упал./На пути ему/какой-то камень»1.
Мы провели в тексте приведенных протоколов синтагматические границы; этот прием убеждает в том, что при моторной алалии любой степени тяжести речь остается на уровне номинации предметных ситуаций и их компонентов. Правда, объем назывных предложений возрастает до двух-трех слов, а сами слова становятся разнообразнее по содержанию. Кстати, при разбивке данных текстов на синтагмы исчезает во многих случаях кажущаяся аграмматичность высказываний. Так, в сегменте второго текста: «Папа здесь нет. Работе» — нет существенных ошибок, если принять, что в нем три синтагмы: «Папа/Здесь нет./Ра-боте/», каждая из которых является вербализованным предикатом мысли; субъекты этих мыслей выражены предметно-образными комплексами. В сегменте третьего текста: «Залили ребята на стадионе зимой» — тоже три чисто предикативные синтагмы: «Залили ребята /на стадионе/зимой/», поясняющие последовательно актуализируемые ребенком предметные образы: катка, который заливали ребята; катка, находящегося на стадионе; стадиона в зимнее время. При такой оценке этого сегмента, конечно, отпадает представление о неверном в нем порядке слов.
Таким образом, у всех детей с моторной алалией (самых тяжелых и делающих значительные успехи в речевом развитии) мы видим одно и то же: отдельные слова и синтагмы используются по преимуществу в функции предметной отнесенности; они указывают на предметы, называют их, но еще не заменяют. Задержка использования речевых единиц в сигнификативной функции указывает на значительное несовершенство фонетической формы этих единиц. К сожалению, в вышеприведенных протоколах фонетическая сторона речи детей не нашла отражения, что, однако, можно восполнить, обратившись к работам других исследователей.
Так, любопытно следующее наблюдение Г.В.Мациевской мальчика около 7 лет с кинестетической моторной алалией. Родился ребенок в асфиксии, с наложением щипцов. Задержка коммуникативного развития была отмечена уже на первом году, ибо лепет появился с запозданием. Первые слова после года, но обогащение словаря началось только с 4 лет 2 мес, а фраза появилась с 4 лет 6 мес. Неврологически отмечены правосторонний гемисиндром и легкая артикуляторная апраксия. На вопросы мальчик отвечает короткими фразами, в структуре слов наблюдаются нестойкие звуковые замены. Словарный запас состоит из наиболее употребительных бытовых слов. Логическое мышление сохранено, но ребенок не умеет составить рассказ по картинке, определяя ситуацию одним словом. Другими словами, речь ребенка состоит из ситуационно обусловленных предикатов — номинаций. С помощью педагога мальчик может составить развернутую фразу, но эта способность находится пока в зоне ближайшего развития, в актуальных самостоятельных высказываниях таких фраз нет. Даже предъявленную картинку, на которой нарисованы стол и стоящий на нем чайник, определяет однословно: «Чайник» или «Стол». Только под влиянием педагогической стимуляции составил правильную фразу, которая тут же легко распалась.
Таким образом, имеющаяся у мальчика артикуляторная апраксия кинестетического типа с нестойкой структурой слоговых единиц затормаживает, по-видимому, формирование системы фонематических языковых обобщений (см. гл. 4), а следовательно, и различающихся спецификой фонемных цепей содержательных языковых обобщений, в том числе грамматических.
В работах А.К.Марковой и О.Н.Усановой, специально посвященных звуковой стороне речи моторных алаликов, описываются два рода характерных для них фонетических нарушений. Во-первых, могут быть дети с моторной алалией, которые, владея достаточным словарем, затрудняются в усвоении звукового состава слов. Во-вторых, у детей с моторной алалией встречаются трудности в усвоении слогового состава слова, что тесно связано с ограниченным словарем.
Описывая первый тип моторной алалии, О.Н.Усанова считает ее наиболее характерная черта «поиски артикуляции», возникающие в связи с апраксией и приводящие к нестойким и разнообразным заменам звуков. Одно и то же слово такой ребенок произносит по-разному, например: ключ — «клюсь, клут, клюц, клюш»; санки — «тяпки, танки, сянки, фанки»; Мишка на машине едет — «Биська на масине едить»; Мишка одел шапку — «Мишка одель сапку». Субститут может быть более сложным по артикуляции, чем заменяемый звук. Заключая, автор говорит:
«Ребенок практически передает определенную слоговую структуру слов, встречая особые трудности в отборе элементов, наполняющих эти структуры».
Такое описание характеризует данную группу моторных алаликов, как детей с артикуляторной кинестетической апраксией (по терминологии А.Р.Лурия), предметом артикуляторных поисков которых являются в соответствии с современными фонетическими представлениями не «артикулемы», а слоги СГ с определенным набором признаков слогового контраста (см. гл. 4). Произнося слово ключ, ребенок пытается дифференцировать ударные слоги л'у и лу, которые имеют один и тот же набор контрастных признаков, и заударные слоги с'ъ, тъ, тсъ и шъ; контрастные признаки которых в этой позиции слабо выражены; произнося слово санки, ребенок дифференцирует слоги са, т'а, та, с'а и фа, которые разнятся между собой не больше чем на один контрастный признак, и т. п. (см. табл. 1, с. 50).
Дети со вторым типом моторной алалии характеризуются, по О.Н.Усановой, трудностями усвоения слогового состава слова и персеверациями, что лишь сопровождается нарушениями звуко-произношения. Яркие примеры фонетических расстройств у таких детей имеются в работе А.К.Марковой: пирамида — «пиа, пиа-мир, амида, абида, набида, пи»; кузнечик — «дк, крус, куне»; велосипед — «высипед, апет, ясопет, яспет, висипед, лисипед»; мотоцикл — «мацикл»; матрешка — «атле»; гусеница — «кус-ни-ца, гу, гусница»; крокодил — «крадил»; этажерка — «жерка, та-жерка»; милиционер — «мицанер» и пр. Эти примеры демонстрируют, что дети сокращают слоговую структуру слова иногда до первого ударного или даже безударного слога (гусеница — «гу»; пирамида—«пи»), иногда до ударно-предударной части слова (матрешка — «атле»; кузнечик — «кунё»). В некоторых случаях опускается один или несколько предударных слогов: крокодил — «крадил»; велосипед — «высипед, яспёт»; мотоцикл — «мацикл»; пирамида — «амида». По характеру ведущего фонетического расстройства в виде нарушений слоговой структуры слов, а также персевераций патогенез моторной алалии у этих детей может быть связан с кинетической артикуляторной апраксией (по терминологии А.Р.Лурия).
В работе Г.В.Мациевской находим дополнительные данные, подкрепляющие представление о том, что механизм симптомо-образования у детей с двумя типами моторной алалии связан с задержанием формирования кинестетического и кинетического артикуляторного праксиса. Дети 5—7 лет первой группы, т. е. с кинестетической артикуляторной апраксией, при поступлении в стационар пользовались лепетными словами и мало членораздельной фразовой речью. Они быстро накапливали словарь; не затрудняясь в подборе слов и построении фразы, часто неверно произносили их звуки и, исправляя, давали несколько вариантов одного и того же слова (парта — «тарта, тапа, пат, патра»; шапка — «тяпка, сапка»). В процессе попыток правильного произношения наблюдались апраксические поиски артикуляции.
Дети 5—7 лет второй группы, т. е. с кинетической артикуляторной апраксией, поступая в стационар, отличались сниженной речевой активностью и предпочитали игры, где не требовалось речевого контакта; они с трудом выполняли ритмические движения. Их словарный запас пополнялся очень медленно, в речи долгое время сохранялись лепетные слова, звукоподражания и жестикуляция. Дети объяснялись короткой фразой из одного-двух слов с резко редуцированной структурой до первого или ударного слога; переключение со слога на слог и со слова на слово, а также с одного движения на другое (губами, языком, пальцами рук) у них было затруднено.
Эти описания Г.В.Мациевской моторных алаликов двух групп подтверждают наличие у них недостаточно сформированного кинестетического или кинетического праксиса. Сопоставление клинических проявлений речевого расстройства у детей обеих групп невольно заставляет вспомнить нормально развивающихся детей второго года жизни, которые были описаны И.А.Сикорским и которые репрезентировали конкурирующие типы раннего развития речи на этапе освоения ее номинативной функции.
Итак, можно сделать общий вывод и подтвердить еще раз, что в основе механизма симптомообразования моторной алалии лежат два типа задержанного и нарушенного формирования артикуляторного праксиса: кинестетического и кинетического. Данные, полученные путем нейропсихопаралингвистического исследования звуковых реакций раннего возраста, позволяют связать нарушения артикуляторного праксиса у моторных алаликов с аномалией развития эмоционально-выразительных звуковых реакций ребенка или с дефектами их первоначального языкового опосредования. Замедленное и неполное преобразование лепетных псевдослов и составляющих их лепетных сегментов восходящей звучности в слоговые ритмические структуры и отдельные слоги СГ, характеризующиеся определенной совокупностью признаков слогового контраста, задерживает формирование номинативной функции речи, что в свою очередь становится относительным тормозом на пути развития абстрактного языкового мышления, связанного с дифференциацией и противопоставлением фонем*. Свойственные речи моторных алаликов аграмматизмы представляются естественным следствием речи, лишенной сигнификативной функции и состоящей, как у нормальных детей второго года жизни, из коротких предикативных слов — предложений. Такого рода высказывания находятся в функциональном единстве с предметно-образными компонентами детской речи — мысли и состоят из последовательностей синкретичных слоговых единиц.
В свете сказанного ясна связь нарушений слоговой структуры слова с наличием у ребенка ограниченного словаря. В то же время необходимо обратить внимание на то, что неверное произношение звуков в словах с верной слоговой структурой, не мешая накоплению слов с конкретными значениями, задерживает формирование языковых абстракций. Смыслоразличителями языковых значений являются фонемы. Они извлекаются из слоговых единиц речи. Если слоги не имеют регламентированного языком звукового состава, то становление системы фонематических обобщений задерживается, а вместе с тем задерживается и развитие языковых значений, в том числе грамматических, и основанного на их использовании абстрактного мышления.
Поэтому в логопедической работе с моторными алаликами выработка правильного звукопроизношения представляется не менее важной, чем выработка слоговых ритмических структур. Уже не говоря о том, что во многих случаях алалии имеют место оба типа апраксии, освоение ребенком слоговой структуры слова, связанное с накоплением словаря, открывает перед ним возможность преобразования индикативной (номинативной) функции речи в сигнификативную. Но такое преобразование предполагает формирование системы фонем, фонемы же извлекаются посредством абстрагирующей работы мозга из слоговых единиц речи с общественно регламентированными признаками слогового контраста. С другой стороны, освоение ребенком слогового состава родной речи делает для него возможным переход к формированию системы фонематических обобщений. Однако, пока ребенок пользуется малым объемом конкретных ситуационно обусловленных слов, у него не возникает потребности в освоении сигнификативной функции речи и тем самым фонем.
Учитывая эти системные речевые закономерности, логопед должен творчески сочетать в своей работе разнонаправленные методические приемы. Для обоих планов работы нейропсихо-паралингвистические знания о системном развитии коммуникативно-познавательной способности, разумеется, необходимы.
В заключение можно заметить, что проблема патогенеза алалии, даже только моторных, не исчерпывается затронутыми ее аспектами. Ведь возможны самые разнообразные комбинации аномалий языкового опосредования эмоционально-выразительных коммуникативно-познавательных средств. Как известно, В.К.Орфинская выделяла 10 форм недоразвития языковых систем при алалии. Е.Ф.Соботович описывает 5 механизмов симптомообразования у детей с моторной алалией. В целях повышения эффективности логопедической работы с детьми-алаликами необходимо продолжать исследования типов возникающего у них языкового недоразвития, используя при этом современные представления психологии, лингвистики и паралингвистики.
ГЛАВА 9. ГЛУХОТА И ГЛУХОНЕМОТАМеханизмы речи и мышления еще столь мало изучены, что последствия для них частичной или полной глухоты до конца не поняты. «Современные методы обучения глухих устной речи не позволяют пока добиться у учащихся произношения, полностью свободного от недостатков». Думается, что учет нейропсихопара-лингвистических закономерностей раннего детского развития, формирующихся в деятельности эмоционального общения и эмоционального познания, может прояснить некоторые особенности клиники глухоты и глухонемоты. Ведь еще Ж.И.Шиф прозорливо отметила, что при обучении глухих освоение диффузных звуковых обликов слов, рифмованных структур речи, силовых слоговых дифференцировок и т. п., что, иначе говоря, и есть доязыковые эмоционально-выразительные средства коммуникации, предшествует освоению фонетики, лексики и грамматики родной речи.
Установлено, что влияние глухоты на звуковые реакции младенца обнаруживается не сразу. Ребенок, родившийся глухим, кричит так же, как и слышащий, он начинает гулить и лепетать. Другими словами, у глухого ребенка обнаруживаются биологически обусловленные голосовые реакции, реализуемые спонтанными паллидарными и стриарными синергиями. Известно также, что у глухих, как правило, имеются некоторые остатки слуха. Если обратить внимание на аудиограммы глухих (рис. 12), то можно видеть, что они слышат преимущественно низкие частоты повышенной громкости3. Спрашивается, как при таком остаточном слухе ребенок может использовать свои врожденные синергии в процессах коммуникативно-познавательного развития.
Поскольку врожденные звуковые реакции у глухих детей появляются так же, как и у здоровых, то, очевидно, что тактильно-кинестетические образы соответствующих синергии формируются у них нормально (с. 37). Но аутослуховые копии этих образов и, следовательно, способность к восприятию внешне-средовых звуковых комплексов должны иметь уже зонную недостаточность в силу специфических расстройств слуха.
Так, известно, что если встать сбоку от лежащего на спине ребенка так, чтобы он вас не видел и заговорить, то начиная с 7—8 недель, а более отчетливо с 10—12 недель здоровый ребенок повернет голову в сторону звука. Глухой ребенок подобных реакций не обнаружит, так как звуки умеренной разговорной громкости он не слышит. Не слыша звуки материнской речи такой громкости, он не может им подражать. Поэтому голос глухих дошкольников и школьников сохраняет многие черты младенческих криков: он появляется преимущественно в состояниях высокой субъективной ценности, когда детям больно или когда они стремятся привлечь к себе внимание, когда, будучи в аффекте, они что-нибудь восклицают, плачут или смеются. В голосе детей непосредственно голосовые или фонационные явления, характерные для зоны мотивационного оптимума, выражены плохо—голос слаб и глух; зато в нем много черт, напоминающих звуковые реакции здоровых детей зоны высокой субъективной ценности. В нем много свистящих и шипящих шумов*, как в явлениях дисфонации, временами в нем возникают звуки особой высоты, как в явлениях гиперфонации. Нередкие для голоса глухих детей гнусавые ноты напоминают звучание плача — типичной реакции минорной зоны умеренной субъективной ценности.
Зонно ограниченный состав аутослуховых образов ведет к тому, что умеренные по интенсивности врожденные синергии гуления и лепета ребенка не могут подвергнуться посредством соответствующих тактильно-кинестетических образов обучающим воздействиям со стороны взрослого. Не будучи подкреплены слуховыми раздражениями, эти тактильно-кинестетические образы затормаживаются, а с ними вместе затормаживаются и породившие их врожденные синергии. В результате с начала второй половины первого года жизни ребенка глухота все больше становится глухонемотой.
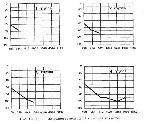
Установлено, что глухие дети все же различают отдельные гласные, обычно а и у. Гласный и, для которого характерны высокочастотные составляющие, глухими детьми не различается. Далее установлено, что если глухие дети воспринимают ритмические единицы речи, то прежде всего ее выделенные повышенной длительностью, а то и громкостью ударные слоги, а также слова, находящиеся под логическим ударением и тем самым опять-таки выделенные особой громкостью голоса.
Таким образом, умея воспроизводить лишь интенсивно мотивированные врожденные синергии, глухие и воспринимают в речи окружающих ее сравнительно интенсивно мотивируемые сегменты. Слабо и умеренно мотивированные сегменты речи окружающих не воспринимаются, и соответствующие врожденные синергии, не получая подкрепления, затормаживаются. Соответственно у глухих детей не формируются наиболее продуктивные для коммуникативных целей эмоционально-выразительные знаковые единицы зоны умеренной субъективной ценности: вокализации, особенно высокочастотные ии ё-вокализации; сегменты восходящей звучности и, конечно, вторичные и третичные чисто условнорефлекторные производные этих сегментов — псевдослова и псевдосинтагмы.
Следует специально обратить внимание на то, что производный характер лепетных псевдослов и псевдосинтагм означает несформированность у глухих детей соответствующих не только аутослуховых и слуховых, но и тактильно-кинестетических образов. Ведь тактильно-кинестетические образы формируются на основе потоков обратной афферентации от реализуемых синергии. Так как у глухого ребенка реализуются только синергии криков и уже в меньшей степени спонтанных гуления и раннего лепета, то можно ожидать наличия у него только соответствующего набора и тактильно-кинестетических образов. При этом даже этот ограниченный набор тактильно-кинестетических образов оказывается социально не упорядоченным. В силу снижения слуха глухие дети не слышат звуки разговорной громкости, под влиянием которых у слышащих детей и создается упорядочение таких тактильно-кинестетических образов.
Сказанное позволяет сделать важнейший для сурдопедагогической практики вывод: первичная органическая недостаточность у глухого ребенка периферических отделов слухового анализатора приводит к вторичной недостаточности центральных отдел°в как слухового, так и тактильно-кинестетического анализатора. Эта недостаточность вначале имеет функциональный характер, однако с течением времени она может стать, и, вероятно, во многих случаях становится, тоже анатомической. В результате подкорковый моторный аппарат речи — врожденные подкорковые синергии — оказывается недостаточно управляемым.
Согласно неоднократно упоминавшемуся правилу С.И.Бернштейна, глухой, не овладев произнесением эмоционально-выразительных псевдослов и псевдосинтагм, лишается возможности слышать даже с помощью звукоусиливающей аппаратуры характерные для родной речи фонетические формы целостных слов и синтагм. Поэтому сурдопедагогу приходится обучать глухого ребенка устной речи «на основе или в связи с дактильной или письменной речью». Природа и дактильной, и письменной речи во много раз аналитичнее речи устной. Отсюда следует аналитизм устных высказываний обучающихся глухих детей, т. е. произнесение ими слов по частям, по отдельным слогам и даже по отдельным звукам.
Здесь, кстати, следует отметить, что отсутствие плавности в речи глухих школьников поддерживается так же и тем, что, стараясь выполнить указания учителя и переживая в силу этого состояния высокой субъективной ценности, дети переходят к подчеркнутой паузации своих высказываний, что характерно для аффективной речи. Освоению плавной слитной речи благоприятствует непринужденное эмоционально положительное общение умеренной субъективной ценности с близкими людьми. Отчасти поэтому, вероятно, родителям иногда удается добиться больших успехов в развитии плавной речи глухого школьника, чем сурдопедагогу. Конечно, и ситуация классного обучения может быть доверительной и непринужденной, но чтобы она такой стала, нужно к этому сознательно стремиться.
Для того чтобы слова и синтагмы высказываний глухого ребенка приобрели слитную плавность, у него должны быть к тому же сформированы подкорковые синергии — эквиваленты лепетных псевдослов и псевдосинтагм, одной из функций которых в зрелой речи слышащих людей является реализация в потоке устной речи таких языковых обобщений, как слова и предложения.
Другой типичной ошибкой глухих детей является обилие гласных призвуков в словах, имеющих стечения согласных, а также в начале и в конце слов: «кошыка» (кошка), «шапыка» (шап-ко,), «супы» (суп), «самолет"» (самолет), «бабушка» (бабушка), «дом» (дом) и пр. Такие призвуки, изменяя слоговую структуру слов, ведут к снижению разборчивости речи. С точки зрения раннего онтогенеза речи такого рода ошибки глухих также могут свидетельствовать о несформированности у них псевдослов и составляющих их сегментов восходящей звучности и вследствие этого слоговых ритмических структур. «Равноударность» речи глухих подтверждает, что слоговые ритмические структуры у них не сформированы.
Так как ритмические структуры слов обеспечивают ребенку второго года жизни способность предметной индикации или номинации, то их недостаточная сформированность объясняет дефектность наглядных вербальных* обобщений глухих детей, а в силу этого и будущих абстрактных понятий. В самой общей форме удалось показать, по данным Ж.И.Шиф, что даже наглядные обобщения глухих детей нельзя отождествлять с «пронизанными» речью житейскими понятиями слышащих детей. Наглядные обобщения глухих детей несовершенны. Запоминаемые слова медленнее объединяются в смысловые группы, уточнение и обогащение значений слов тоже происходит медленнее.
Такие нарушения ситуационно обусловленной речи и связанного с нею комплексного мышления, естественно, должны иметь системные последствия и тормозить дальнейшее мотивационно-потребностное и операционно-техническое развитие. Подтверждение этой мысли вновь находим в исследованиях Ж.И.Шиф: мотивационная сторона усвоения языка у глухих детей ослаблена. Умение обобщать по категориальным признакам появляется позднее, чем у здоровых. С резким отставанием и недостаточно формируются грамматические отношения.
Наиболее тяжелы мелодические ошибки глухих детей, их речь монотонна. Это и понятно: мелодика синтагм формируется на основе мелодических подъемов и спусков в составе псевдосинтагм, которые у глухих отсутствуют. Коммуникативно наиболее значимые изменения частоты основного тона дифференцируются у здоровых детей под воздействием речи взрослых в кульминационных сегментах псевдосинтагм, что требует восприятия относительно высоких звуковых частот, что тоже глухим недоступно.
Итак, можно заключить, что у глухого ребенка оказываются дефектными эмоционально-выразительные предпосылки речевого механизма, причем тем в большей степени, чем выше их иерархический уровень: лепетные сегменты восходящей звучности дефектнее вокализаций, псевдослова дефектнее этих лепетных сегментов, а псевдосинтагмы практически остаются несформированными вообще. Понятно, что специальную компенсаторно-коррекционную работу следует начинать как можно раньше, когда системные (вторичные и третичные) следствия зонно ограниченного слуха еще не успели сформироваться.
В этой работе кажется необходимым: 1) сформировать у ребенка коммуникативно-познавательную ориентировку на звуки умеренной интенсивности в отличие от оборонительной ориентировки на более интенсивные звуки; 2) обучить ребенка воспроизведению врожденных звуковых синергии голосом умеренной интенсивности; 3) синергии гуления и лепета умеренной интенсивности систематизировать по мере возможности вместе с их тактильно-кинестетическими и аутослуховыми образами по четырем зонам субъективной ценности; 4) опираясь на сохранную зрительную и тактильно-кинестетическую афферентацию и используя остаточный слух ребенка, сформировать у него синергии псевдослов и псевдосинтагм; 5) подчинить весь этот механизм кортикальным импульсам, реализующим языковые программы высказывания.
Под углом зрения изложенных представлений о расстройствах коммуникативно-познавательного механизма на почве рано возникшей глухоты и вытекающих из этих представлений компенсаторно-коррекционных задач оценим используемые в настоящее время принципы сурдопедагогики.
Принятый в советских школах метод обучения глухих произношению является аналитико-синтетическим, пишут Ф.Ф.Pay и П.Ф.Слезина. Исходными и основными единицами обучения служат осмысленные единицы речи — слова и фразы. Работа же над элементами слова — слогами и звуками — ведется лишь постольку, поскольку это оказывается необходимым для правильного воспроизведения звуко-слоговой структуры слова. «Такой аналитико-синтетический метод, сочетающий обработку целостного действия и составляющих его операций, является психологически наиболее оправданным для формирования самых разнообразных двигательных навыков»'.
Особенность принятого в школах варианта аналитико-синтетического метода состоит в его концентрическом характере. В основу концентрического метода положена закономерность усвоения произносительной стороны речи нормально слышащим ребенком, которая заключается в том, что его слова, недоступные ему для точного фонетического воспроизведения, он произносит в течение известного периода времени приближенно.
Первоочередность работы над осмысленными единицами речи, конечно, не вызывает сомнений. Но возникает вопрос: следует ли относить к их числу лишь языковые единицы смысла? Ведь осмысленны и эмоционально-выразительные единицы речи. Разница между теми и другими коммуникативно-познавательными знаками заключается лишь в том, что языковые единицы смысла выражают лексические, грамматические и синтаксические значения, а эмоционально-выразительные — эмоциональные значения. На страницах настоящей книги показывается, что каждое эмоционально-выразительное коммуникативно-познавательное действие обеспечивается определенным составом операций, как и языковые коммуникативно-познавательные действия.
Не выиграет ли в полноте и последовательности концентрический метод, если сурдопедагогика осознанно станет на тот же путь освоения фонетической стороны русского языка, по которому ее осваивает ребенок в раннем онтогенезе? Операционное освоение фонетической формы языковых знаков в процессе активного пользования все более сложными эмоционально-выразительными знаковыми средствами — не есть ли это по существу тот же самый концентрический метод, разработанный самой природой? Вначале младенец воспринимает из потока материнской речи лишь тембр гласных, находящихся в ударных слогах, потом меняющуюся звучность тембра на протяжении коротких слоговых сегментов материнской речи, еще позже ритмику ее речи и, наконец, уже на втором году нарастающие и спадающие мелодические изменения голоса на протяжении целостных высказываний матери. Что это, как не постепенное, все более полное, отражение формы звучащей речи?
Последовательные шаги развития отдельных эмоционально-выразительных коммуникативных средств практически нашли отражение в методике сурдопедагогической работы. Так, работая над слитным произнесением слов, сурдопедагог начинает с воспитания дыхательных синергии, потом тренирует произнесение на одном выдохе протяжных гласных (т. е. вокализаций), слогов ГС и CF(VC- и CV-сегментов), серий слогов СГ (т. е. цепей CV-сегментов восходящей звучности) и целых слов (т. е. псевдослов). Почему бы не попробовать внедрить в методику работы с глухими детьми преемственные шаги в развитии эмоционально-выразительных средств более последовательно? Возможно, что эффективность методики от этого выиграла бы. Очень осторожно, но все же нельзя не высказать мысль, что, возможно, копируя природу, удастся найти рациональную методику работы над ме: лодикой речи глухих детей.
Такое расширенное понимание концентрического метода, кстати, решило бы задачу воспитания у глухого ребенка не только членораздельной, но и внятной устной речи. Естественную гибкость речи слышащих людей придают как раз ее эмоционально-выразительные коммуникативные средства, используемые личностью в зависимости от зонных оценок результатов своего поведения.
Итак, изложенные в пособии материалы заставляют обратить самое пристальное внимание в коррекционно-воспитательной работе с глухими детьми на воспитание у них эмоциональных предпосылок коммуникативно-познавательного развития. Для эффективности этой работы желательно развертывать ее в соответствующие сензитивные возрастные сроки, т. е. уже на протяжении первого года жизни. Именно поэтому так важна ранняя диагностика глухоты, о которой в первые месяцы жизни наиболее красноречиво свидетельствует характер развития звуковых эмоционально-выразительных реакций детей.
Тренировку глухого ребенка нужно начинать немедленно, как только обнаружена глухота. Легче всего эту работу может выполнить мать в процессе индивидуального непринужденного эмоционального общения со своим ребенком в течение дня. В серии работ' было показано, что живое эмоциональное общение с матерью и взрослым вообще позволяет сохранить и развить способность ребенка к подражанию речи окружающих взрослых. Выжидание в оказании ребенку специализированной помощи до 3—4 лет, когда его помещают в соответствующее детское учреждение, означает, к сожалению, что самое благоприятное для развития эмоциональных предпосылок речи время будет невозвратимо упущено.
Конкретной методики тренировки остаточного слуха глухого ребенка мы здесь касаться не будем. Скажем лишь несколько слов о принципах рационального слухового протезирования у детей. Протезируя ребенка, необходимо помнить, что для каждого этапа формирования эмоционально-выразительных предпосылок речи — коммуникативно-познавательных звуковых комплексов вокализаций сегментов восходящей звучности, псевдослов и псевдосинтагм — существуют свои оптимальные мотива-ционно-активационные и тем самым громкостные зоны. Интенсивность звука, превышающая этот оптимум, будет препятствовать выработке соответствующих коммуникативно-познавательных дифференцировок и провоцировать голосовые реализации оборонительного типа. Поэтому звукоусиливающую аппаратуру необходимо, по-видимому, регулировать в соответствии с тем, какой класс эмоционально-выразительных единиц ребенок в данный момент отрабатывает.
Нельзя также забывать, что у слышащего ребенка особенно продуктивны операционно-технические опосредования не просто умеренной субъективной ценности, но и с мажорной зонной отнесенностью, которые у глухого ребенка страдают в первую очередь. Поэтому концентрический вариант аналитико-синтетиеского метода тоже должен отдавать осознанное предпочтение тем приемам, которые могут стимулировать развитие эмоционально-выразительных средств умеренной (а именно мажорной) субъективно-ценностной зоны.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ...Специальные приемы и средства педагогического воздействия... могут строиться только на основе научного понимания ребенка... Мы убеждены, что действительное культивирование педагогических назначений, вытекающих из богатого, содержательного научного клинического изучения ребенка, приведет к небывалому расцвету всей лечебной педагогики, всей системы индивидуально-педагогических мероприятий. (Л.С.Выготский)
Вернемся еще раз к наиболее важным закономерностям раннего детского возраста, но теперь уже под углом зрения задач коррекционно-воспитательной работы с аномальными детьми.
Описание и изучение общих закономерностей развития раннего детского возраста невозможно с позиций той или иной частной научной дисциплины (физиологии, психологии, неврологии, лингвистики и пр.) в силу неизбежной односторонности каждой такой позиции. Это сделать невозможно даже с комплексных позиций нескольких естественнонаучных или нескольких гуманитарных дисциплин. Ведь биологический организм ребенка с первых дней жизни развивается в социальной среде, адаптируясь не только к физико-химическим, но и к социальным условиям внешней среды.
Поэтому для изучения общих закономерностей раннего детского возраста нами был использован такой синтетический естественно-гуманитарный метод, отвечающий двойной медико-педагогической направленности дефектологии, как метод нейропсихопара-лингвистический, дополненный потом по мере развития исследования и лингвистическими критериями.
Обобщение разносторонних литературных сведений и своих собственных клинических и экспериментальных наблюдений показало, что звуковые реакции детей раннего возраста можно рассматривать как симптомы становления периодической структуры их психических новообразований, формирующихся в деятельности «непосредственно эмоционального общения», или, как нам кажется правильнее говорить, в деятельности эмоциональной коммуникации и эмоционального познания внешнего мира. Пять периодов раннего возраста в целом совпадают с функциональными периодами, описываемыми микроневропатологами по нейросоматическим, сенсорно-моторным и психомоторным признакам. По нашим данным, в основе этих периодов лежит смена неосознаваемых ребенком ведущих сенсорных комплексных ощущений и образов, мотивирующих его деятельность.
В настоящем пособии типы этих мотивирующих сенсорных комплексов возрастающей сложности лишь намечаются. Так как для дефектолога понимание специфики мотивирующих ощущений и образов разной степени сложности и логики их преемственного развития составляет основу коррекционно-воспитательной работы с аномальными детьми, то очевидна необходимость дальнейших целенаправленных исследований в этом направлении, прежде всего психолого-педагогического плана. Имея в виду эту задачу, подведем некоторые итоги нашего исследования.
Можно выделить пять типов мотивирующих ощущений и образов возрастающей сложности, связанных с интенсификацией соответствующих активационных усилий ребенка. Существенно, что мотивация даже самых элементарных из них предполагает торможение мотиваций оборонительного характера. В этом отношении нейропсихопаралингвистические данные подтверждают имеющиеся в литературе положения о том, что в основе всякой коррекционно-воспитательной работы, направленной на выработку коммуникативно-познавательных условнорефлекторных комплексов, должно лежать устранение имеющихся у ребенка напряженности и настороженности и установление с ним эмоционально положительного контакта. Создавая у ребенка состояния умеренной субъективной ценности, педагог получает оптимальные условия для целенаправленного воспитания у него коммуникативно-познавательных мотивирующих ощущений и образов.
Так как усложнение коммуникативно-познавательной деятельности ребенка связано с расширением зоны мотивационного оптимума и с возрастанием уровня активационных усилий, то педагог может повышать учебные требования к ребенку только тогда, когда он воспитал у него соответствующую потребность в их освоений и когда эта потребность обеспечена энергетически. Последнее означает, что внутренние органы детского организма соответственно развиты и функционируют нормально. В противном случае возникают условия для формирования реакций оборонительного типа с неизбежным торможением у ребенка не только уже освоенных коммуникативно-познавательных сноровок и навыков, но и коммуникативно-познавательного интереса вообще.
Перечислим ведущие для каждого из периодов раннего детского возраста мотивирующие ощущения и образы. Для периода младенческих криков (0—2—3 мес.) характерны исходные мотивирующие ощущения оборонительного типа, представляющие собой интероцептивные комплексы, которые возникают в состояниях дискомфорта. Устраняя эти состояния, взрослый человек ликвидирует эмоционально отрицательные состояния высокой субъективной ценности и преобразует их в эмоционально положительные состояния умеренной субъективной ценности. Комплексы экстероцептивных раздражений, вызываемых прикосновениями рук взрослого, теплом его тела, звуками его голоса и т. п., становятся мотивирующими ощущениями коммуникативно-познавательного поведения ребенка.
Ребенок подражает поведению матери, находящейся с ним в эмоциональном взаимодействии, и таким образом регламентирует интенсивность своего голоса в соответствии с нормами разговорной речи. С появлением врожденных звуковых реакций гуления (2—3 мес.— 5—6 мес.) социальному нормированию подвергаются их гласноподобные тембры. В результате в обиходе ребенка появляются национально-специфические вокализации.
Операционно-техническое совершенствование формы вокализаций включает в поле активного внимания ребенка, синкретично слитые с ними шумовые компоненты; в его звуковых реакциях появляются сегменты меняющейся звучности (CV, VC, CVC, VCV и пр.), что поддерживается созреванием стриарных подкорковых ядер. Возникают условия для формирования мотивирующих образов второго уровня сложности коммуникативно-познавательной способности. Для претворения этих условий в действительность мать должна дать понять ребенку, что ее эмоциональные состояния детерминируются особенностями поведения самого ребенка.
Бессознательное усвоение этого обстоятельства кладет начало доминированию у ребенка в периоде раннего лепета (5—6 мес— 9—10 мес.) второго типа коммуникативно-познавательных мотивирующих образов, которые отражают наряду с проявлениями материнского поведения и проявления поведения ребенка. В частности, ребенок чутко улавливает, как меняется звучность материнской речи в зависимости от его собственного поведения; додражая матери, он подвергает социальному нормированию свои собственные лепетные сегменты меняющейся звучности, среди которых ведущее положение получают лепетные сегменты восходящей звучности* (CV).
Обратим специальное внимание на то значение, которое оказывает динамичность эмоционального поведения взрослого на закладывающуюся систему ценностных ориентиров формирующейся личности.
Покидая чрево своей матери с характерным для него постоянством физико-химических факторов и попадая в изменчивые физико-химические условия внешней среды, каждый младенец имеет очень низкие пороги реакций оборонительного (или защитного) поведения. Однако в отличие от животных, детеныши которых вынуждены в большей или меньшей степени сами заботиться о своей безопасности и своем пропитании, человеческая цивилизация гарантирует (во всяком случае должна гарантировать) всем своим подрастающим членам полную безопасность и защищенность от вредоносных воздействий среды на все время необходимого обществу их коммуникативно-познавательного развития. Любовный материнский уход реализует эти общественные гарантии по отношению младенцев первых месяцев жизни, в результате чего пороги врожденных оборонительных реакций У них повышаются, зато пороги реакций формирующейся коммуникативно-познавательной потребности начинают прогрессивно снижаться. Каждый такой сдвиг порогов коммуникативно-познавательных реакций есть обратное выражение роста коммуникативно-познавательной активности. Это возрастание активности ребенка становится предпосылкой нового сензитивногр периода в его операционно-техническом развитии. Для претворения в жизнь этой предпосылки окружающие ребенка взрослые создают у него спецификой своего эмоционального поведения последовательно усложняющиеся типы субъективных ценностных ориентировок. Отсутствие соответствующих воспитательных воздействий ведет к задержке или даже к аномалии начального развития личности. Ярчайший пример тому — синдром госпитализма (гл. 5), когда развитие операционно-технических средств ребенка формируется вне социально значимых субъективно-ценностных ориентиров.
Соответствующие возрасту перемещения активного внимания ребенка с общественных ценностей разных типов обусловливают гармоничное развитие первоначальных субъективных ценностей формирующейся личности. Выше упоминались наблюдения психологов о «функционально интровертированных» малышах, у которых комплексы ощущений из внутренней среды организма не были своевременно-подчинены внешнесредовым сенсорным комплексам. Можно продолжить эту мысль: переключив внимание ребенка на внешнесредовые комплексы впечатлений, нужно продолжать и дальше своевременно направлять его внимание. Мать и другие взрослые должны учить ребенка эмоционально оценивать и, подражая окружающим, эмоционально выражать сначала свое собственное состояние, потом свое отношение к партнеру по коммуникативно-познавательному взаимодействию, к предметным ситуациям и их отдельным предметам и, наконец, к взаимосвязям между предметными компонентами целостных коммуникативно-познавательных ситуаций.
В настоящее время необходимая совокупность воспитательных воздействий на детей раннего возраста осуществляется нередко интуитивно и потому наиболее успешно со стороны их матерей, поведение которых задается биологическими программами, отточенными в эволюционном процессе. Практика заставляет подойти к таким воспитательным воздействиям осознанно, в том числе дефектологическая практика коррекционно-воспитательной работы с аномальными детьми. Мы старались показать в третьей части пособия, что коммуникативно-познавательные аномалии раннего детского возраста имеют значение в механизмах симптомообразования самых разных типологических форм аномального детства. Поэтому для коррекционной педагогической работы с соответствующими группами детей разных возрастов необходимо сознательно осуществлять те обучающие воздействия, которые производит мать на ребенка первого-второго года жизни интуитивно.
Отчасти именно поэтому мы, используя результаты своих ней-ропсихопаралингвистических исследований, разработали таблицу некоторых коммуникативно-познавательных нормативов (с. 66). Усовершенствование этой таблицы и насыщение ее результатами исследования звуковых и прочих компонентов эмоционально-выразительных реакций ребенка раннего возраста должно способствовать, как нам кажется, не только диагностической, но и коррекционно-воспитательной работе дефектолога. Направленность такой работы связана естественным образом с диагностируемой аномалией развития.
Типология аномалий развития раннего возраста еще мало разработана. В настоящем пособии мы ставили перед собой задачу показать принципиальное многообразие таких типологических форм и значимость их в патогенезе привычных форм аномального детства. Одна из форм глобального недоразвития психических новообразований раннего возраста видится нам в синдроме раннего детского аутизма (гл. 6). Противоположный по характеру, но такой же глобальный тип аномального развития можно усматривать в патогенезе олигофрении (гл. 7). Более избирательные формы аномалий развития раннего возраста имеют отношение к патогенезу алалии и ранней детской тугоухости. При первой из них (гл. 8) страдают преимущественно коммуникативные средства ребенка, в том числе связанные с процессом начального опосредования эмоциональных средств коммуникации. При второй первичный дефект слухового и связанного с ним тактильно-кинестетического анализатора мозга имеет зонный характер (гл. 9).
Рассматривая механизмы симптомообразования этих аномалий развития, нам пришлось затронуть сложнейшую проблему происхождения языковой способности ребенка. Наши материалы позволили утверждать, что ее функциональной предпосылкой является эмоциональная коммуникативно-познавательная способность. Разбирая эту мысль под углом зрения концепции Л. С. Выготского о зоне ближайшего развития, нам пришлось ввести в текст пособия сведения о некоторых разработанных в последние годы лингвистических теориях: о слоговом контрасте, о синтагме, об актуальном членении высказывания и др.
Для того чтобы облегчить дефектологу понимание этого раздела, были предложены две таблицы: на с. 82 (табл. 5) и на с. 102 (табл. 6). Обе таблицы использовались нами в процессе обсуждения вопросов диагностики. Теперь посмотрим на них с точки зрения задач коррекционной педагогики.
В свое время лингвистическое учение о фонеме, будучи перенесенным на почву дефектологии, стало основой целого цикла методических пособий по обучению устной речи, чтению и письму детей с аномальным развитием. Сегодня возможна не менее продуктивная методическая перспектива в связи с освоением дефектологами чейропсихопаралингвистических и нейропсихо-лингвистических закономерностей. Методист-дефектолог может руководствоваться табл. 5, ставя перед собой задачу формирования или коррекции у ребенка всех фонетических единиц речи или части из них. Табл. 6 может быть полезна при продумывании более широких методических планов.
Имея в виду, что фонемы обслуживают функцию различения значений слов и морфем, т. е., другими словами, что они обеспечивают сигнификативную функцию языковых единиц, можно говорить о том, что в сегодняшней науке уже накопилось достаточно данных для дальнейшего развития самого учения о фонематическом* слухе. Эта важнейшая для дефектологии методическая перспектива заслуживает конкретных нейрофонетических пояснений.
О необходимости дифференциации понятия «фонематический слух» свидетельствуют, во-первых, иерархический принцип структурно-функциональной организации мозга и, во-вторых, абстрактный амодальностный (иначе говоря, не связанный с сенсорной спецификой отдельных анализаторов мозга) характер национальной системы фонематических обобщений, единицы которой, выделяясь в процессе восприятия слогов из звукового потока речи, в них же и реализуются при порождении речевых высказываний.
Слух есть модально специфическая функция слухового анализатора мозга; он опосредован у человека еще не системой фонем, а иерархически более элементарными коммуникативно-познавательными единицами, такими как слоги, ритмические структуры слов и обобщения предударн-ударных и заударных частей этих структур. Эти слуховые, хотя и регламентированные и нормированные социальной речевой средой, гностические единицы уже достаточны для понимания ребенком предметно отнесенных слов и целых .высказываний взрослых, а соответствующие навыки артикуляционного праксиса — для номинации предметов и порождения ситуационно обусловленных высказываний самим ребенком.
Амодальностная же система фонем служит задаче дифференциации лексических и грамматических языковых значений внеситуационной контекстной речи. Создаваясь в нормальном развитии на базе слуховых гностических и артикуляторных праксических единиц, система языковых фонематических обобщений оказывается связанной в дальнейшем развитии ребенка не только со слуховым гнозисом, но также со зрительным и даже тактильным. Ведь известно, что, овладев навыками чтения зрительно воспринимаемых текстов, человек может «читать» потом и кожей, т. е. тактильно. Известно также, что при очаговых поражениях, так называемой зоны Вернике доминантного полушария, взрослый человек может полностью лишиться слуха, опосредованного слоговой структурой родной речи, но при этом его способность дифференциации языковых значений посредством использования фонематических противопоставлений не нарушится.
Он сможет продолжать читать, писать, осуществлять процессы вербального мышления и даже говорить, хотя и не будет воспринимать на слух речь окружающих и подражательно повторять услышанное. Такая диссоциация в речевых возможностях больного всегда обращает на себя внимание и может быть понята только под углом зрения иерархической организации мозга и осуществляемых при его посредстве речевых функций.
При очаговых поражения некоторых внеслуховых отделов височной доли доминантного полушария мозга, относимых к зоне перекрытия отдельных анализаторов, может оказаться разрушенной система языковых фонематических обобщений. Тогда, несмотря на сохраненные элементарный слух, социально опосредованный слуховой речевой гнозис, элементарное зрение и социально опосредованный зрительный речевой гнозис, человек теряет способность не только устной, но и письменной речи, не только речевого общения с окружающими, но и внутренней речи и вербального мышления; в его распоряжении остаются лишь устные и письменные, иногда довольно сложные, автоматизмы, в том числе автоматизированный навык восприятия и повторения слогов родной речи, а также их последовательностей, но без полного понимания значений соответствующих слов.
Очаговые поражения мозга редко затрагивают отдельные, четко отграниченные поля коры, осуществляющие функционально разноуровневую переработку сенсорной информации, особенно, если эти поражения были вызваны травмами военных лет, нарушениями кровообращения в обширных сосудистых руслах или нагноительными процессами. Поэтому клинически обычно наблюдаются расстройства речи, неоднородные в уровневом отношении, в которых нарушения речевого слухового гнозиса сочетаются с нарушениями системы фонематических языковых обобщений. Такие сочетания патогенетически двух разных расстройств речи у одного и того же больного, естественно должны найти отражение и в диагностике, и в методике логопедической работы.
С развитием методов неврологической диагностики и нейрохирургической техники, с одной стороны, и фонетико-фонологических знаний, с другой, во второй половине XX века появилась возможность совершенствования наших представлений о механизмах речи, в частности и о фонематическом слухе. На материале ограниченных нейрохирургических поражений височной доли доминантного полушария мозга были собраны наблюдения, обнаружившие принципиальные различия между расстройствами слухового гнозиса слогов и слоговых ритмических структур речи и иерархически более сложными расстройствами системы языковых фонематических обобщений. Первые расстройства проявляются нарушениями понимания устной речи, подражательного повторения слов и словосочетаний и затруднениями номинации предметов. Вторые же расстройства приводят к нарушению всех видов речевого поведения, связанных с необходимостью различения слов и морфем, тогда как способность более или менее механического повторения сегментов речи сохраняется.
Выявленные нейропсихолингвистические закономерности должны иметь определенное преломление и в клинике аномального развития. Здесь умение дифференцировать расстройства речевого слухового гнозиса и фонематические расстройства имеет особое значение, поскольку в детском возрасте очаговая недостаточность мозга не только обусловливает некий дефект психических функций ребенка, но и ведет к вторичным задержкам его психического развития. Диагностика недостаточно сформированного речевого слухового гнозиса обращает внимание логопеда на развитие у ребенка паралингвистических предпосылок фонетических единиц языка: на формирование и дифференциацию слогов, ритмических слоговых структур, их автоматизацию в ситуационно обусловленной речи; лишь потом логопед переходит к выработке фонематических языковых противопоставлений, необходимых для внеситуационной контекстной речи, чтения и письма. Наличие первично обусловленных фонематических расстройств на фоне сохранной эмоциональной и ситуационно-обусловленной речи позволяет сразу приступить к выработке фонематических противопоставлений сначала на материале устной контекстной, а потом и письменной речи. При наличии патогенетических сложных расстройств речи логопедическая методика с самого начала должна быть многоплановой с сочетанием в ней принципиально различных методических приемов в зависимости от структуры речевого дефекта и особенностей личности ребенка.
Заслуживают специальной методической разработки, изложенные в тексте пособия представления о том, что так называемое физиологическое косноязычие является внешним проявлением незаконченного языкового опосредования эмоционально выразительных коммуникативно-познавательных единиц. Ребенок не дифференцирует на слух и вследствие этого смешивает в своей собственной артикуляции согласные, обладающие одной и той же или почти одной и той же субъективной ценностью, т. е. все глухие смычные, все щелевые глухие и аффрикаты, все звонкие смычные, все звонкие щелевые, все сонанты (см. табл. 1, с. 50). Чтобы преодолеть этот возрастной дефект произношения необходимо выработать у ребенка способность различения начальных консонантных максимумов в сегментах восходящей звучности (CV) эмоционально выразительной лепетной речи по признакам, характеризующим слог (СГ) ситуационно-обусловленной речи, иначе говоря по признакам слогового контраста.
Особую трудность в этом процессе представляет для ребенка правильное произношение стечений согласных. Так, А.Н.Гвоздев отмечал, что, овладевая навыками произношения, ребенок позже всего научается правильно артикулировать стечения согласных. Обычно до поры до времени стечения согласных сокращаются. Сокращения групп согласных отличаются исключительным единообразием, и основной принцип их сокращения заключается в том, что сохраняется наиболее «узкий» смычной звук, а опускается наиболее «широкий» фрикативный. Учитывая, что смычные обладают большей субъективной ценностью (см. табл. 1, с. 50) в сравнении с фрикативными [ф, с, з, ш, ж, х] промежуточной группы А.Н.Гвоздева и тем более с его группой фрикативных [/, р, л, в], можно сделать вывод, что в стечениях согласных раньше осваиваются их наиболее ценные с коммуникативной точки зрения компоненты: «з'ал» (взял), «с'инка» (свинка), «дугуйу» (другую) «басой» (большой), «мас'а» (масло), «с'ок'и» (свеклы), «пат'» (спать), «кат'ука» (катушка) и пр.
Сознательно используя эти субъективно-ценностные закономерности языкового опосредования их паралингвистических предпосылок, логопед сможет усовершенствовать приемы педагогической коррекции произносительных дефектов детской речи.
Большой простор для методических разработок открывает также учет зонного принципа в организации субъективных ценностей ребенка и, следовательно, связанных с ними разнообразных операционно-технических сноровок и навыков. Нам представляется, что сделанная попытка рассмотрения под зонным углом зрения патогенеза ранней тугоухости (гл. 9) находит поддержку в факте введения в детскую аудиологию понятия о рабочем диапазоне частот у тугоухих детей. Это понятие подчеркивает, что у тугоухих детей оказывается в большинстве случаев функционально значимой зона средних и низких частот (до 1000 Гц), т. е. частот, имеющих в психологическом отношении умеренную и низкую субъективную ценность. Осознание аудиологами функциональной значимости именно этих частот заставило их пересмотреть методику вычисления средней потери слуха, а также практику подбора слуховых аппаратов. Слуховой аппарат, предназначенный для коммуникативных целей, должен усиливать частоты рабочего диапазона. Попытка усиления у ребенка путем слухопротезирования всех пострадавших частот, и прежде всего максимально пострадавших высоких (зона высокой субъективной ценности), признается все более единодушно (по данным Г.С.Лях и А.М.Марусевой) потерпевшей неудачу, так как такие аппараты обеспечивают низкую разборчивость речи. Зонная природа врожденных субъективных ценностей ребенка, причинно связанная с интенсивностью раздражителя (см. с. 23—24), делает этот результат закономерным.
В любом периоде раннего детства складывается характерная знаковая ситуация. Для пояснения этого понятия воспользуемся таким примером. Два человека хотят перейти через улицу, но вдруг загорается красный свет светофора, регулирующего уличное движение. Один из прохожих тотчас останавливается. Другой идет дальше; наверно он из деревни и не знает правил уличного движения. Спутник останавливает его и объясняет: «Если вы видите красный свет, это означает, что переходить улицу нельзя, если зеленый — то можно». На следующем перекрестке этот человек, предупрежденный товарищем, останавливается сам, когда видит красный сигнал светофора. Теперь он уже понимает значение этого знака. И так происходит всегда, когда мы имеем дело со знаком и со знаковой ситуацией: они результативны только тогда, когда заинтересованные люди одинаково понимают значение знака».
Вступая в эмоциональный контакт со взрослым, ребенок осваивает такие знаковые ситуации, а заодно и новые типы паралингвистических знаковых средств. С каждым новым периодом знаковая ситуация усложняется, а эмоциональные значения, или семантика, осваиваемых знаковых средств становится результатом все более сложной обобщающей работы мозга.
Следовательно, на доязыковом этапе раннего развития закладывается основополагающая система знаковых отношений ребенка с внешним миром. Только на этом фоне обобщение фактов действительности посредством языковых значений адаптивно целесообразно. Вне опоры на этот паралингвистический субъективный знаковый фон языковое отражение действительности оказывается лишенным психологического содержания (А.Н.Леонтьев) ; становится всего лишь «мертвыми абстракциями» (В.И.Ленин).
В.И.Ленин положительно оценил известное суждение Гегеля «...познание движется от содержания к содержанию. Прежде всего поступательное движение характеризуется тем, что оно начинается с простых определенностей и что следующие за ними становятся всё богаче и конкретнее... Всеобщее составляет основу ... на каждой ступени дальнейшего определения всеобщее поднимает выше всю массу его предшествующего содержания и не только ничего не теряет вследствие своего диалектического поступательного движения и не оставляет позади себя, но несет с собой все приобретенное, и обогащается и уплотняется внутри себя».
Так как знаковые паралингвистические средства всего лишь компоненты соответствующих целостных познавательных образов, а те, в свою очередь, всего лишь означающие соответствующих эмоциональных означаемых, то кажется возможной следующая интерпретация приведенного суждения Гегеля. В поступательном спиралевидном развитии личности лежащее в ее основе «всеобщее»— врожденные эмоционально-активационные состояния — претерпевают ряд социальных опосредовании, причем каждая новая ступень таких опосредовании вбирает в себя содержание всех предшествующих ступеней и обогащается ими.
Если биологический организм оценивает познавательные результаты своего поведения под углом зрения их биологической пользы или вреда (биологические смыслы или биологические ценности), то личность делает то же самое под углом зрения общественных ценностей, ибо личностные смыслы (ценности), формируясь в эмоциональном взаимодействии индивида с социальной средой, являются отражением этих общественных ценностей.
Биологические смыслы более или менее абсолютны, а потому и универсальны; личностные смыслы условны, относительны, а потому и национально специфичны, коль скоро дело идет об эмоциональной подоплеке познавательного опыта членов именно национального сообщества. Биологические смыслы наследуются генетически, личностные смыслы воспитываются в онтогенезе. Биологические смыслы являются предпосылкой формирования личностных, но лишь в том случае, если они опосредствуются общественными смыслами или ценностями. Опосредствуясь общественными ценностями, биологические смыслы подвергаются настолько глубоким преобразованиям, что их связь с биологическими предпосылками подчас становится не очень очевидной.
Думается, что не будет ошибкой повторить мысль А.В.Запорожца о том, что прогрессивным по видимости, но реакционно-утопическим по своей сути выступает утверждение о том, что якобы ценой искусственной акселерации развития ребенка, путем сокращения детства может быть достигнут в дальнейшем духовный прогресс человечества. Детство ребенка значительно более длительное и неизмеримо более богатое по содержанию, по характеру происходящих на его протяжении психических изменений, чем это имеет место у детенышей животных, является величайшим достижением и громадным преимуществом человека. Оно дает возможность ребенку до достижения зрелости овладеть богатством духовной и материальной культуры, созданной обществом, приобрести специфические для человека способности и нравственные качества и, став таким образом «на плечи» предшествующих поколений, двигаться дальше по пути социального и научно-технического прогресса.
Хотя А. В. Запорожец имел в виду дошкольный возраст, однако, все сказанное им относится в равной мере и к раннему возрасту. В это ответственное время начинает складываться жизненный биоритм личности, в котором ведущую роль играют социальные, чисто человеческие воздействия среды; именно в это время начинается знаковая структурация генетически детерминированного биологического субстрата мозга ребенка с неизбежным социально обусловленным ограничением и нормированием потенциальных возможностей развития, именно в это время врожденные биологические субъективные ценности начинают достраиваться многообразием личностных ценностей; именно в это время закладываются основы системы познавательных образов и эмоционально выразительных знаковых средств, наконец, именно в это время формируются функциональные предпосылки будущего языкового развития.
Задача общества — создать каждому новорожденному оптимальные условия для его психофизиологического развития в раннем возрасте с тем, чтобы к критическому возрасту 2—4 лет перечисленные выше психические новообразования уже вступили бы в устойчивые и достаточно автоматизированные функциональные отношения. «... надо не сокращать детство, а так совершенствовать содержание, формы и методы воспитания, чтобы на каждой возрастной ступени развития ребенка обеспечить последовательное, поэтапное формирование качеств и способностей будущей личности» (А. В. Запорожец, 1978, с. 263). В таком постоянном совершенствовании содержания, форм и методов воспитания особенно нуждаются дети с отклонениями от нормального развития, тем более с чертами аномального развития.
В данном пособии, посвященном, прежде всего проблемам диагностики, приходится ограничиться лишь кратким аннотированием тех методических перспектив, которые открывает дефектологу введение в сферу его внимания нейропсихопаралингвистических и нейропсихолингвистических закономерностей раннего детского возраста. Закончить это можно строками Л.В.Выготского, в которых он подчеркивал диалектическое единство биологических наследственных и средовых социальных факторов в процессе детского развития: «Развитие не простая функция, полностью определяемая икс-единицами наследственности плюс игрек-единицами среды. Это исторический комплекс, отображающий на каждой ступени (подчеркнуто мною — Е.В.) заключенное в нем прошлое ... развитие есть непрерывный самообуславливаемый процесс, а не марионетка, управляемая дерганьем двух ниток ... это положение ... представляется нам центральным по значению для практической педологии».
Поэтому любые педагогические коррекционно-воспитательные рекомендации должны быть согласованы с врачебными советами, учитывающими наследственные факторы и соматическое состояние ребенка, особенности поражения его центральной нервной системы и своеобразие его высшей нервной деятельности. В таком медико-педагогическом подходе к аномальному ребенку залог успеха как диагностической, так и коррекционно-воспитательной работы с ним.
СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВАгнозия — расстройства функции гнозиса или предметного восприятия. Может быть зрительной, слуховой, тактильной, речевой зрительной и речевой слуховой.
Адаптация — приспособление.
Адаптивный — приспособительный.
Аллофон — разновидность, конкретная реализация фонемы в слоговых единицах речи. Аллофоны, обусловленные позицией данного слога в слове, носят название позиционных, те же аллофоны, характер которых обусловливается соседством с другими гласными и согласными, называются комбинаторными.
Аномалия — неправильность.
Аномальные дети — имеющие значительные отклонения от нормального физического или психического развития. Лежащие в основе этих отклонений аномалии или дефекты могут быть врожденными и приобретенными.
Апраксин — расстройства функции праксиса или предметных двигательных навыков. Может быть кинестетической и кинетической, в том числе артикуляторной кинестетической и артикуляторной кинетической.
Атаксия — расстройства координации движений.
Афферентный — проводящий нервное возбуждение с периферии к центру. Афферентация — совокупность раздражений, которую получает данное нервное образование (клетка, ядро, поле коры мозга и пр.). Деафферентация — лишение того или иного нервного образования афферентных раздражений.
Аутослуховое раздражение — обусловленное звуками, издаваемыми самим слушающим.
Вегетативный — отдел центральной нервной системы, обслуживающий преимущественно внутренние органы тела, а также тонус мышц; состоит из возбуждающих симпатических и тормозящих парасимпатических нервных клеток и их проводящих путей. Вегетативная нервная система имеет большое значение в осуществлении эмоционально-выразительных реакций.
Вербальный — словесный.
Вокализации — см. «вокальный».
Вокальный — голосовой. Вокализм — система гласных звуков. Вокализации — простейшие эмоционально-выразительные знаки, представленные национально-специфическими гласными звуками.
Высшие психические функции (имеющие большое клиническое значение) — это гнозис или способность предметного восприятия; праксис или предметные двигательные навыки, устная и письменная речь, а также вербально-логическое мышление.
Гиперфонация — спектральная картина голосообразования с резким повышением частоты основного тона, выделяемая в структуре младенческих криков.
Деафферентация — см. «афферентный».
Диссонанс — созвучие, состоящее из неродственных элементов, звучащих жестко и незаконченно.
Дистантные органы чувств — глаз и ухо, воспринимающие энергию от отдаленных источников.
Дисфонация — спектрографическая картина зашумленного участка голосообразования, выделяемая в структуре младенческого крика.
Дыхательный цикл — совокупность вдоха и выдоха.
Звуки речи — тоны и шумы. Тоны возбуждаются периодическими колебаниями, их источниками являются голосовые связки. Шумы возникают в результате непериодических колебаний, образуемых преградами на пути выдыхаемого воздуха в надставной трубе. Тон, получающийся от колебаний целостных голосовых связок, является основным, он самый низкий. Тоны, вызванные колебаниями частей голосовых связок,— обертоны — более высоки. Частота основного тона и частоты обертонов находятся в строгих числовых отношениях. Состав сложного звука, входящие в него частоты и их относительная интенсивность образуют его спектр.
Знак — материальный чувственно воспринимаемый предмет, событие или действие, выступающее в познании в качестве указания, обозначения или представителя другого предмета, события, действия, субъективного образования. По Л.С.Выготскому, поведение человека, обладающего высшими психическими функциями, пронизано знаками. «Все высшие психические функции объединяет тот общий признак, что они являются опосредованными процессами, т. е. что они включают в свою структуру как центральную и основную часть всего процесса в целом употребление знака как основного средства направления и овладения психическими процессами».
Знаки транскрипционные — см. «транскрипция».
Импринтинг — запечатление. Форма поведения на ранних этапах онтогенеза, при которой устанавливается связь детеныша с объектами внешней среды , по типу одноразового обучения.
Индикации — первичная функция слова, когда оно указывает на определенный признак отражаемого объекта. Индикация объекта с помощью слова есть одновременно его называние (номинация). Поэтому индикативная функция слова одновременно является и функцией номинативной.
Интероцепция — отражение параметров внутренней среды организма посредством различных интероцепторов (хеморецепторов, осморецепторов, барорецепторов и т. д.).
Интонография — автоматическое выделение и регистрация частоты основного тона и интенсивности речевой интонации.
Консонантный — шумовой. Консонантизм — система согласных звуков.
Лексика — словарный состав языка.
Мажор и минор — ладовые средства музыки; мажор придает ей светлый колорит, а минор — теневой колорит. В тексте пособия эти термины употребляются в переносном значении для обозначения тембра голоса, выражающего эмоциональные состояния умеренной субъективной ценности. Мажорный тембр соответствует тем из них, когда возбуждение симпатической нервной системы нарастает, минорный тембр — когда оно спадает.
Нормы поведения — принятые в данном обществе стандарты, регламентирующие поведение людей. Нормативны — фонетические, лексические и грамматические категории языка, под влиянием которых ребенок нормирует свои врожденные биологические голосовые реакции.
Онтогенез — развитие индивида.
Основной тон — см. «звуки речи».
Осциллография — запись звуковых колебаний, воспроизводимых во время речи на обычную бумагу при посредстве шлейфного (электромеханического) осциллографа или на светочувствительную бумагу при посредстве катодного (электронного) осциллографа.
Паллидарное ядро (от лат. pallidum) — одно из важнейших эфферентных подкорковых ядер мозга. В частности, оно реализует врожденные синергии младенческих криков и гуления.
Паралингвистический — характеризующий речевое высказывание с его эмоционально-выразительной стороны.
Парасимпатический — см. «вегетативный».
Педология — одно из направлений буржуазной педагогики, основанное на реакционной идее о фаталистической обусловленности судьбы детей биологическими факторами, влиянием наследственности и неизменной среды. Педология имела некоторое распространение в СССР в годы активной работы Л.С.Выготского. Выковывая в борьбе с педологическими идеями основы советской дефектологии, он иногда употреблял термин «педология» как синоним специальной педагогики вообще. В этом смысле его и надо понимать в тексте некоторых приводимых цитат.
Парез — легкая степень паралича.
Патогенез — механизм симптомообразования. Патогенетические представления помогают понять связь клинических синдромов с этиологическим, причинным фактором патологического состояния, в том числе аномального развития ребенка.
Предикат высказывания — то, что говорится о его предмете (субъекте); грамматическое сказуемое; чаще всего, но далеко не обязательно выражается глаголом.
Просодия — громкостные, звуковысотные, тембровые, длительностные свойства речи.
Псевдосинтагма—знаковая единица эмоциональной выразительности, выражающая субъективное отношение говорящего к взаимосвязям между компонентами коммуникативно-познавательных ситуаций. На основе псевдосинтагм раннего возраста формируются синтагмы зрелой речи, с которыми псевдосинтагмы и сливаются в звуковом потоке речи взрослого.
Псевдослово—знаковая единица эмоциональной выразительности, выражающая субъективное отношение говорящего к коммуникативно-познавательной ситуации и ее отдельным компонентам. На основе псевдослов раннего возраста формируются слова зрелой речи, с которыми псевдослова и сливаются в звуковом потоке речи взрослого.
Сегмент восходящей звучности — знаковая единица эмоциональной выразительности, выражающая субъективное отношение говорящего к слушающему; состоит из начального шумового или консонантного максимума и конечного голосового или вокального максимума (CV); служит основой формирования слоговых единиц зрелой речи (слогов СГ), с которыми сегменты восходящей звучности и сливаются в звуковом потоке речи взрослого.
Сегмент высказывания — тот или иной отрезок потока устной речи или письменного текста.
Семантика — содержательная сторона знаковых единиц.
Сензитивный период — возрастной период, когда ребенок особенно чувствителен к развитию определенных психических свойств и процессов.
Сигнификация — замещающая ряд наглядных впечатлений и означающая их. Приобретая сигнификативную функцию, слово становится средством образования понятий.
Симпатический — см. «вегетативный».
Синергия — скоординированная мышечная работа.
Синкретичный — слитный, неразделимый.
Синтагма — минимальный отрезок речевой цепи, объединяющий в своем составе несколько слов и обладающий синтаксической целостностью.
Спектр звука — см. «звуки речи».
Спектрография — анализаторы спектров звуков речи.
Стратифицированный — имеющий иерархическую организацию.
Стриарное ядро (от лат. striatum) — одно из важнейших эфферентных подкорковых ядер мозга. В частности, оно реализует врожденные синергии лепета.
Субъект высказывания — то, о чем в нем говорится. Грамматическое подлежащее; чаще всего, но совсем не обязательно выражается существительным. Нередко, особенно в детской речи, не имеет вербального выражения и существует . в форме ощущений, предметных образов и представлений.
Тембр — качество звуков голоса, зависящее от соотношения по высоте и силе основного тона с добавочными.
Тон — см. «звуки речи».
Транскрипция — специальный способ записи звуковой стороны устной речи. Можно применять фонематическую транскрипцию, в которой все аллофоны одной фонемы обозначаются одним знаком, и фонетическую транскрипцию, в которой каждый аллофон обозначается особым знаком. В логопедии целесообразно использование обеих транскрипций в зависимости от типологии речевой аномалии и от цели, с которой делается запись. Можно использовать для транскрибирования буквы русского и латинского алфавитов (основные знаки) и ряд специальных дополнительных знаков, помогающих передать особенности звучания слов. (Последние — см. табл. 3 гл. 3.)
Фонация — спектрографическая картина голосообразования.
Фонема — кратчайшая единица'языка, способная различать значения слов и морфем. Будучи языковой абстракцией, фонема реализуется в потоке речи в виде различных аллофонов, при этом одна фонема может реализовываться несколькими аллофонами, а один и тот же аллофон может репрезентировать разные фонемы. Нет полностью одно-однозначных отношений также между фонемами и буквами письменных текстов. Звуки устных и буквы письменных текстов находят обобщенное амодальностное (т. е. независимое от чувственной природы — слуховой или зрительной — их исходных единиц) выражение в фонематической структуре "слов и морфем; это обстоятельство имеет важнейшее значение для диагностики.
Фонетика — раздел языкознания, изучающий способы образования и акустические свойства звуков человеческой речи.
Фонология — раздел языкознания, изучающий звуки речи как средство различения слов и морфем, иными словами, теория фонем.
Форманта — усиленные частоты в акустической картине каждого гласного и согласного, формирующие специфику их звучания.
Хорей — двусложный стихотворный размер с ударением на первом слоге (— v): «Буря мглою нёбо кроет...» (—v—v—v—v).
Ценность субъективная — человек бессознательно дает всем познаваемым объектам и явлениям действительности эмоциональные оценки низкой, умеренной и высокой интенсивности. Оценки умеренной интенсивности дифференцируются, кроме того, на положительные и отрицательные. Социальные субъективные ценности отражают систему общественных ценностей: эстетических, нравственных, профессиональных и пр. Эмоциональное или ценностное отражение действительности неотделимо от познавательных процессов, оно составляет содержание воспитания ребенка.,
Частота основного тона — см. «звуки речи».
Шум речевой — см. «звуки речи».
Ямб — двусложный стихотворный размер с ударением на втором слоге (v—): «Пора, пора, рога трубят...» (v—v—v—v—).
Экстероцепция — отражение параметров внешней среды организма посредством экстероцепторов органов чувств: глаза, улитки и вестибулярного аппарата уха, кожной поверхности тела, слизистой оболочки носа и полости рта.
Экстралингвистический — характеризующий речевое высказывание с его внеязы-ковой стороны (физической, социально-ролевой, психологической, ситуационной и пр.).
Эмпирический — опытный.
Эфферентный — проводящий нервное возбуждение от центра к периферии, прежде всего мышечной.
ЛИТЕРАТУРА1. Ленин В. И. Карл Маркс // Поли. собр. соч.— Т. 9.
2. Ленин В. И. Философские тетради // Поли. собр. соч.— Т. 29.
3. Бондарко Л. В. Звуковой строй современного русского языка.— М., 1977.
4. ВинарскаяЕ. Н. Некоторые системные механизмы артикуляторного прогнозирования в процессе русской речи // Вероятностное прогнозирование в деятельности человека.— М., 1977.
5. Винарекая Е. Н., ПулатовА. М. Дизартрия и ее топико-диагностическое значение в клинике очаговых поражений мозга.— Ташкент, 1973.
6. Ранний детский аутизм / Под ред. Т. А. Власовой, В. В. Лебединского.— М., 1981.
7. Выготский Л. С. Мышление и речь // Собр. соч.— М.,1982.—Т. 2.
8. Выготский Л. С. Проблема возрастной периодизации детского развития // Вопросы психологии.— 1972.— № 2.—
9. Выготский Л. С. Собр. соч.—М., 1983.— Т. 5.
10. Гвоздев А. П. Вопросы изучения детской речи.— М., 1961.
11. Журба Л. М., Мастюкова Е. М. Нарушение психомоторного развития детей первого года жизни.— М., 1981.
12. Запорожец А. В. Значение ранних периодов детства для формирования детской личности // Принцип развития в психологии.— М., 1978.— С. 243—267.
13. Исенина Е. И. Психолингвистические закономерности речевого онтогенеза (Дословесный период).— Иваново, 1983.
14. Каган В. Е. Аутизм у детей.— Л., 1981..
15. Лейтес Н. С. К проблеме сензитивных периодов психического развития человека // Принцип развития в психологии.— М., 1978.—С. 196—211.
16. Лисина М. И. Генезис форм общения у детей // Принцип развития в психологии.— М., 1978.— С. 268—294.
17. 17. Лях Г. С, М а р у с е в а А. М. Аудиологические основы реабилитации детей с нейросенсорной тугоухостью.— Л., 1979.
18. Мещерякова С. Ю. К вопросу о природе комплекса оживления // Экспериментальные исследования по проблемам общей и педагогической психологии.— М., 1975.
19. Клинико-генетические исследования олигофрении / Под ред. А. С. Певзнер.— М., 1973.
20. Правдина О. В. Логопедия.— М., 1973.
21. Pay Ф. Ф. Устная речь глухих.—М., 1973.
22. Pay Ф. Ф., Слезина Н. Ф. Методика обучения произношению в школе глухих.— М., 1981.
23. Соботович Е. Ф. Формирование правильной речи у детей с моторной алалией.— Киев, 1981.
24. Сухарева Г. Е. Клинические лекции по психиатрии детского возраста. (Клиника олигофрении).— М., 1965.— Т. III.
25. Шиф Ж. П. Усвоение языка и развитие мышления у глухих детей.— М., 1968.
26. Эльконин Д. Б. К проблеме периодизации психического развития в детском возрасте // Вопросы психологии.— 1971.— № 4.— С. 6—20.














