

СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ
Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно
Скидки до 50 % на комплекты
только до
Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой
Организационный момент
Проверка знаний
Объяснение материала
Закрепление изученного
Итоги урока

Худяковы. Из книги"Дни Худяковых".
В данной работе приводится материал о Василии Ивановиче Худякове, уроженце села Перекопное, участнике Гражданской войны, Заслуженном учителе школы РСФСР.
Просмотр содержимого документа
«Худяковы. Из книги"Дни Худяковых".»
Худяковы.
Из книги «Дни Худяковых». Документально-художественное издание. Авторы –Лапина Н.В., Моргунов В.Я. Москва. Издательство «Культурная революция». 2012 год.
Худяков Михаил Степанович вместе с женой и четырьми сыновьям и двумя дочерями переехал в село Перекопное бывшей Самарской губернии, ныне Саратовской области, из села Ивантеевка Пугачёвского уезда в конце XIX века. Причина его переселения с такой большой семьёй не совсем понятна. Земли свободной было много и в Ивантеевке. Михаил Степанович, как некоренной житель, не имел своего земельного надела в селе Перекопное. Он арендовал землю. Не иметь своего надела и работать на арендованной земле было тяжело. Арендная плата была высокой, а урожаи низкие. Урожайность зерновых культур составляла от 40 до 60 пудов с десятины, по современным меркам- от 6 до 10 центнеров с гектара. Кроме того, здесь были часто засушливые годы, когда погибали не только зерновые культуры, но и «сгорала» трава на пастбищах. Скоту приходилось питаться полынью. Коровье молоко от такого корма было горькое. Пришлось Михаилу Степановичу с сыновьями заняться кустарным ремеслом- изготавливали из жести вёдра, тазы и прочие нужные в хозяйстве вещи. (Худяковых по-уличному называли Ведерниковыми- примечание, Ермаков И.А.). Впоследствии его сыновья освоили также и другие ремёсла- малярное, штукатурное, кровельное и стекольное. Сыновья работали на отделке вновь строящихся домов зажиточных сельчан. Они отделывали даже церкви- выполняли работы, начиная с куполов,- крыли и красили их, работая на большой высоте, и кончая отделкой стен, церковных люстр- накладывали бронзу. Работа была трудная, но вместе с тем, интересная и требующая большого мастерства.
Вначале братья трудились вместе, у них были даже ученики, которым они передавали свои умения, обучая ремеслу. Позднее дети Михаила Степановича стали работать, как тогда говорили, каждый за себя. Им помогали их дети. Это произошло после того, как братья разделились, завели свои семьи, построили свои дома. Сначала все жили на улице Карфы. Потом, после раздела, стало тесно- в семье было двенадцать человек. Построили дом в полтора этажа. Нижний этаж был полуподвальным, верхний этаж состоял из трёх небольших спален и небольшого зала. В нижнем этаже был устроен склад для всяческих вещей и продуктов. Здесь хранились также мучные изделия- пышки, куличи, приготовленные на Пасху. Внук Михаила Степановича Василий Иванович с братом Фёдором частенько заглядывали вниз, облизывались, глотали слюньки- ведь пышки и куличи так вкусно пахли. Пальчиками немного наскребали себе в ладонь посыпку с куличей, большего не позволяли себе, хотя съесть одну-две пышки было совершенно безопасно. Их мать не считала, напекала огромную корзину. В доме от детей ничего не прятали, и дети никогда не просили то, что запрещено. И не позволяли себе брать по двум причинам: пост, есть скоромное нельзя, и совесть не позволяла ослушаться запрета.
Раздел братьев произошёл после того, как каждый из них обзавёлся семьёй. Распределяли имущество поровну. Делили на четыре части всё, что можно. Даже караваи, калачи, пироги и другая выпечка разрезались на несколько частей, чтобы всем досталось поровну. При этом не было никаких споров, недовольства, недоразумений. Разделили, обнялись, попросили друг у друга прощения, поклонились все старшему брату Ивану Михайловичу, отцу Василия Ивановича, и разошлись по своим домам с доставшимся каждому имуществом.
У родителей Василия Ивановича была большая семья- 12 детей. Осталось в живых пятеро. Остальные в детстве умерли. Настя- самая старшая, 1890 года рождения, Иван- 1896 года рождения, Василий- 1903 года рождения, Павел- 1907 года рождения. В этом составе семья Ивана Михайловича жила до 1940-1950 годов. Василий Иванович знал своего двоюродного брата Ивана. Он был старшим в семье дяди Василия Ивановича, Петра Михайловича Худякова. Дочь Петра Михайловича, Елена, была инвалидом детства: у неё был искривлён позвоночник, одна нога не разгибалась в колене. Второй сын Петра Михайловича, Михаил, к сожалению, почему-то закончил жизнь самоубийством. Иван Петрович был членом партии большевиков с 1927 года, ответственный работник, избирался председателем райисполкома, персональный пенсионер республиканского значения.
Дмитрий Михайлович- второй родной дядя Василия Ивановича. Из всей семьи был самым грамотным, считался «интеллигентом». Он служил управляющим у перекопновского помещика Тимонина, у него был самый лучший дом. Его сын, Сергей Дмитриевич- кандидат физических наук, член КПСС, бессменный заведующий учебной части (проректор) Саратовского педагогического института более двух десятков лет. Сергей Дмитриевич умер о рака лёгких в возрасте пятидесяти с чем-то лет. Александр, 1904 года рождения, десятки лет заведовал кинокабинетом Саратовского педагогического института. Павел- кандидат наук, крупный специалист по орошению. Последние годы жизни провёл в Киеве. Иван- кандидат наук, работал в одном из киевских НИИ. Надежда- младшая и единственная дочь Дмитрия Михайловича жила в городе Саратове. Из всей семьи Дмитрия Михайловича самой заметной фигурой, интересным собеседником, очень добрым и всесторонне образованным человеком являлся Дмитрий Сергеевич. Альпинист, мастер спорта по спортивному ориентированию, инженер, журналист, многие десятки лет ведущий на Саратовском телевидении телепередачи «Не за тридевять земель». С ним Василий Иванович долгие годы поддерживал очень тесные взаимоотношения.
Василий Михайлович- самый меньший из всех братьев Худяковых. Прекрасный и добродушный человек. Любил племянников большой и доброй любовью. Работать с ним было счастьем. Василий Михайлович был большим шутником, всегда весёлый, доброжелательный, ласковый. Жизнь семьи Василия Михайловича сложилась драматично. Старший сын, Фёдор, был незаурядно сильным юношей, поражал своих товарищей необычными выходками, сильной волей. Так он мог удивить тем, что дольше всех держал палец над зажжённой свечой, терпел страшную боль. При этом даже вида не показывал, что ему больно. В 1919 году Фёдор, как сказали, покончил жизнь самоубийством, будучи учеником школы в посёлке Дергачи. Позднее выяснилось, что его убил его же товарищ, причём умышленно. Второй сын Василия Михайловича Иван, был отчаянно смелым парнем. В годы, когда в наших степных краях свирепствовали банды, Иван пошёл в одну из банд, но быстро понял свою ошибку. Крестьянскому парню претило заниматься грабежом. И он попытался уйти из банды, за что был убит подельниками. В голодный 1921 год Василий Михайлович и его жена, Анастасия, погибли от голода в посёлке Ершов, куда они переехали из села Перекопное. Три их дочери, Зоя, Анна и Тоня были помещены в детские дома. Зоя выжила, у неё была большая семья. Анна, жена адмирала, жила в Ленинграде. Антонина во время Великой Отечественной войны была на фронте, прославилась, а потом загадочно исчезла. Александр Худяков делал много запросов о ней, но ничего не выяснил. Сёстры- Екатерина и Матрёна Худяковы. Екатерина жила своей семьёй в Перекопное. Высокая, черноволосая, строгая, молчаливая и на вид суровая женщина. Жила небольшой семьёй на берегу малого Узеня. Дочь её вышла замуж за Осипа- хорошего, доброго мужика. Осип перешёл жить в дом Екатерины. Они жили дружно. Как потом сложилась судьба этой семьи- неизвестно. Матрёна была многословная и простоватая женщина. Страдали припадками. Пришло ей время выходить замуж, а никто её не берёт в жёны. Нашли жениха (это уж работа братьев), просватали Матрёну, быстро организовали свадьбу. Скорее всё надо было сделать, чтобы не случилось с ней припадка до венчания, а то свадьба расстроится. Всё происходило быстро и пока спокойно. Дело дошло до свадебного стола после венчания. Чувствуют братья, что скоро с невестой будет припадок, торопят события, бдительно оберегают сестру. И вот в самый разгар свадьбы с Матрёной случается припадок, её быстро уносят. Жениху говорят, что все события утомили невесту, обморочное состояние с ней. Сошло с рук. И жила Матрёна с Осипом до самой старости.
Мать Василия Ивановича, Мария Ивановна, в девичестве Севастьянова, родилась в селе Старая Лопуховка Вольского уезда Саратовской губернии. В семье было пять или есть человек. Когда умерла её мать при родах сына Филиппа, отец остался вдовцом. Жили в нищете- бедняки-крестьяне. Детей содержать отец не мог. Марию Ивановну взяли за Волгу в село Перекопное Петровы, по-уличному Калашниковы. У Петровых была своя хлебопекарня. Выпекали вкуснейшие кренделя, ароматные саратовские калачи из первоклассной заволжской твёрдой пшеницы «Белотурки». Мария Ивановна у них была на положении домашней работницы. Но Петровы, Иван Васильевич,- хозяин, жена его, которую все звали Филипповной, сыновья Григорий Иванович с женой и неженатый Михаил Иванович, были людьми добрыми, щедрыми, и к Марии Ивановне относились по-родственному. Выдали её замуж за Ивана Михайловича Худякова, и сохранили близкие, родственные связи с семьёй родителей Василия Ивановича до конца жизни. Иван Васильевич и его жена Филипповна были алкоголиками. За ними следили сыновья, не давали пропивать вещи из дома. Так они частенько таскали калачное тесто из квашни. Если не видят сыновья, унесут тесто, торопятся и оставляют его куски по дороге в шинок. Мария Ивановна часто отхаживала Филипповну у себя дома. Занавешивала окно в спальне и выдерживала Филипповну, давая ей по рюмочке водки. Отойдёт Филипповна дня через два-три и уходит домой, говоря: «Спасибо тебе, Маша!» Пройдёт некоторое время- и вновь запой, опять Мария Ивановна выдерживает её в своём доме. Родного брата Марии Ивановны, Филиппа, взял к себе крестьянин села Горячка Вольского уезда, Спиридон Морозов. Иван- старший в семье Севастьяновых- был искусным мастером хлебопечения, работал в пекарнях города Вольска, но спился, но умер во время запоя.
Старшая сестра Марии Ивановны, Паша, жила в Лопуховке, а младшая- в селе Ивановке бывшего Вольского уезда. Мария Ивановна была неграмотная и всё время мечтала встретиться с родными братом и сестрой, но проживая недалеко от них, адреса не знала. Так и умерла, никого не повидав. Она рассказывала своим детям про Лопуховку, что было для них пленительной сказкой. Её дети своё детство и подростковый возраст прожили в Перекопное, в заволжских степях, граничивших с Казахстаном, полупустыней, безводной, жаркой, с частыми засухами. А Мария Ивановна рассказывала о лесе, о грибах. В Перекопное ни леса, ни садов не было. Кругом- до горизонта- бескрайняя степь без единого кустика. Слушая рассказы матери о рощах, садах и ягодниках, дети воображали фантастические картины, не представляя реально ни леса, ни земляники, ни грибов.
Этюды детства и юности.
Работаю маляром. Отец, Иван Михайлович Худяков, был искусный мастер на все руки: маляр, кровельщик, штукатур, жестянщик. Он покрывал бронзовой позолотой церковные люстры, делал памятники из жести на могилах, даже обновлял иконы- подрисовывал, подкрашивал. Захотелось ему тачать обувь. И отец этому научился, и шил всем нам ботинки. Мы всегда, особенно я, упрашивали его сделать каблуки повыше. Торговались с ним за каждый новый лоскуток кожи, чтобы только каблуки набить. Я был невысоким, уступал сверстникам в росте, и высокий каблук был необходим. Отец ещё зимой заключал договоры с богатыми мужиками на отделку вновь строящихся домов. Крыли железом крышу, делали трубы печные, узорчатые и водосточные. Изготавливали жестяные украшения для ворот. Штукатурили, шпаклевали стены. Полы. Потом красили их, а также окна, двери. Делали короба на голландки (круглые печи). В общем, проводили полную отделку вновь построенного дома. Работы было много. За сезон мы отделывали два-три дома. Отец зарабатывал что-то около 300-400 рублей в год. Это были большие деньги для того времени. (Корова в это время стоила 25 рублей, в 2018 году- 40 тысяч. Примечание, Ермаков И.А.) Летом трудились много. По сути, с рассвета до темна. Рабочий день был не менее 12-14 часов.
Работали обычно в других сёлах. Жили на хозяйских харчах. И лошадь наша тоже кормилась за их счёт. Материал для отделки отец покупал сам в Саратове в большом количестве и разный- олифа, белила, сурик и другие краски, дранка под штукатурку. В общем, у отца был весь материал, и нанимались чаще всего со своим сырьём.
Питание было обычно хорошее. Хозяева не скупились, задабривали, так сказать, чтобы мы получше отделали дом. Были и казусы. Помню, отделывали дом на хуторе у помещика Жулидова. Это километров 10-12 от села. И вот на завтрак нам подали снятое молоко- синее, невкусный суп. Отец сердито вылез из-за стола. Обед также скудный, ужин тоже. Отец вскипел и объявил, что отказывается от хозяйских харчей и будет кормиться своими продуктами. Как уж там сделали перерасчёт в связи с этим- не знаю. Но я поехал домой и привёз из дому продукты питания. И мы работали, отказавшись от хозяйского стола. Отец был сердит на хозяина. Ещё один любопытный случай мне запомнился. Отец нанимался по договору, то есть брал подряд на отделку дома. А мы старались выполнить всё как можно скорее, чтобы взяться за новый подряд. Хозяин дома надоедал отцу: «Иван Михайлович, время-то идёт, лето подходит, скорее надо отделывать дом». Делали всё быстро, но тщательно, добротно, красиво. Отец не любил делать кое-как. Он был человеком не только добросовестным, но и мастером, гордящимся своей работой, художником-самоучкой. Не раз отец заставлял меня переделывать работу, а я всегда удивлялся: «И так ведь хорошо, красиво!»
И вот один жадный кулак, сдавая на обработку вновь построенный дом, решил выгадать. Вместо предложенного отцом договора на отделку всего дома, тот выставил условие- оплачивать нашу работу подённо. Прошёл день- плати отцу и мне договорную плату. Отец доказывал, что ему, хозяину, это невыгодно. Что лучше для него сдать всё подрядом. Нет, упёрся жадный кулак и не уступает. «Ладно, хорошо, будем работать подённо»,- сдался отец наконец. И начали работать подённо. Хозяин ревниво смотрит, чтобы мы рано вставали, днём не спали, работали дотемна. Отец говорит мне: «Вот, дурак, я его проучу. Ты, Васятка, стучи громче, а работа пусть не двигается.» Я стучу на крыше, создавая впечатление усердной работы, а отец дремлет в холодке на крыше. День идёт за днём, а работа движется странно медленно. Хозяин волнуется, обижается. Отец хитро усмехается и продолжает «волынить». Наконец хозяин не выдерживает и предлагает отцу взять подряд. «Ну, вот- это дело». Договорились, и работа закипела. Хозяин доволен, улыбается. И отец доволен: проучил жадного кулака.
Часто работали у немецких колонистов. Меня всегда поражал порядок в их домах и во дворах. Чистота везде, добротные конюшни, обязательная летняя кухня. Богато жили колонисты. За Волгу при Екатерине II из Германии приехали в Россию немцы. Им дали земли в наших степях. И вот в Заволжье образовалось поселение колонистов, ставшее после Октябрьской революции автономной республикой немцев Поволжья с центром в городе Энгельсе (бывшая Покровская Слобода). Эта республика входила в состав Нижневолжского края, а затем Саратовской области. Жизнь немцев Поволжья отличалась от жизни русского населения. Они сохранили свой уклад, традиции. Были очень аккуратны, культурно вели хозяйство. Колонии, как называли тогда их сёла, были добротные, дома богатые, хорошо отделанные, крепкие дворы, породистые лошади. И что меня всегда поражало, это огромные, злые собаки. Мы с отцом часто работали у богатых немцев на отделке домов. И мне всегда очень не нравился хозяйский стол- кофе в блюде подавали, пили его как суп, деревянными ложками. Был всегда самодельный сыр, который я терпеть не мог. Пахнул он сильно чем-то протухшим. Я всегда с нетерпением ждал субботы, чтобы дома поесть вкусные пироги, мамину картошку, приготовленную в жаровне. Ох, и вкусна же была эта картошка, плавающая в масле, сливках, поджаренная в печи, в глиняной посуде.
Кормить коня было моей обязанностью. Я любил его, старался кормить сытно, вкусно. То и дело бегал на конюшню подмесить гнедому, подчистить его, попоить. Работали мы у богатых мужиков. У них были большие конюшни с огромными колодами на много лошадей. А тут в огромном помещении у большой колоды- один наш гнедой. И вот что получилось. В своём старании получше накормит коня, я всё ему подмешивал и подмешивал новые порции мякины, посыпая её новой порцией муки. Приду в конюшню- гнедой стоит и не ест. Ну, надо подмесить ему новый корм. В колоде мякина, посыпанная мукой, киснет. Кладу ещё мякину, поливаю водой. Сыплю муки. Гнедой ест. Я рад, доволен. Через час-два прихожу- корм не убавляется, а от колоды несётся запах прокисшей мякины. Вот ведь незадача-то. Решил я чистить колоду. Выгребаю прокисшую мешанину. Выгреб. Надо колоду вымыть, всю протухшую воду вычерпать. Беру кружку с бочки с хорошей водой. Кстати, в Заволжье плохо с питьевой водой. Она бывает в одном-двух колодцах на селе. Из этих колодцев её привозят в бочках и употребляют при варке пищи, чая. А скотину поят из колодцев с солёной водой. Я мою колоду и кружкой черпаю из неё вонючую болтушку. Потом этой же кружкой лезу в бочку с хорошей водой. Всё вычистил в колоде, вымыл её и замесил свежий корм. Кружку поставил на бочку. Сели обедать. Подали воду к столу. Пьют, морщатся, удивляются, смотрят друг на друга и ничего не понимают. Приносят из бочки свежей воды. Но она тоже плохо пахнет. Понял, что это я испортил воду. Молчу. Отец, видя моё смущение, догадался, в чём дело. Но тоже молчит. Воду из бочки вылили, привезли свежей. Отец начал учить меня кормить лошадь.
- Ты давай ей немного. Пусть лошадь всё съест. Замеси ещё, но немного. Корм должен быть свежий. Тогда конь станет есть его охотнее.
Понимаю…начну месить и кажется, что мало. Добавляю ещё и ещё. Корм в колоде не поедается, к моему огорчению, и гнедой не жиреет, как мне хочется. Но вот однажды мы с отцом отделывали церковь. Конюшни не было, жили в сторожке, а гнедой стоял под навесом. Отец сделал колоду из жести для корму коню. И вот я замешу и уйду. Приду снова- гнедой всё съест. Колода всегда чистая. Отец сделал её маленькой, возможно, сознательно, чтобы я был поставлен перед необходимостью месть корм маленькими порциями. И вот мой гнедой стал прямо на глазах поправляться- лоснится, красивый такой! Повёл я его поить на речку, а он козелки выделывает. Отец смеётся, подшучивает надо мной. А гнедой к субботе словно вырос, похорошел. Так и вырывается из рук.
Суббота. Работаем только до обеда. Отец немного отдыхает, заканчивает работу. Мы всё убираем и собираемся ехать домой. Запрягаем гнедого. Мне хочется, чтобы конь высоко держал голову. Для этого я подтягиваю повод так, чтобы гнедой высоко держал голову. Отец видит это: «Зачем ты ему голову-то задрал?» И отпускает повод. Гнедой стоит, опустив голову. Я недоволен. Не могу так ехать. И вновь подтягиваю повод, но так, чтобы не бросалось это в глаза отцу. Не заметил, я доволен.
Садимся, мне доверено править лошадью. Отец сидит рядом по левую мою руку, дремлет. Солнце, тихо, жарко, едем по дороге между спелыми хлебами по обеим сторонам дороги. Я думаю о доме. А больше всего о матери. Как она там, здорова ли? Как я соскучился по ней. Мне ведь всего 8-10 лет. Загадываю, смотря на волнующиеся колосья спелой пшеницы. От ветра и тёплого потока воздуха нива колышется, колосья клонятся книзу, то не шелохнутся. И я загадываю, закрыв глаза: «Если колосья вниз клонятся, значит, мама умерла, если колосья не шелохнутся, то жива». Закрываю глаза, открываю- колосья стоят прямо. Я радуюсь, весело трогаю гнедого, начинаю что-нибудь петь, бойко свищу и думаю, думаю, как приеду домой, как мать нас встретит, она жива. А бывает так, что колосья клонятся книзу. Я встревожен. Сердце сжимается. Стараюсь ещё и ещё раз посмотреть на пшеницу и выхватить момент, когда она не волнуется и не клонится, колосья на какое-то мгновение замерли и не шелохнутся. «Жива, жива мама!» И вдруг по голове моей отец шлёпает ладонью: «Гляди, гляди, не видишь, что нора сусличья!» Я забылся, на дорогу не смотрю и наехал на нору. Телегу тряхнуло, отец проснулся и шлёпнул меня по макушке.
Вот, наконец, и Перекопное. Милое, дорогое моё село. Смотрю я на него, и сердце прыгает от радости, нетерпение всё больше разбирает. Я усердно погоняю гнедого. Вот знакомые дома, улицы, гумна. Вот, вот скоро и наш дом. Приехали. Как я рад, что дома! Что вышла встречать нас мама! Что всё хорошо на свете! Что завтра воскресенье, я не работаю и встречусь с друзьями! Сегодня вечером пойду на Большую улицу. Увижу своего друга Шуру Катетова, наговоримся с ним досыта.
Работая с отцом, я стал сам хорошим маляром и помощником родителю. Трудился с удовольствием, весело и легко. Жаркое степное лето. Воздух пышет огнём. Тихо, все прячутся в тень. Мы с отцом отделываем дом одного богатого мужика. Кроем железом крышу. Я смело спускаюсь на её край. Уверенно бегаю по крыше. Ловкий. Шустрый. Быстрый в работе. В ходьбе. В языке! Крыша готова, красим её в ярко зелёный или красный цвет. Обожаю тонкие малярные работы, люблю красить. Во время работы часто пою. Меня любят слушать. Отец сам не поёт, но меня с удовольствием слушает. Пою не совсем правильно, что служит всегда темой для вышучивания меня детьми сейчас. Но я пою с душой, со слезой в голосе, увлекаюсь, забываюсь, отдаюсь весь во власть песни. Пою репертуар и мещанского городского фольклора- «Маруся отравилась», «На паперти божьего храма», и народные, западавшие в душу глубоко и сильно- «Степан Разин». И сейчас я пою для себя эту героическую песню, из которой запомнил только слова «Кнут дорогу проложил…Ведут Разина на казнь…» многие песни волнуют, вызывают сладкую боль и грусть- «Не осенний мелкий дождичек…», «Во субботу день ненастный…», «Радость и печаль», «Дни нашей жизни».
Пою и перед моим мысленным взором возникают образы несчастных в жизни, в любви- «На паперти божьего храма, оборванный нищий стоял… Там пышная свадьба гуляет…» Этот молодой человек любил, но его девушка вышла замуж за богатого. Идёт свадьба, а отвергнутый молодой человек опустился, стал нищим и стоит на паперти божьего храма. И я воображаю эту картину, волнуюсь, переживаю человеческую драму и всё это передаю в песне.
Не любил я работать в родном селе. Стеснялся надевать фартук, сшитый матерью из белой бязи. Я просил скроить его глухим, с воротником. Обычно подтыкал фартук, и спереди получалась рубашка. Тяжело было вставать рано утром. Вечер-то прошляюсь на улице и только разосплюсь, отец уже будит. Ох, как не хотелось вставать! Ох, как хотелось ещё спать! Придёшь на работу, начинаешь красить или шпаклевать, или ещё что-то делать, а глаза сами по себе закрываются. Кисть выпадает из рук, и я засыпаю чутко. Вот отец идёт. Я мгновенно просыпаюсь, иду и умываюсь холодной водой. До сих пор ощущаю эту непреодолимую потребность поспать. И я, помня, как дорог сон был в молодости, всегда жалел будить своих детей и говорил матери: «Буди сама, не могу я их будить, жалко!»
Не любил олифить железо с внутренней стороны, чтобы не ржавело изнутри. Железа много. Стоит ведро с олифой. В руках у тебя пакля. Солнце нещадно печёт. От олифы идёт тяжёлый запах. Начинает болеть голова. Но надо олифить, и ты один лист за другим покрываешь маслянистой жидкостью. Меня окружают деревенские мальчишки, с интересом смотрят, как я олифлю, завидуют мне и просят:
- Дай покрасить.
- Ну, вот, ещё испортите,- солидно так отвечаю.
- Нет, не испортим, дай.
Неохотно соглашаюсь, а сам радёшенек: пусть покрасят, а я отдохну. Внутренне смеюсь и вспоминаю Тома Сойера, который тоже был в таком же, как и я положении. А вернее, я в положении Тома Сойера оказался. Раздаю мальчишкам паклю, и они начинают красить, стараясь делать это как можно лучше. А я с равнодушным видом смотрю на них и даже иногда покрикиваю, что плохо делают. Ребята стараются, но скоро им надоедает однообразная работа. Они отдают мне паклю и уходят купаться. Но и это хорошо: всё-таки листьев 20-30 проолифили.
Утро, я на крыше. Наработался уже. Скоро завтрак. Вижу, как из дома врача больницы выходят молодые ребята в белых рубашках с полотенцами через плечо. Идут купаться перед завтраком. Как я им завидовал! Какая, казалось, была огромная разница между мною, рабочим пареньком, и ими, имеющими возможность спать, сколько надо, идти купаться с полотенцем через плечо. Это полотенце мне казалось особенно большой роскошью. Вот они после завтрака пойдут в больничный сад и будут там читать, сколько там хотят. И я давал себе клятву, что буду учиться. Окончу школу, поеду в город, стану дальше учиться. И буду делать всё, как они. Только я знал, что это было не просто для меня. Но почему не помечтать? И я мечтал о другой жизни: свободной, интересной , более лёгкой, чем мой труд рабочего. Решил: буду интеллигентом!
Мы с отцом в субботу вернулись домой с работы в другом селе. Родитель сказал, что он утром поедет под Васильевку накосить травы гнедому на день. Мне очень хотелось на зорьке поехать в степь за травой.
- Папаша, возьми меня с собой косить траву,- прошу отца.
- Возьму,- соглашается он.- Разбужу, ложись пораньше спать.
Ранним утром, когда солнце уже поднялось над горизонтом, меня разбудили. Быстро вскочил, оделся. Наскоро умылся- и во двор. Отец уже запряг гнедого в телегу, ждёт меня. Поехали. До сих пор, а уже прошло более 70 лет, я помню и ощущаю утреннюю свежесть, благостную тишину раннего утра, когда даже дымка из печных труб не вьётся. Выехали за околицу села. Укатанная дорога. Степь да степь кругом. Овражки, балки, пахнет полынью, а солнце всё выше поднимается. Лошадью правит отец. Я весь отдаюсь созерцанию всегда красивой, всегда волнующей меня степи. Вдыхаю её аромат, на душе радостно, спокойно. Я живу и наслаждаюсь жизнью, всем своим существом. Вот небольшая балка, по склонам её растёт вострец- зелёный, густой, сочный. Отец косит траву. Я сгребаю её и таскаю в телегу. Отец накосил полную с краями телегу этой, такой сочной и пахучей травы. Поехали домой. Правит лошадью опять отец. Едем быстрой рысью. Гнедой спешит домой, всё бежит и бежит. Я жалею лошадей, гнедого особенно, прошу отца попридержать его, пусть отдохнёт. Отец не слушает и торопит коня. Быстро приехали домой. Задали гнедому корм и сами сели завтракать. Вот эта поездка за травой мне очень запала в душу, я её помню во всех мелочах.
Мы собираем паслёну.
В наших краях, на огородах, плантациях, позади дворов росла паслёна. Называли её поздникой, а больше- бзникой. Чёрные или матово-янтарные крупные ягоды обильно покрывали кусты паслёны. Её много росло на бахчах, на овощных плантациях. Ягоды вкусные, сладкие, сочные. Пекли с ней пироги. Очень вкусные! Пирог с поздникой всегда был самым любимым, его никогда не надоедало есть. Любовь к позднике сохранил на всю жизнь. Мне до сих пор кажется, что самая вкусная ягода- это «бзника»- паслёна- поздника. И вот на всю жизнь запомнилось, как мы- Ваня, Миша- брат старше меня на пять лет, умерший в 1909 году, и я- собираем позднику на плантации богатого мужика исполу, то есть половину ягоды отдавали хозяину. Был жаркий солнечный день, тишина. Мы собираем ягоду. Я ем и никак не могу насытиться. Но и в посуду собираю. Нарвали три ведра: полтора отдали хозяину, а полтора принесли домой. Меня за ручку вёл Миша.
Вот и всё! Кажется, ничего особенного. А вот запал в память тот день: жаркое солнце, заросли паслёны, вкус ягоды. И я ем и ем позднику, а её много, конца не вижу плантации. Мне было, наверное, в то время года четыре. До сих пор ощущаю радостное восприятие солнца, чистого воздуха, вкус паслёны, любви к жизни. Ощущение этой любви к жизни я не мог сформулировать тогда. Просто ощущал радость своего существования.
Я прощаюсь с «конями» своими.
В первый класс я пошёл раньше своих сверстников. Мне исполнилось к первому сентября семь лет и восемь месяцев. Школа начальная была рядом с нашим домом. Я всегда с любопытством наблюдал за учениками на переменах и утром, когда они шли на занятия. Всегда смотрел, как первоклассники встречали учительницу Марию Васильевну за несколько домов от школы. Всё это было мне интересно. И я завидовал ученикам: «Вот счастливчики! Учатся, в школу ходят, сумки у них есть!» Меня не хотели в этот год записывать в первый класс.
- Мал ещё,- рассуждали родители,- пусть ещё годок побегает, успеет учиться-то.
Но я твёрдо решил пойти в школу. И, никому не говоря, утром за несколько дней до начала занятий пришёл в школу к Марии Васильевне:
- Я учиться хочу!
- А сколько тебе лет?- ласково спросила учительница.
- Скоро будет восемь. Я стану стараться, запишите меня.
Видимо, это понравилось Марии Васильевне. Её заинтересовало моё горячее желание учиться. Я был симпатичным мальчиком, обращал внимание многих на себя.
Итак, я стал первоклассником. Сумка, пенал, грифельная доска давно уже припасены. Прибежал домой и сообщил матери, что меня Мария Васильевна записала в школу, завтра пойду учиться. Радости не было границ. Я почувствовал себя взрослым, большим уже: шутка ли- ученик! Надо прощаться с детством. Первая мысль о моих верных, бойких «конях»- двух палках. Нельзя уже больше на них скакать по улице с мальчишками. Нельзя устраивать обгонки с другими, хлестать кнутом провинившихся лошадей, сбившихся с бега. Ученику не положено теперь ездить на палках. Как мне было жалко лошадок, как тяжело с ними расставаться. Но надо: я ученик! И мне пришлось поставить их навечно в «конюшню» на заднике двора. Дал я им корму, постоял около них, грустно вздохнул и, опечаленный, пошёл в школу.
Кончился первый день учения. Я полный впечатлений возвращаюсь домой. И первое, что сделал, пошёл посмотреть на своих «коней». Стоят бедные- лежат обе палки у стеночки. С какой бы я сейчас радостью поездил на них, помчался бы на речку, искупал бы их. Но я ученик: нельзя. И я иду в дом. Меня ждёт мама, надо ей всё рассказать. Вот так я расстался с детским увлечением- своими бойкими «конями».
Мой друг Шура Катетов.
Не помню уже, при каких обстоятельствах мы познакомились с Шурой. Но познакомившись, остались верными, неразлучным друзьями до 1920 года- года его гибели на фронте. Шура Катетов был сыном учительницы Марии Ефимовны, рано овдовевшей и оставшейся с сыном Александром. Из села Орлов Гай она приехала в Перекопное и здесь учительствовала в начальных классах. Вышла замуж за фельдшера Уполовникова, приняла его фамилию. А Шура остался со своей- Катетов. Подружились мы с ним сразу, просто. Дружба наша была трогательно нежной и постоянной. Мы прожить друг без друга не могли и дня. Учились в одном классе, сидели за одной партой, читали одни книги. Но я впоследствии читал больше Шуры. Часто ночевал у него. Жили они в каменном домике при больнице, на втором этаже. Квартира состояла из широкого коридора, зала и спальни. Кухня была внизу, отдельно. Всё в их квартире меня поражало и наполняло чувством удивления и уважения. Это и понятно. Мы жили простой крестьянской жизнью, а здесь и стол покрывался белой скатертью, и ели каждый из своей тарелки. А у нас стол был простой, ничем не покрытый, ели все из одного большого блюда. Отчим Шуры курил папиросы. А в то время было модным не докуривать каждую из них почти на четверть. Меня это всегда удивляло и поражало. Такая манера казалась верхом аристократизма и житейской роскоши. И квартира была светлой, богатой. Не то, что наш дом с маленькими окнами, низкими потолками. Много разных украшений на комоде, на столе в спальне. Всё внушало уважение к этому дому. Но я не чувствовал себя стеснённым. Мария Ефимовна видела нашу дружбу и была рада, что у её сына такой хороший товарищ.
Дружба наша крепла. Росли мы, росла и наша привязанность. Умнели мы, и развивалась нравственно наша дружба. Она становилась всё содержательнее и духовно богаче. Настала пора любви. О своих увлечениях мы открывались, говорили о девушках, ничего не скрывая друг от друга. Мой товарищ любил Нину Бубнову- ученицу женской гимназии. Их любовь была постоянной, крепкой и верной до конца жизни Шуры. Я всё знал об их отношениях. От меня друг ничего не скрывал, как и я от него.
Наши отношения с девушками были целомудренно чистыми. Мы не позволяли себе даже задержать руку любимой в своей руке, когда прощались вечером. А какое счастье, какое волнение испытывал каждый, когда помогал своей девушке надевать коньки на катке, а потом провожал её домой. А парное катание доставляло неизъяснимую радость и прелесть чистых, целомудренных отношений, в которых не было и намёка на вульгарность. Любимая девушка являлась для нас идеальной, возвышенной и красивой во всём- в костюме, в причёске, в походке, в улыбке. Всё волновало душу, наполняло твоё существо тихой радостью любви: красивой, чистой, идеально возвышенной. Мы с Шурой говорили всё о наших девочках. О том, как мы их любили. О том, какие они хорошие, наши девочки.
Шура выглядел взрослее меня, был более смелым в своих проделках на улице. Привязанность наша друг к другу была взаимной. Дружба прошла все испытания в течение нескольких лет.
Мы, ученики высшего начального училища и интеллигенция села- учителя, приезжавшие на каникулы студены- гуляли по Большой улице села по вечерам. Это было принято, никого не стесняло. Ученики почтительно здоровались с педагогами и на правах равноправных продолжали гулять со всеми. Гуляли ребята одни и в компании с девочками, и парами. Было правило: не подсмеиваться и не иронизировать ни по поводу пар учителей и других взрослых, ни по поводу учеников. Гуляли по одному маршруту- от церкви до дома Серебряковых и обратно. Сидели на лавочках у домов и на крылечке школы, которая находилась в центре Большой улицы. Одно время по вечерам играл струнный оркестр под управлением Сергея Лапшина- мандолины, балалайки, гитары. Играли хорошо и создавали в целом атмосферу уюта, положительных эмоций, чистой радости и душевного трепета от тихого тёплого вечера, от запаха степного разнотравья, доносившегося с полей на улицы села, от того, что ты любишь, и тебя любят, от полноты жизни. По улице неслись звуки вальсов, танцев, песен. Сладкой грустью отдавались в душе «На сопках Маньчжурии», «Тоска по Родине», «Осенний сон», Оборванные струны». Я особенно любил музыку, завидовал тем, кто играл на музыкальных инструментах, мог бесконечно слушать гармонику. У меня на всю жизнь осталось это волнение от гармоники-тальянки.
Позднее я не раз слушал на концертах игру виртуозов на баяне, но ничто не вызывало во мне столько чувств, волнующих до спазмов в горле, как гармоника в лунную ночь на селе, на завалинке.
Парни и девушки из крестьян гуляли в других местах села Перекопное. Иногда группа сельских ребят доходила из озорства на Большую улицу: «А что нам сделают!» Мы их позорно выгоняли, налетали на них, лезли с кулаками, нас всегда было больше. И ребята с других улиц в драку не вступали и уходили восвояси. Ну, я тоже был активным в этой перепалке. За моей спиной- Сергей Лапшин, юноша здоровенного роста, Ваня Яковлев, тоже крепкий парень, и другие смелые ребята. Стычки с сельскими парнями у нас были, и попадаться в одиночку им было небезопасно.
И вот однажды в марте на селе проходила на базаре ярмарка. Было уже тепло, дороги размесили лошадьми и санями, и они превратились в месиво растаявшего снега с навозом. Особенно было грязно в конных рядах. Мы с Шурой Катетовым собрались поглазеть после школы на ярмарку. Пришли на базар в конные ряды и…нам навстречу два сельских парня, которых мы с другом в компании своих мальчиков задирали и прогоняли с Большой улицы. Оба юноши были здоровые, один больше другого.
- Ну, что ж, давайте теперь один на один подерёмся.
Отступать было некуда, бежать совесть не позволяла, одолеть их я, по крайней мере, не надеялся, но драться надо! И вот Шура сцепился с большим парнем, а я с тем, кто поменьше. Вот уж мы повозились! Больше дрались, валялись по месиву из снега и навоза. Надравшись, мы остановились- удовлетворённые и непобеждённые, хотя и здорово побитые и испачканные с головы до ног. Появляться в таком виде мне было нельзя: от отца крепко влетит. Мы пошли к Шуре, зная, что его мать, Мария Ефимовна, ругаться не станет и поможет нам привести себя в порядок. Так и поступили. К вечеру я явился домой, приведя себя в порядок. Отец и мать ничего не заметили. Ну, а синяки на лице- явление обычное и удивления ни у кого не вызывало: какой же мальчишка, если никогда не дрался. Нас обычно и не спрашивали даже, с кем это мы подрались. Вообще-то я ссор избегал. В драку вступал только по необходимости.
В 1918 году мы все разъехались. Шура Катетов вместе с Иваном Яковлевым, нашим товарищем, сыном смотрителя больницы, поступил в Саратовский индустриальный техникум. Я уехал в Дергачи учиться, а Шура- в Саратов. Мы разлучились. И жизнь наша пошла разными путями. Мы стали формироваться умственно и духовно в разных ситуациях и обстоятельствах. Не переписывались, потому что жизнь пошла круто на подъём, завертела и разбросала в разные стороны.
Шура учился в Саратове. Потом в родном селе стал первым комсомольцем в числе немногих других товарищей. Меня в это время уже не было в Перекопное. С июля 1919 года по 1922 год я воевал в рядах Красной Армии на Уральском фронте, в заволжских степях, на Дальнем Востоке. И после ликвидации белогвардейщины и изгнания японцев из Владивостока мы «…и на Тихом океане свой закончили поход».
Как формировалось идейно-политическое мировоззрение Шуры, кто был его «духовным» отцом на политической стезе, как он пришёл в комсомол, мне неясно. Я так и не сумел всё точно выяснить. Остаётся одно- Шура стал активным комсомольцем. В числе первых добровольцев ушёл на фронт против Врангеля в 1920 году, попал в плен во время разведки, ему грозила смерть. Ночью он взломал крышу сарая, где сидел, бежал в нижнем белье, босой. А была зима. Прибежал в одно село, постучал в избу, его пригрели и спасли. Второй раз Шура попал в плен опять как разведчик и был повешен. Так, по крайней мере, говорили в нашем селе. Подробности его смерти никто не знает. Вышла книга о первых комсомольцах Саратовской области. В ней коротко сообщается, что Шура Катетов так погиб. В областном краеведческом музее имеется его фотография вместе с дочерью кухарки Леной и братом Володей. Я имею копию этого снимка. В 1950 годах встречался с Леной, которая жила в семье Марии Ефимовны и росла вместе с Шурой. Я её, конечно, хорошо знал. Провели мы с ней вечер, она тоже вступила в комсомол в 30-з годах, а потом- в партию. Жила в Москве, работала в одном из районных отделов народного образования столицы. Лене тоже мало что известно о том, как пришёл Шура в комсомол, о его работе в РКСМ. Она плохо знала, что Иван Галицкий, брат фельдшера больницы, был членом Коммунистической партии, сколотил группу комсомольцев. Под его влиянием Шура Катетов стал комсомольцем. Ничего мне неизвестно о его настроениях того времени. Знаю только, что на фронте он был смелым бойцом и вот погиб так рано.
Всю жизнь я мучаюсь сожалением, что не смог, не сумел связаться с Шурой в те годы был оторван от него. Что мы не знали ничего друг о друге. Жили своими заботами. У каждого были свои пути, не имелось общения между нами, хотя оба мы являлись единомышленниками. Всю жизнь я думаю о нём. Кажется, что не было ни одного дня, чтобы я не вспоминал Шуру по тому или иному поводу. Как бы сложилась его жизнь? В период культа личности я думал о Шуре, что он бы погиб в эти страшные годы.
Как бы сложились наши отношения в дальнейшем? Убеждён, что моя идейная зрелость нашла бы отклик в Шуре, поскольку он был раньше меня в комсомоле и, наверное, состоял в партии. Мы, советские люди, в 30-е годы прошлого века перенесли тяжёлые испытания. Далеко не каждый сумел сохранить и свою жизнь, и свою верность партии, и свои убеждения в те трагические годы. Мне довелось всё пережить и перенести. И я не отступил в своей верности ленинской партии ни на мгновение. Ну, это будет отдельная партия для большого разговора, поскольку я был одной из жертв культа личности Сталина.
Так вот негаданно, тяжело и печально закончилась наша дружба с Шурой Катетовым, начатая в детстве, продолженная в юности и прерванная в расцвете лет. Мой земляк погиб героем-комсомольцем в первые годы революции. До конца жизни я буду помнить друга детства и юности.
Школа.
Учиться я пошёл в семь с половиной лет. А зачисляли в первый класс тогда только с восьми лет. Мария Васильевна приняла меня в виде исключения Она была тронута таким настойчивым желанием сельского паренька учиться. Без ведома родителей попросил записать меня в первый класс. Школа была рядом с домом. Что она собой представляла? Коридор, большой и широкий, в середине здания учительская и два класса. Дверь в них открывалась из коридора. Сначала преподавала одна Мария Васильевна. Затем появилась и другая учительница. Её звали Марией Ефимовной. Как потом выяснилось, это была мать моего будущего закадычного друга Шуры Катетова. Учительница Мария Васильевна вела два класса. Ребята сидели в одном классе, но в разных рядах.
Учился я охотно. Только грамота давалась с трудом. Мария Васильевна приложила много усилий, чтобы помочь мне одолеть грамоту. Я плакал, переживал тяжело и горько своё неумение научиться читать. Брат Ваня тоже учил меня грамоте. Добивался, чтобы я правильно читал. Но терпения у него не хватало возиться со мной. И он после безуспешных попыток научить меня читать ругался, махал безнадёжно рукой. Вот книга для чтения. Мы сидим с Ваней за столом.
- Читай,- говорит брат.
Я читаю- «калитки».
- Да читай хорошенько, разве здесь написано «калитки»?
Я опять читаю: «калитки».
- Тьфу, бестолковый, читай же хорошенько. И повторяет сам по слогам: «ка-лит-ка».
Слово «калитка» звучит для меня неестественно, непривычно. С малых лет знаю, что все говорят «калитки». Поэтому «калитка» не укладывается у меня в голове. И язык привычно произносит «ка-лит-ка». Ваня нервничает, ругается, называет меня дураком. И, потеряв всякую надежду добиться правильного чтения слова «калитка», встаёт и уходит. Я обескуражен и никак не пойму, в чём дело, почему «калитки» вдруг стали «калиткой». Месяца три я мучился своим отставанием в учении от других ребят. Плакал, обращался к богу, чтобы он мне помог или одолеть грамоту, или избавиться от Марии Васильевны…
Но вот- скачок. Как-то сразу я всё постиг и начал делать успехи в чтении и письме. Быстро догнал весь класс и, к радости Марии Васильевны, стал одним из лучших учеников. Начальную школу окончил круглым отличником. Особенно хорошо писал изложения, сочинения по картинкам. Любил я эти рассказы. Глубоко они западали в душу, трогали меня, вызывали в сердце волнение за жизнь персонажей этих рисунков, наполняли радостью и восторгом за благополучный конец истории.
Вот передо мной картинки- дом, комната девочки с игрушками, большая кукла и сама она- такая красивая, милая. Вот вторая картинка- дом горит. Третья- мать в отчаянии: дочь осталась в горящем здании. Четвёртая картинка- приезжают пожарные с собакой. Пятая- собака мчится в горящий дом и выносит оттуда девочку. Мама плачет от счастья. А собака вновь рвётся в дом. Все удивлены, но отпускают пса. Собака возвращается из горящего дома с огромной куклой в зубах. Все смеются, все счастливы, все рады, что девочка спасена и даже куклу собака принесла, посчитав её за другого ребёнка.
Я весь горю от волнения. Мысленно, ярко и красочно представляю всё происходящее, сам переживаю. И всё это у меня выливается в сочинении. Как правило, за него я получаю пять с плюсом. Каждый год мне вручают Похвальную грамоту. А однажды наградили и великолепной, в тогдашнем понимании, книгой за успехи в учении. Иллюстрированное издание посвящено освобождению крестьян в 1861 году. Книга квасного патриотизма расточала похвалу царю, повествовала о благодарности крестьян, облагодетельствованных государем. В ней помещены красочные рисунки царя, крестьян, слушающих Манифест об их освобождении.
В школу я ходил охотно, занимался прилежно. До сих пор помню запах чернил, письмо в тетрадях из хорошей бумаги. По окончании начальной школы меня определили в двухклассную министерскую школу. Она размещалась на церковной площади нашего села. Было в ней, кажется, четыре класса. Заведовал школой Александр Андреевич Семёнов. Это был маленький, полненький и прекрасной души человек. Он любил учеников, и мы ему платили тем же. Уважали и слушались своего заведующего. Александр Андреевич вёл уроки русского языка и один раз в неделю обучал нас переплётному делу. Благодаря ему я научился переплетать книги, что пригодилось впоследствии в жизни. Когда в 1922 году я демобилизовался из Красной Армии, то занимался переплётным делом. И таким ремеслом зарабатывал кусок хлеба. Но об этом- особый разговор.
Любили мы ходить вечером на занятия по переплётному делу. Отец давал мне две копейки. Так уж было принято. И я законно брал эти две копейки. Доходил до лавки Андреевых и покупал в ней рожок. Было такое восточное лакомство. Очень нравилось оно нам, детям, казалось вкусным. Никуда и никогда я больше эти две копейки не расходовал, кроме покупки рожков. Вот и класс, превращённый в мастерскую. Пахнет столярным клеем. Мы обрезали листы блока, клеили обложки и крышки книги, переплетали. Всё находится под руками: кастрюля с клеем, мраморная бумага и острый нож для обрезания книги. И вот конец переплётным работам. Мы всё аккуратно убираем, подметаем. И мастерская вновь становится классом.
У заведующего школой была высокая и дородная жена- Александра Порфирьевна. Она преподавала нам математику. Был у них свой дом в селе, небольшой садик, лошадь, участок земли, где они сеяли хлеб. На подворье содержалась корова, птица. Имели троих детей- двоих сыновей и дочь. Судьба их сложилась трагически. Старший сын, Леонид, страдал провалами памяти. Юноша учился в Саратовском университете, приехал домой и некоторое время преподавал нам математику в школе. Помню его хорошо- высокий, красивый, всегда серьёзный и неожиданно резкий в движениях и речи. Были моменты, когда он уже не мог работать и сидел дома. В голодный 1921 год замёрз, когда шёл в другое село, надеясь на что-нибудь выменять хлеб. Второго сына, Виктора, я хорошо знал, бывал с ним в их доме. Тоже очень рослый и красивый юноша. Виктор учился в Саратовском сельхозинституте, сошёл с ума и умер в психбольнице. Мать, Александра Порфирьевна, скончалась сразу после смерти второго сына. Осталась одна дочь. Александр Андреевич жил в её семье в Ершове. Потом он женился на Марии Васильевне, которая вновь овдовела. Но семья у них не сложилась. Александр Андреевич вновь вернулся жить к дочери и умер в преклонном возрасте.
Заведующий школой Александр Андреевич Семёнов был для нас, его учеников, непререкаемым авторитетом во всём- и в вопросах жизни, и в морали, и науки. И вот я приехал в Перекопное из Сибири студентом факультета общественных наук Иркутского университета. Был уже философски начитан. Занимался со страстью и много. Вступал в теоретические бои со студентами, не признававшими материализм. Эти споры способствовали глубокому для моего мозга изучению философии. И вот я в селе Перекопное. Это было в 1924 году. Нахожусь в школе. Вечер, собрались бывшие ученики. Среди нас Александр Андреевич. Учитель с интересом слушает воспитанников, вступает в разговор. Чтобы не прослыть человеком, отставшим от новых веяний и теорий, начинает объяснять: «материализм- это учение, по которому всё зависит от питания и еды2. Уверенно объясняет учение Александр Андреевич. Коротко и ясно!!! Я внутренне улыбаюсь. Мысленно понимаю, что в философии Александр Андреевич не силён. Но молчу, не критикую его, щажу своего бывшего учителя. Пусть будет так. Александр Андреевич- чудесный старичок, всю жизнь проживший в селе, отставших в своих взглядах, в теории. Для меня он остался одним из самых любимых учителей. И пусть он верит в то, что материализм есть учение, по которому всё определяет питание и еда.
С огромным удовольствием, большой радостью и желанием я иду в школу первого сентября. Эту радость легко понять. Я за лето наработался досыта. Устал от физического труда. Мне хочется оттолкнуться от работы, тяжёлой и ежедневной, надеть чистый костюм и беззаботно, радуясь солнцу, теплу, чудесному утру пойти в школу. Там товарищи, Шура Катетов, наши девочки. В школе увижу и свою девочку, о которой всё лето думал, приятно и сладко мечтал с ней встретиться. Я счастлив, я беззаботен, я люблю свою маму, которая собирает меня в школу. Она сама сшила мне ученическую форму. Нам, детям, мама всё шила сама. Я радуюсь утру и славлю жизнь всем своим существом.
Вот и школа, друзья. Скорее в коридор. Вон класс, в котором учится Шура Шурыгина- моя настоящая большая любовь, которую я пронёс сквозь годы школьной учёбы, Гражданской войны, первых лет студенческой жизни. С душевным трепетом смотрю в коридор, на двери класса. Шуры ещё нет. Иду на крыльцо школы. Вот сейчас она появится из этого переулка. Идёт девочка из этого переулка. Идёт девочка, которая мне дороже всех на свете, в которой всё я люблю. Люблю чисто, тихо, возвышенно! Шура в школьной форме. Коричневой платье, чёрный фартук, белый воротничок, белые манжеты на рукавах, две большие косы, гладкая причёска. В руках у неё портфель, в кармане фартука белый носовой платок, слабо надушенный. Но как я впитывал этот запах её платка, когда бывал с ней! Высокие ботинки, зашнурованные, чёрные чулки. Вот обычный в летнее время костюм Шуры, и всех вообще учениц. Идёт моя девочка. Я счастлив и не могу скрыть свою улыбку: радостную, светлую. Иду в класс: не смею с ней встречаться на крыльце. Мы очень робки, стеснительны и боимся открытого выражения своих чувств. Потом в коридоре встречаемся взглядами, тепло и ласково, нежно и счастливо переговариваемся друг с другом, молча, одними глазами. А потом я пишу ей записку. Всё невинно, очень мило и бесхитростно. У Шуры уроки окончились раньше. Она идёт домой. Вот девочка вышла из школы. Я иду на крыльцо и провожаю её взглядом. Говорю себе: «Сейчас она дойдёт до того проулка и, прежде чем скрыться в нём, оглянется». Она чувствует, что я её провожаю. Я не ошибся в своём ожидании. Дойдя до поворота в проулок, Шура оглядывается, видит меня, стоящего на крыльце школы, улыбается и уходит. Я бесконечно счастлив. Я люблю, я любим, я ощущаю жизнь, а она такая добрая ко мне во всех своих проявлениях. Оканчиваются уроки. Мы идём домой. Настроение удовлетворения школой, друзьями не покидает меня. Не хочется снимать одежду. Хочется ещё побыть в атмосфере школьной жизни, детских, юношеских радостей, любви.
Огромную роль в моём духовном росте и формировании нравственного существа сыграли книги. Я начал рано читать. Читал много. Я полюбил книги с ранних лет. При этом глубоко переживал всё и впитывал в себя содержание. В школьные годы я перечитал почти весь скромный фонд сельской библиотеки. Потом дошёл до книг из дома товарищей и сундука богача Акулова. В годы революции зажиточные люди стали дружить с беднотой. Помню, я был просто потрясён, когда увидел в доме Акуловых столько литературы. Соня, почти моя сверстница, открыла сундук, где лежали в отличных переплётах книги. Я жадно начал их просматривать. Я был несказанно счастлив, когда Соня дала мне читать Генрика Сенкевича «Огнём и мечом». Потом наступила очередь «Пана Володыевского». Я перечитал все книги, что были в сундуке.
На всю жизнь мне запомнился Григорович своей повестью «Антон Горемыка». Читал книгу и плакал, переживая все страдания героя произведения. Я просто физически ощущал и жаркое лето, и беспощадное солнце, и просёлочную дорогу, такую длинную, горестную и тяжёлую для Антона Горемыки. Вот ведь как тяжело и безрадостно живут люди. И солнце то не для всех ласковое и доброе. Для Горемыки оно иссушающее, безжалостно палящее и тоскливое. А «Подлиповцы» Решетникова меня просто ошеломили. Их тяжёлая и безрадостная жизнь потрясла. Я долго больше не мог читать. Всё ходил под впечатлением этой книги, в которой показана в художественной литературе судьба двух мужиков, так и не выбившихся из нищеты. Страшная жизнь! Я всё глубоко переживал и искал в жизни подобные примеры, но в Перекопном не находил. Не верилось, что жёсткая правда. И невольно закрадывалась мысль: а разве нельзя изменить жизнь, чтобы не было Антона Горемыки, Пилы, Сысойки? Всё это являлось только зачатком моего понимания классовых контрастов, противоречий.
Любил я Тургенева. Тяга к его произведениям сохранилась во мне до настоящего времени. Когда становится немного грустно, когда я устаю, когда я побыть один и подумать, то открываю любой том этого писателя, читаю его произведение и успокаиваюсь, прихожу в состояние уравновешенности, душевной полноты от жизни, от мысли о ней. Вот «Дворянское гнездо» Какие мысли, чувства оно дарит? До настоящего времени глубоко трогает мою душу судьба Лаврецкого, Лизы Калитиной. Щемящей болью в душе звучат и до сего времени слова Лаврецкого в эпилоге романа: «Здравствуй, одинокая старость! Догорай, бесполезная жизнь!» А последняя встреча Лаврецкого с Лизой в монастыре всю жизнь меня волнует до слёз… «Лаврецкий посетил этот отдалённый монастырь, куда скрылась Лиза,- увидел её. Пробираясь с клироса на клирос, она прошла близко мимо него, прошла ровной, торопливо смиреной походкой монахини- и не взглянула на него: только ресницы обращённого к нему глаза чуть-чуть дрогнули, только ещё ниже наклонила она своё исхудавшее лицо, и пальцы сжатых рук, перевитые чётками, ещё крепче прижимались друг к другу. Что подумали, что почувствовали оба? Кто знает? Кто скажет? Есть такие мгновения в жизни, такие чувства…на них можно указать и пройти мимо». Произведения Тургенева «Рудин», «Накануне», «Отцы и дети», «Повесть о первой любви», его рассказы и повести. Этот писатель меня волновал, заставлял думать о жизни, чувствовать красоту природы, плакать невидимыми слезами над неустроенностью людей. А поэтическое описание природы Тургеневым я считаю самым сильным, самым задушевным во всей нашей литературе. «Солнце ещё не вставало, но уже заиграл холодок, седая роса покрыла травы, и первые жаворонки звенели высоко-высоко в полусумрачной воздушной бездне, откуда как одинокий глаз смотрела крупная последняя звезда». Не могу забыть описанные им картины лета, пшеничного поля, просёлочной дороги, жаркого солнца, фигуры девушки, идущей под зонтом в свою усадьбу. Мне кажется, наша молодёжь много теряет, не читая классическую литературу девятнадцатого века.
Неизгладимое впечатление произвёл на меня Гончаров. В «Обломове» пленила Ольга Ильинская. Долгие годы считал, что это- лучший женский образ в нашей литературе. Я грезил Ольгой Ильинской, составил в своём воображении её образ. Волновала меня её любовь к Обломову. Я тяжело переживал её разрыв с ним. А «Обрыв» Гончарова до сих пор считаю шедевром русской классической литературы. Перечитывал не раз роман и его отдельные главы. Вера была наряду с Ольгой Ильинской и другими женскими образами моей любимой героиней. А какая женщина бабушка Бережкова!!! Я никак впоследствии, читая критические статьи о Гончарове, не мог согласиться, точнее, принять её, как писали тогда, в качестве помещицы-эксплуататора, охранительницы строго дворянского быта. В моём воображении это была сильная, гордая личность, беспредельно любящая своих внучек Марфиньку и Веру, женщина, пошедшая на раскрытие тайны, которую она сохраняла всю жизнь, чтобы спасти Веру.
Виктор Гюго с его «Собором Парижской богоматери», «Вечно смеющимся человеком», «1783 годом» и, наконец, «Отверженными». Произведение, потрясшее меня. На всю жизнь запомнился Жан Вальжан. Страшные картины буржуазной Франции, трагическая судьба и жизнь героя не давала мне покоя многие годы. Незабываемый друг 1930-годов Дима Свечников, рано умерший от туберкулёза, прощаясь со мной, когда я, незаслуженно оклеветанный и снятый с работы, уезжал из Московской области, обнял и сказал, трудно сдерживая слёзы: «Ты, Вася,- Жан Вальжан. Мужайся, будь, как и он, силён духом».
«Таинственный остров» Жюля Верна до сих пор считается моей любимой книгой. Произведения этого писателя пленили, оказали благотворное влияние на моё становление как личности. Я старался походить на его героев- смелых, честных, добрых, верных товарищей. «Овод» Войнич- книга, захватившая мужеством героя, его благородством, силой духа, воли, любовью к женщине. Это одна из серии книг о высоком назначении человека, о его борьбе с тёмными силами реакции была вехой в моём формировании, в росте к комсомолу, к партии.
«Андрей Кожухов» Степняка-Кравчинского заставил меня плакать, больно, тяжело страдать и переживать горе и слёзы героев романа. Я, уже в наше время, с душевным трепетом давал его читать молодым людям. И ждал, что и на них это произведение произведёт такое же впечатление. Приносили и отдавали мне книгу. Пристально смотрел в лицо, глаза читателей и…не находил в них ничего, кроме равнодушия. Я удивлялся, возмущался и перестал давать роман молодёжи. Стоит он в шкафу в ряду редких и самых любимых моих книг. Питаю слабую надежду на своих внуков. Вот бы порадовали меня, если прочли и поняли это произведение. А «Хижина дяди Тома» Бичер Стоу в течение всей моей жизни является самой гуманной, самой любимой книгой, особенно нужной, полезной для детей и юношества. Диккенс с его «Оливером Твистом» не давал мне покоя многие годы. Я всё удивлялся, как много горя в жизни, как много бедности, нищеты, зла и как трудно быть честным, добрым человеком. Помню, как я познакомился с Достоевским в 13-14 лет. Взял в сельской библиотеке «Преступление и наказание» и стал читать. И страх начал проникать мне в душу, в сознание. Картины убийства ростовщицы Раскольниковым повергли меня в ужас. Я не мог спокойно спать, бредил кошмарами. У меня не хватило сил дочитать роман до конца. И я понёс его в библиотеку. Когда я поделился с заведующим своими впечатлениями о книге, тот смущённо сказал, что мне рано читать такие книги. Достоевского я перечёл уже в более зрелом возрасте и оценил силу этого гения, понял гуманизм его героев, мучился сомнениями и искал смысл жизни довольно тяжело.
Лев Николаевич Толстой поразил меня, взволновал и толкал на поиски путей самосовершенствования своими «Детством», «Юностью». Заставили о многом передумать его романы «Воскресение», «Война и мир», «Анна Каренина», и все они стали любимыми книгами. Можно сказать, что знакомство моё с русской и иностранной классической литературой пало на детские и юношеские годы.
Революцией мобилизованный и призванный.
Мне было 14 лет. Шла Первая мировая война, которую ещё называли империалистической войной с Германий 1914-1918 годов. Помню разговоры мужиков, часто приходивших к нам поговорить по-соседски, узнать политические новости. Отец выписывал газету «Копейка», иллюстрированное обозрение «Искра» и еженедельник «Родина». «Искра» состояла из фотографий людей привилегированного класса, царского дома, генералов, министров и прочих иже с ними. Много было снимков и заграничных, тоже людей господствующего класса. На отличной бумаге большого формата- размер нынешней «Правды», фотографии хорошие. По ним я в детстве узнавал о политической обстановке в России и за её пределами. Много говорили, упорно и уверенно о предательстве военного министра Сухомлинова, императрицы Александры Фёдоровны. Особенно много пересудов было о Распутине, сумевшем втереться в доверие царской семьи и ставшим всесильной фигурой. Говорили, что он конокрад, ловкий жулик, безграмотный мужик. А когда его убили, то крестьяне были этим довольны. Многие люди тогда связывали изменения в политике царского двора с убийством Распутина. Даже мы, мальчишки, чувствовали, что надвигаются какие-то большие перемены в общественной жизни России. Глухо доходили до села события в Петрограде, грозившие привести к свержению царя.
И вот 28 февраля 1917 года по старому или 12 марта по новому стилю это свершилось. Новость быстро дошла и до села Перекопное. Кто-то из мальчишек в школе сообщил, что в Петрограде свершилась революция, и царя свергли. Это известие мы встретили с восторгом и сразу же приступили к делу. Прежде всего сняли в классе большой портрет Николая II и порвали его на клочки. Потом пошли в учительскую. Там никого не было. Мы сняли портрет со стены и тоже изорвали его на мелкие кусочки. Такие смелые наши шаги не вызвали протеста и осуждения у руководителей школы. Они растерялись и не знали, как надо поступать. А мы были решительными, революционными бунтарями. Начали сговариваться идти «громить» земского начальника как лицо, уполномоченное самим царём. Заведующий школой отговаривал нас не делать этого. А потом мы узнали, что тот из Перекопное уехал. О нём больше ничего не слышали, в селе он не появлялся.
Занятия в школе не состоялись- всё бурлило, волновалось, не до учёбы было. А потом начались собрания, митинги, демонстрации. Мы, ученики школы, учёбу по существу забросили. Некогда было заниматься. Мы посещали все митинги и собрания, пели до срыва голоса «Варшавянку», «Марсельезу» и другие революционные песни- «Смело, товарищи, в ногу», «Вы жертвою пали», «Отречёмся от старого мира» и другие.
Расстановка классовых сил нам была непонятна. Мы представляли себе весь народ, все социальные группы и классы едиными. Богатеи вместе с нами ходили на митинги с красными бантами на груди. Популярны были офицеры, тоже с красными бантами, вместе со всеми певшие революционные песни и участвовавшие в демонстрациях. Потом пошли разговоры об Учредительном собрании, о выборах в него. Отец впервые для меня стал упоминать список №5- большевиков. Он говорил, что это- самая справедливая партия, потому что она за то, чтобы крестьянам отдать всю землю. Отец сам смутно разбирался в партиях и в расстановке классовых сил, но о большевиках отзывался положительно. Много говорили о социалистических революционерах. В селе имелись эсеры, которые вели активную пропаганду за свою партию, но результаты их были слабые. Они не создали эсеровской организации на селе. Большевики же, опираясь на бедноту, создали свою организацию и вели пропаганду за свою программу. Впервые я услышал имя Ленина.
Всё было ещё для меня и моих товарищей неясно о борьбе партий. Мы не видели остроты этой борьбы и восприняли революцию как всеобщее благо. Подготовка к Октябрьской революции шла где-то для нас за кулисами. Мы продолжали переживать праздник обновления- революцию. Для нас она не являлась буржуазной, а была демократической.
В этот год весной я окончил начальную школу. Дальше у нас учиться негде было: надо куда-то ехать. Решили меня и брата Ваню, вернувшегося домой и сменившего офицерскую форму на штатскую одежду, отправить учиться в село Дергачи. Там жила наша старшая сестра Настя. Муж её, Саша, работал в какой-то канцелярии. В Дергачах было реальное училище. Вот в него мы с Ваней и поступили. Я – в пятый класс, а брат- в старший, в последний. Простился я с Перекопным, с друзьями. Как-то внутренне я возмужал, повзрослел. Шура Катетов уехал в Саратов учиться. В нашей дружбе ничего не изменилось, но уже не было той детской близости и привязанности в отношениях, когда я безутешно плакал после того, как нас рассадили с Шурой за разные парты. У него уже были свои интересы и товарищи в Саратове, у меня- в Дергачах. Я продолжал его любить, ревновать к другим мальчишкам, с которыми он дружил, но это уже не было так трепетно, мы не переписывались с ним, не встречались целую зиму.
С Шурой Шурыгиной тоже отношения у меня изменились. Я уехал из Перекопного, она тоже покинула село. Мы не переписывались и с ней. К концу учения, когда все разъехались, как-то в наших с ней отношениях наступил холод. Она начала от меня отходить, смущать не вызванными с моей стороны, непонятными поступками, капризами. Уехала, не порадовав меня ни признанием своим в любви, ни обещанием любить меня и в разлуке. Я всё это воспринял без больших переживаний и продолжал любить Шуру. Но боли не испытывал от того, что мы разъехались. В наших чувствах наступило что-то новое. У меня, по крайней мере, они к ней сохранились, но утратили трепетность ожидания встречи, записки. В своих отношениях к ней как-то повзрослел, посерьёзнел.
Учебный год в Дергачах 1918-1919 года прошёл быстро и бесполезно. Нам задавали уроки, которые мы не учили. Нас спрашивали- мы не отвечали. Нам ставили двойки- мы не огорчались. Учителя махнули на нас рукой и представили нам полную свободу. Мы приходили в училище к 9 утра. Уроки проходили без пользы. Уходили домой, обедали и снова в училище. Вот тут было интересно. В большом зале реального училища мы устраивали буйные игры, затевали возню, играли в чехарду, проводили кулачные полюбовные схватки. Всё дрожало, ревело, гремело, пыль стояла столбом. Иногда показывался из своей квартиры при училище заведующий- старичок в современной тужурке, он смущённо смотрел на нас и тихо уходил, чувствуя своё бессилие приостановить шабаш. Потом мы шумные игры сменили танцами. В зале стояло пианино, хорошо на ним играл студент Ларин. Вот мы и танцевали до темноты. Ламп не было. Потом мы шли домой, когда уже совсем становилось темно. Много читал я, но книги были уже другие- приключенческие, авантюрного жанра, захватывающая дешёвка, детектив вроде «Картуша». Помню, Ваня старался осмеять увлечение этой литературой, стыдил меня. Но я был захвачен страшными приключениями, и до меня не доходили его язвительные замечания о пустоте этих книг. В конце концов, Ваня махнул на меня рукой как на безнадёжно пустого человека. Комсомола в школе, да и в селе, не было. Никто с нами не работал по идейно-политическому воспитанию. Началась Гражданская война, но она проходила где-то далеко. Время посуровело, от романтической восторженности первых месяцев февральской революции ничего не осталось. Мы продолжали по инерции принимать революцию, но уже октябрьскую, глубоко не вникая в существо социалистической революции, плохо разбираясь в политике. Но Ленина уже считали вождём. Его авторитет был непререкаем. Всё, что происходило в жизни, мы принимали, как необходимость. Но сами ещё не созрели для активной сознательной борьбы за идеалы социалистической революции.
Кончился учебный год. Наступила весна 1919 года. Я приехал домой. Шура Катетов в Саратове, Шура Шурыгина в Иванове. Я её не забыл, продолжал любить. Но не мог увидеть, не знал о её отношении ко мне, переживал всё это больно и сладко.
И вот я неожиданно уехал на фронт. Уральские казаки восстали против Советской власти. Прославленный герой Гражданской войны В.И.Чапаев вёл с ними ожесточённую борьбу. Война проходила уже не где-то далеко от нас, а вблизи- в Новоузенске, Александров-Гае, Пугачёве, уральских степях. Положение на фронте было тяжёлое. Белое казачество наступало, грозило соединиться с белочехами, с Колчаком и захватить Саратов. Время было тревожное, боевое. О подвигах В.И.Чапаева ходили легенды. Я уже повзрослел, многое стал понимать. И меня стало охватывать чувство романтизма боевой жизни. Я уже начал мечтать о своём участии с борьбе с белогвардейцами. Но как, когда? Ничего неясно для меня. И вот в июне 1919 года, когда уральские казаки захватили Пугачёв и продвигались по железнодорожной ветке к Саратову, объявили мобилизацию конных подвод в нашем селе для отправки на уральский фронт. Было призвано 45 человек. Я под мобилизацию не попадал, но попросился ехать за соседа. Тот дал мне лошадь с телегой. Отец меня не отговаривал. Так я стал одним из обозников, поехавших на фронт на уральский фронт.
Еду добровольцем на Уральский фронт.
Это было 16 июня 1919 года, на второй день Троицы. Поехал я, ни с кем из друзей не попрощавшись. Некогда было. Всё прошло быстро, в один день. Поехали 45 человек. Были среди нас и пожилые мужчины, не подпавшие под мобилизацию, и несколько парней моего возраста. Лето, жаркое солнце, степная дорога, пыль и пыль. Ехать до воинской части, куда нас направили, сто километров. Прощание с матерью, отцом было лёгкое: скоро вернусь, приеду! Я ему помахал рукой, прокричал, что еду на фронт. И подстегнул лошадь, чтобы не отстать от своих товарищей. Не думал тогда, что моя поездка закончится пленом и тяжёлым испытанием. Из 45 односельчан, мобилизованных на фронт, в живых остались и вернулись домой в разное время только трое, в том числе, и я.
Ехали через село Дергачи, в котором жила родная сестра Настя. Я завернул к ней. Скороговоркой сказал, что еду на фронт к Уральску. Что я не один. Нас, обозников, 45 человек. Сколько там пробуду, не знаю. Наскоро поел и легко, бездумно, всё ещё находясь во власти ожидания романтики фронтовой жизни, новизны боевой обстановки, опасности и трудностей, простился с Настей и погнал лошадь, чтобы не отстать от уехавших вперёд товарищей. Догнал их уже за селом. Конечный наш пункт- станция Шипово. Это на полпути к Уральску- центру казачества. От Дергачей было километров 80, наверное. Да и до этого села от Перекопного- 50 километров. С любопытством смотрел я на заволжские степи. Чем дальше к Уральску, к Казахстану, тем заметнее становилась разница в природе. Наши степи хороши своим необъяснимым очарованием безбрежности, золотом пшеничного моря, весенним буйством тюльпанов, которым, кажется, нет ни конца, ни края. А здесь всё чаще встречаются холмы с выступающими на поверхность меловыми отложениями, серебром отливает ковыльная степь. Солнце нещадно палит, дорога твёрдая, нигде нет ни кустика, ни деревца, на десятки вёрст- ни одного села. Безлюдье, безводье, бесконечные унылые степи. Рядом населённые пункты жмутся к железной дороге Уральск- Саратов.
Без приключений, наконец, доехали до фронтовой полосы. Наши краевые части занимали Семиглавый Мар и Шипово-Деркул. Оборону держала 22-я дивизия, часть которой находилась в осаждённом Уральске. На станции Шипово располагались 197 и 198 полки, потом подошли сюда другие воинские части, в их числе 1-й Саратовский полк, в который мы и были включены. Полк входил в состав Саратовской бригады. К этому времени положение на фронте было очень тяжёлое- казаки успешно наступали. Окрылённые своими успехами, они заняли Николаевск (ныне город Пугачёв), сосредоточили большие силы на линии Дергачи-Шипово. Здесь находились красные войска, отступившие от Пугачёва и Уральска. Положение было тяжёлое, не хватало продовольствия, боевого снаряжения. Казаки непрерывно атаковали Шипово, вели артиллерийский обстрел наших позиций. Обстановка обострялась. Мы, обозники, без устали подвозили снаряжение. У меня порвались в лоскуты ботинки. Начались дожди, на дорогах грязь, а я- босиком. Меня заметил комиссар полка, не помню его фамилию. Он отдал распоряжение, и я получил со склада отличные новые сапоги. Здорово получилось- у меня сапоги, о которых я и не мечтал.
В плену у белоказаков.
Налёты казаков на Шипово были почти ежедневными. Помню, 19 июня белоказаки ворвались на его окраину. Вот они. Мне хорошо видны их конные ряды. Я не трушу: почему-то был уверен, что красные части отразят налёт. Тяжелее переносил орудийный и пулемётный обстрел. Никак не мог привыкнуть к противному свисту пуль. Никак не мог заставить себя не кланяться летящему снаряду. «Вот сейчас будет выстрел из пушки, над головой пронесётся снаряд, я не спрячу голову в окопе». Выстрел раздался,- сначала дымок появился, потом звук и грозный полёт снаряда- я невольно прячу голову. Успокаиваю себя тем, что со временем привыкну. Страшно было слышать, как ржут раненые лошади. Сколько в этом ржании боли! Животных было жалко, но помочь им я ничем не мог. После их пристреливали.
Настроение было тревожное. Боялся не только смерти. Это как-то не вязалось в моём сознании. «Как это я буду убит, а мама, отец, братья, товарищи, Шура?» Я боялся плена. О жестокости казаков говорили много. Страшно попасть в их руки, хотя и считался только обозником, даже носил военной формы. Все односельцы, приехавшие со мной на фронт, были удручены, напуганы ожесточёнными боями и ожидали самого худшего- плена: не сумели во время боя выбраться за линию фронта. Да и дисциплина нас связывала. Мы являлись частью полка и должны были разделить его участь. И вот в июне 1919 года произошло самое страшное. Белоказаки, собрав силы, атаковали Шипово. Бой был ожесточённый. Началось отступление наших частей. Мы, обозники, заметались, не зная, что предпринять. Однако нашего товарища ранило в грудь. Он упал, и мы его еле затащили в разбитую халупу. Мой товарищ, Янька Чернисов, был ранен в ногу и заполз тоже в эту избушку. Началась паника, беспорядочное отступление. Ничего не поймёшь и не знаешь, что делать. Я выбежал наружу с намерением запрячь лошадь и попытаться как-нибудь вырваться из этого пекла. Но меня оглушила стрельба, пули щёлкали, издавая противный звук. Стало уже светать, и я отчётливо увидел казаков с белыми повязками на фуражках и рыжими бородами. Они вели наступление и вот-вот сейчас доберутся до нас. Я бросился в избушку. Все наши обозники сбились в кучу в одном углу строения (изба была без окон и крыши), как куча-мала. Я просто постеснялся забиться в этот угол. Да ещё наш один односельчанин, уже пожилой мужик, спокойно сидел на полу и курил. Боялся я? Конечно. Но сумел преодолеть эту боязнь и не впасть в панику. Только грудь защитил кошмой и подушкой, которые у меня были. «Вот и конец!»- пронеслась мысль.- И ничего я сделать не могу». Никто из моих односельчан не старался бежать, спасаться. Все держались друг друга. И я не мог преодолеть это чувство боязни остаться одному без своих товарищей-односельчан. Да и не понимал, куда бежать, что надо делать. Но мысль о том, что лошадь бросать не надо, меня всё время не покидала. А тут ещё мой сосед Янька Чернисов, ранен в ногу, стонет, в глазах тревога, боязнь остаться без нас. Я решил его не бросать. Эта мысль пришла без всяких сомнений. А как же иначе, разве можно бросать товарища!
Вот и притаились мы в стенах разрушенной халупы, ожидая своей участи. Что с нами будет? До этого мы ещё узнали, что с попавшими в плен красноармейцами обращаются зверские старые, фанатичные в своей реакционности казаки. Пленных секут плетьми, расстреливают, рубят шашками. Молодые казаки к пленным относятся терпимо и жестокость не проявляют. Мы, обозники, кустарно мобилизованные,- все в штатской одежде. У меня только сапоги военного образца, которые выдал комиссар полка, увидев на ногах совершено разбитые ботинки. Ведь как было? Развозил снаряды, ящики патронов, работал на совесть. Вот меня комиссар полка и приметил. Не будь моего плена, я бы в боевую жизнь полка и нашёл бы своё место в этой части. Но всё получилось по-другому. Вот и казаки побежали к нашей халупе.
- Кто есть, выходи!- раздался окрик казака. В халупе молчание, никто из нас не отзывался. Раздался залп из винтовок по избе, пули защёлкали по стенам. Подождём выходить. Бой продолжился, стрельба уже шла впереди нас. Мы уже в тылу у белых. Куча-мала из людей начала распадаться. Односельцы встают, опасливо смотрят на окна, на дверь.
- Смотрите, к старым казакам не выходите. Как появится молодой, то идите,- предупредил один из обозников.
- Вася, ты первый выходи, у тебя платок есть.
Молча соглашаюсь. Буду выходить первым. У меня платочек есть. Кому-то надо выходит на встречу с казаками, нашим врагам, навстречу неизвестности, возможно, и быстрой смерти. Я смотрю в дверь, приготовившись идти первым при появлении молодого казака. Бой стал постепенно стихать. Развязка близка: что будет с нами? Один идёт в сторону нашей халупы. Я быстро выхожу. В руках у меня белый платочек. Я им машу, иду навстречу к казаку. Страха уже нет, переборол его. Выхожу представителем своих товарищей, которых должен защитить, обезопасить. Вот мы сошлись- я и казак-белогвардеец.
- Я не один, нас 45 человек. Мы обозники, кустарно мобилизованные. Вот наши повозки и лошади.
Казак оглядывает меня быстрым взглядом, задерживается на сапогах и приказывает: «Снимай сапоги!» Я снимаю сапоги. Казак берёт их и кладёт в свою сумку. «Деньги есть?» Вынимаю кошелёк, открываю его и показываю керенку достоинством в каких-то рублях и медный царский пятак. Как он у меня оказался, не пойму. Казак на керенку не обратил внимания, а пятак взял. При этом спросил меня: «Где остальные люди?»
Мы пошли к избушке. Обозники наблюдали, как я разговаривал с белым казаком. Видели они, как тот отнял у меня сапоги, но я остался жив. Это их приободрило. Подошли к избе. Наши стали из её выходить, всё ещё опасаясь расправы. Казак проверил у всех, чем можно попользоваться. Но никого больше не разул и не раздел, один я остался босиком.
Бой стих. Начали появляться казаки. Скакали всадники. Вот два казака на конях гонят двух красноармейцев, секут их плетьми, а они бегут и защищают руками головы. Сердце больно сжалось от жалости к бойцам, от тяжёлого предчувствия своей участи. Как с нами поступят? И вот в эту тяжёлую минуту к нам подскакал на сером коне белогвардейский офицер. Осадил своего коня и что-то сказал казаку, стоящему около нас. И вдруг из наших рядов раздался отчаянный, тоскливый крик: «Петька!» И к всаднику бросился один из обозников, уже пожилой мужчина. Решетников. Подбежал к офицеру, припал к седлу и зарыдал тяжело и надрывно: «Петька! Петька!» Это был его, Решетникова, двоюродный брат, сын богатого хуторянина, ушедшего к белым, у которых он стал офицером. А его двоюродный брат, наш односелец, был мобилизован в обоз и попал в плен. «Брат пошёл на брата, отец на сына, сын на отца». Такова логика борьбы, так проходило размежевание классовых сил и образование двух лагерей. Сцена была тяжёлая, драматичная. Наши тайком утирали слёзы. И у меня появились слёзы на глазах, которые я стыдливо вытирал. Петька сошёл с коня и обнял брата. Мы облегчённо вздохнули- защитит нас от расправы казаков. Он поговорил с братом, расспросил его о нас. Тот заверил его в том, что все мы мобилизованы и поэтому хотим одного- домой. Петька обратился к нам с предложением вступить в ряды белого казачества:
- Всех примут- красным скоро конец. Доблестная белая армия наступает на всех фронтах, на помощь ей пришли союзники- Англия, Франция, Япония, США и другие государства. Поступайте в наши ряды, под моим командованием будете.
Мы молчим. Потом раздались робкие просьбы:
- Нам бы домой, перейти линию фронта помогите!
Петька обижен нашим отказом, но настаивать не стал и помочь перейти линию фронта отказался. Он передал нас в комендантскую команду под начальством молоденького офицера. Что-то ему сказал, простился с Решетниковым и уехал.
Забегая вперёд, скажу, что брату-то своему он всё же помог уйти домой через линию фронта. Из 45 человек, попавших тогда в плен, в живых остались: Решетников, двоюродный брат белого офицера, Сорокин, мой сосед, и я. Всего трое из 45 человек, выехавших из села Перекопное на второй день Троицы, 16 июня 1919 года. Остальные погибли, очевидно, от тифа, голода или от пуль своих же бойцов Красной Армии. Пленных обозников использовали на подвозке патронов, снарядов на фронт, и мы попадали под обстрел своих же бойцов.
Вернусь к продолжению своей судьбы после того, как мы попали в комендантскую команду белых. Нам приказали запрягать лошадей. Моего коня, здорового гнедого, взял один казак, оставил взамен маленькую, пузатенькую кобылёнку гнедой масти. Быстро запрягли лошадей. На повозки стали класть раненых казаков, какое-то имущество. Я всё время думал о Яньке, раненом в ногу, о нашем товарище с простреленной грудью. Что будет с ними, как им помочь? Увидев, что на наши повозки кладут раненых казаков, я понял, что отправляют их в лазарет. Значит, надо и наших раненых доставить в госпиталь. Я сказал об этом своим. И мы положили Яньку на одну телегу, а на мою повозку- раненого в грудь другого односельчанина. Казак, руководивший сбором раненых, не хотел, чтобы Яньку Чернисова и Ермакова положили в телеги. Я запротестовал и начал его убеждать, что это мобилизованные обозники. Убедил. Потом только подумал, что сам я не похож на мобилизованного обозника: был моложе всех в группе. Но об этом не думалось, все мысли были с коллективом.
Поехали, сердце сжалось болью, тяжёлым предчувствием. Как сложится наша жизнь? Попадём ли мы домой? День был жаркий. Раненые на повозках стонут, просят пить. Ермаков тихо вскрикивал и с трудом дышал. Я старался ехать осторожно, чтобы не трясло телегу на выбоинах дороги и меньше причинять ему боли. Подходил к телеге, на которой лежал Янька. Он страдал от боли в простреленной ноге и от неизвестности. Я как мог его успокаивал. Горячо говорил, что положат в госпиталь, рана не так опасна, вылечат. Я его найду и буду навещать. В госпиталь Чернисова положили, хотя и с трудом. Я настаивал, просил, уговаривал и добился. Яньку госпитализировали. Положил, простился с ним и Ермаковым. Тяжёлое было прощание. И раненые товарищи, и я знали, как трудно будет им в госпитале. Пугала и дальнейшая судьба после излечения. Потом я два раза имел возможность быть в госпитале белых. Искал Яньку, прошёл по всем палатам, всматриваясь в лица раненых. Запах йода и лекарств, спёртый воздух, стоны- тяжёлая картина. Хожу по рядам, ищу Яньку. Хочу его найти, очень хочу. Нет Яньки! Пропали и Янька, и Ермаков. Погибли оба. Как погибли? Не знаю. Ермаков, наверное, умер. А Яньку, возможно, выбросили на улицу, и он погиб. Не знаю, только домой он не вернулся. Тяжело я переносил судьбу Яньки, жалко мне его было. Очень я хотел вернуть его из госпиталя выздоровевшим и попавшим в свой коллектив. Нет, пропал Янька Чернисов в самом начале нашего плена. Ну, а судьба остальных была не лучше. Пропали, погибли. Как? Не знаю. А вот как я спасся, как остался жив, сам удивляюсь.
После того, как мы отвезли раненых в госпиталь, нас заставили собирать трупы убитых людей и лошадей и закапывать их в общих ямах. Было лето, трупы быстро разлагались, издавали страшный запах гниющего тела. Тошнило, вот-вот тебя вырвет, вот ты не выдержишь и…Но надо собирать, класть на подводу и везти к захоронению. Меня поражали убитые красноармейцы. Казаки сразу же после боя раздели всех наших солдат, не погнушались ничем- всё сняли с убитых. А как убиты. Многие пали под ударами сабель казаков. А они умели рубить! Вот лежит молодой боец с рассечённой надвое головой, а вот- рассечённый чуть ли не пояса. Страшно! Трупы лошадей раздуло. Они лежат огромной тушей, попробуй положить их на подводу. Собирали, возили, закапывали целый день. Ничего не ели: трупный запах преследовал повсюду, есть не могли. Вечером вымылись в речушке, выстирали одежду, вымыли телеги, но всё равно от подвод долго ещё пахло.
Потом нас заставили подвозить на фронт ящики оружейных патронов и снарядов к пушкам. Патроны возить было легко и безопасно. Но транспортировать снаряды, которыми набили твою телегу, было страшно. Головка одного снаряда стучит по патрону другого. Думаешь, что вот сейчас раздастся взрыв, и от тебя ничего не останется. Стараешься ехать осторожно, чтобы снаряды не стукались. Привёз, разгрузил- и облегчённо вздыхаешь.
Комендант предупредил, что за побег одного из нас, будет расстреливаться каждый десятый. Мы поняли, что надо пока держаться вместе и не подводить товарищей Да и куда побежишь, разве сумеешь пересечь линию фронта? И потекли дни нашего плена, полные тревог, неизвестностей, мыслей о том, что ты невольно помогаешь белым. А что сделаешь?
Однажды комендант приказал мне отвезти труп убитого в станицу к семье. Погибших возили домой: там и хоронили. Вот и я повёз. Не помню уже, как его отдавал семье. Отвёз и вернулся. А в другой раз меня направили отвезти в тыл белого офицера-капелевца. Поехали мы вдвоём с ним. Капелевцы были отборными офицерскими полками. Одеты в чёрную форму, на рукавах знак- череп со скрещёнными костями, на фуражке значок в виде черепа со скрещёнными костями. В кинофильме «Чапаев» показана психологическая атака их- капелевцев.
Едем, офицер спрашивает, кто я. Искусно обхожу все скользкие места и представляюсь мальчишкой, случайно попавшим на фронт. «Ну, как там, в Совдепии, женщины-то национализированы?»- спрашивает меня беляк-офицер. Я не понимаю слова «национализированы», смущённо улыбаюсь и говорю, что национализированы. Офицер удовлетворён.
- А ты знаешь Ленина?- вновь спросил офицер.
- Знаю, слышал,- осторожно говорю я в ответ.
- Он каторжник,- нравоучительно говорит капелевец.- Его царь сослал на каторгу. Вот кто это Ленин.
Я молчу, не возражаю. Удивляюсь невежеством этого представителя белого офицерства, «спасителя трудящихся от тирании «каторжника» Ленина». И мне подумалось тогда:
- А мы умнее их. У нас даже простой красноармеец политически грамотнее их офицеров.
Привёз офицера в станицу, в какую-то белую часть. Помню хорошо большой пруд, деревья, полянку и- офицеры, офицеры, усердно козыряющие старшим по званию. Видел важного генерала, сидящего за столом, на котором стоял самовар, в тарелке лежали пышки. Генерал сидел, отдуваясь, в одной нательной рубашке. А китель его с погонами висел на стуле. В пруду купались, во всём чувствовалась беззаботная атмосфера, далёкая от фронтовой. Мы были в тылу, и белая часть находилась на отдыхе. Офицер ушёл, и я поехал в комендантскую команду.
И потекли дни плена без всякой надежды на то, что мы освободимся из него. А что дальше? Впереди зима, а я босой, в одной рубашке и в уже потрёпанных штанах. Всё хуже стали кормить. Но как освободиться из плена? Никто из нас этого не знал, а белые начали отступать от Шипово вглубь уральских земель. И вот что помогло мне принять решение, изменить своё положение обозника без всякой перспективы на освобождение.
Был тёплый августовский вечер. Наша комендантская команда остановилась на берегу Урала. Здесь же задержалась на ночлег большая группа беженцев, испугавшихся Советской власти. Масса повозок, спутанные лошади пасутся на берегу. Везде костры, озабоченные людские лица. Я молча наблюдаю за происходящим, за поведением беженцев, испугавшихся красного террора большевиков. Много детей, молодёжи. Меня потянуло к сверстникам. Интересно было узнать, куда они бегут, на что надеются. И вот я увидел двух девочек моего возраста. Они были одни, о чём-то оживлённо разговаривали. У меня дрогнуло и защемило болью сердце. Нахлынули воспоминания о школьных годах, о Шуре. Я подошёл к девочкам, и у нас завязался разговор. Узнал, что они здесь с отцом. Мамы у них нет. Едут подальше от фронта. Я коротко рассказал девочкам о своём положении. Хотелось быть откровенным, доверчивым. Девочки приняли живое участие во мне. Одна из них сказала:
- Подождите здесь, я всё расскажу папе.
Через некоторое время она возвратилась со своим отцом. Это был интеллигентный человек, хорошо разбиравшийся в обстановке и положении белой армии. Он выслушал меня. И я к нему проникся доверием. Выслушав меня, отец девочек посоветовал бежать из комендантской команды:
- Ну, кто заподозрит, что ты красный. Говори, что бежал из Советской России. Поезжай подальше в тыл. Где-нибудь устроишься, а там и война кончится, и ты вернёшься домой.
Помню, что случайный знакомый был грустным, смотрел на своё положение беженца с тревогой и не питал никаких радужных иллюзий, не ругал Советскую власть, не жаловался на своё положение. Создалось впечатление, что он раскаивается в своём бегстве. Мне его, и особенно девочек, стало жалко. Я поблагодарил за совет и сказал, что так и сделаю.
И вот в одну из ночей, когда охраны не было никакой, комендант и все наши, наработавшись за день, крепко спали, я тихо встал, молча простился с товарищами, запряг свою лошадь и осторожно вывел её в подводу со двора. Вот и дорога, ведущая в неизвестность. Но я полон решимости изменить своё положение пленного на положение беженца из Советской России. Что у меня есть для того, чтобы жить самостоятельно? Не погибнуть от голода, холода и не быть убитым? На ногах ничего нет, штаны порядком изношены. Рубашка тоже рваная, на голове фуражка, сохранившая ещё свой вид. Лошадь, сбруя на тележном ходу. Вот и всё! Маловато. Но нельзя больше оставаться на положении пленного. Хотя и обозника, но, всё же пленного, который должен делить все тяготы белой армии. И пусть вынужденно, но помогающего врагам против красных, да ещё быть раненым или убитым своими же. Ведь мы обслуживали фронт белых и часто бывали на их позициях в бою. А пули не разбирают, кого убить. Выехав на дорогу, я погнал свою чалую кобылку, чтобы скорее оторваться от своей комендантской команды. А то вернут, и неизвестно, как отнесутся к моему побегу. Еду, успокоился: всё идёт хорошо, не заметили моего бегства. Стало светать. Начинаю смотреть по сторонам. Степь, степь, степь. Надо ехать только вперёд, будет-же какая-нибудь станица, посёлок, хутор. Ну, будет. А дальше что? Кому ты нужен? Кто тебе подаст руку помощи? Эти мысли заставляли меня вздрагивать, сжиматься, и душу охватывал страх перед будущим.
И вот впереди показался купол церкви и большое село- станица. Надо ехать по главной улице. Нужно что-то предпринять, на что-то решиться. Я весь- внимание, решимость, надежда. Еду. Станица большая, богатая. Как после узнал, называлась она Сахарной. Вот церковная площадь, богатые, железом крытые крыши, лавочки. Осматриваюсь, ничего не приходит в голову, еду дальше. На улицах ещё никого нет. Раннее утро. А вот дом, около него сидит седой старик-казак, на воротах вывеска: «Продовольственный склад». Я весь подобрался: с дедом можно поговорить, он, может быть, что-то подскажет. Продовольственный склад, значит, есть продукты. А я голодный, и вопрос о хлебе имел для меня первостепенное значение. Подъехал к деду:
- Здравствуйте, станичник!- вежливо поприветствовал деда.
- Здравствуй,- ответил старый-престарый дед.
- Вы не скажете мне, не нужен ли кому-нибудь работник с лошадью, я вот один.
Дед внимательно на меня посмотрел и сказал, что следует обратиться к офицеру, заведующему продовольственным складом. Им требуется лошадь с повозкой. Вот здорово! Я напал, кажется, на хорошее место.
- Проходи в дом, там у них канцелярия,- сказал старый казак.
Я привязал свою лошадь у ворот и пошёл в дом. Сердце стучало так, словно хотело выпрыгнуть, во рту сухо стало. Вот и канцелярия- горница, письменный стол, рядом простой стол, за ним сидел молодой человек и писал. Одет он в форму, но без погон. Ноги босые, как и у меня.
- Здравствуйте! Не нужен ли вам работник в продовольственный склад. Я из Советской России беженец, один, у меня лошадь с повозкой.
Выразил своё отношение к Советской власти, как будто это уж очень важно. Молодой человек отнёсся как-то сухо ко мне:
- Подождите господина капитана, с ним поговорите.
Я вышел во двор. Разговор с человеком из канцелярии меня обнадёжил. Есть шанс устроиться в этом продовольственном складе, что мне и нужно. Через некоторое время пришёл и господин капитан. Я к нему:
- Беженец я, один, возьмите меня на работу в ваш склад.
- А лошадь с повозкой есть?- спросил офицер.
- Есть, есть!
- Нам нужно лошадь с повозкой. Возьмём тебя. Будешь работать. Жить станете вот с ним.
И капитан указал на молодого человека, к которому я обратился вначале.
- Он тебе расскажет, что будешь делать.
Моей радости не было границ. Устроился, да ещё в продовольственный склад. Значит, буду сыт, с голоду не умру. Выбежал на улицу, завёл свою лошадь во двор, распряг. Дед разрешил взять из стожка сена для лошади и позвал меня на кухню, где дал кружку молока и большой ломоть хлеба. И до чего вкусным показалось это молоко! Я ведь не пил его, как уехал из дома. В 12 часов дня меня позвал с собой молодой человек из канцелярии. Перерыв небольшой. Говорили мало. Неразговорчивым оказался мой шеф. До вечера я ничего не делал, пообедал довольно скудно вместе с моим новым знакомым. Вечер. Устроился с моим новым товарищем спать на крыше сарая. У меня кошма дерюга небольшая, маленькая подушка- вот и всё имущество. Мы разговорились. И я узнал, что он военнопленный. Взят на работу в продовольственный склад как грамотный, с хорошим почерком. При складе работают ещё несколько военнопленных. Я не выдержал и признался, что тоже пленный. Правда, обозник. Бежал из комендантской команды. Повеселел, подобрел мой товарищ, тепло посмотрел:
- А я уж думал, что ты сволочь белогвардейская. Вот, думаю, гадёныш, задушить тебя ночью, да и вся недолга.
Выяснили всё и подружились. Да как же не подружиться с товарищем в беде. И началась моя работа в продовольственном складе за скудное питание, за крышу в сарае, в положении, ничем не отличающимся от положения военнопленного, приписанного к продовольственному складу. Целыми днями с утра до вечера я перевозил что-то, таскал, перетаскивал, а вечером отводил свою чалую в луга, первое время стерёг её ночью, но потом путал её и сам уходил спать в станицу. Рано утром надо было идти за лошадью, часто она уходила далеко, и мне приходилось её искать довольно долго. Уставал я сильно: день работаешь, ночью возишься с лошадью. Вставать приходилось раньше все, чтобы часам к 8 утра быть с лошадью уже при складе. Мне было всех тяжелее, остальные поработали днём- и свободны. А я должен был заботиться о лошади: всех позднее ложиться и раньше вставать. Обносился окончательно: ноги босы, сапоги-то с меня сразу снял казак после боя, штаны совсем порвались, рубашка вся истрепалась, а впереди- зима с её холодами. Можно было бы продать лошадь с повозкой. Многие беженцы, проезжавшие станицу Сахарную, с руками бы оторвали и лошадь. Особенно повозку. Но мой начальник, господин капитан, запретил продавать лошадь: она была нужна складу. Ослушаться этого запрета я не мог, хотя и был на положении «беженца» И их благородие мне не может приказать распоряжаться своим имуществом. Но я подчинился: внутренне, всё же, чувствовал себя на положении военнопленного. Один был выход- избавиться от лошади. И тогда повозку можно продать. Без лошади она не нужна. И вот я начал обдумывать ситуацию. Иду за лошадью утром- её нет. Обрадовался, размышляю:
- Хорошо, не найду чалую, и я свободен от этой обузы.
Но всё же, надо искать хорошенько: совесть не позволяла, привык к честности. Иду и нахожу:
- Ах ты, горе моё! Ну, что же ты не уйдёшь куда-нибудь далеко-далеко, чтобы тебя не найти?
Один раз нахожу кобылу, увязшей в трясине. Дрожит бедная, измучилась, а выбраться не может. У меня мелькнула коварная мысль:
- Уйду, скажу, что не нашёл лошадь. А потом придём с кем-нибудь и увидим, что она уже сдохла.
Жалко стало, не мог я решиться на такую жестокость. С трудом сумел распутать в тине ноги моей чалой, и она, освободившись от верёвки, выбралась из трясины. Но мысль о том, что лошадь может, всё же, погибнуть, меня не оставляла. Поэтому я путал коротко и шёл утром за ней в надежде, что она уже мёртвая. Но дни шли за днями, а чалая жива, а я всё больше и больше уставал и беспокоился о том, что не оденусь к зиме. И вот однажды пошёл я за лошадью и не нашёл в обычном месте. Долго искал и, наконец, увидел чалую…мёртвой. Лошадь увязла в трясине, но сумела выбраться из неё и, но пала. Отчего? То ли от того, что билась в трясине, то ли от того, что съела что-то ядовитое. Не знаю. Важно было одно: я освободился от этой обузы. Теперь можно продавать повозку и купить одежду. Пожалел я чалую, даже слёзы появились, мысленно простился с ней и облегчённо вздохнул.
Доложил господину капитану о гибели лошади и поспешил на базар. Помню: день был воскресный и базар большой. Найти беженца, которому нужен фургон, оказалось нетрудно. Продал повозку за 800 или 80 рублей, не помню. Купил на эти деньги сапоги, лёгкие портянки, ситцевую рубашку, фуражку и штаны из мешковины. Небогато. Видать, здорово меня обманул беженец, купив повозку на железном ходу так дёшево. Но я был и этим доволен. Рад, что освободился от обременительной обузы- лошади и купил себе кое-что из одежды. Фуражка была военного образца, и товарищи стали меня называть в шутку «Прапорщик Василий Иванович».
Красная Армия наступала на казаков. Уральский фронт держала Чапаевская дивизия. Город был в осаде. Командиром красных войск в Уральске был Плясунков. Казаки предпринимали отчаянные попытки овладеть городом, но безуспешно. Уральск расположен в двуречье. В Урал спадает река Чаган. Город находится в этой естественной защитной зоне этих двух рек. Из Уральска гоняли сюда поить крупный рогатый скот. И казаки пользовались молоком от этих коров и даже в город записки посылали на их рогах. Когда Чапаевская дивизия освободила Уральск и начала продвигаться с боями к Гурьеву, наш продовольственный склад из станицы Сахарной перевели в форпост Горский, где я и пробыл до освобождения из плена.
Помню, как панически боялся попасть к красным господин капитан. Ох, и боялся! Когда Чапаевская дивизия приблизилась к станице Сахарной и стала слышна артиллерийская стрельба, то капитан приказал приготовить лошадей, и они, запряжённые стояли наготове, чтобы ускакать на них, если вдруг появятся красные. Паника охватила беженцев, бесконечный поток которых тянулся через станицу. В спешном порядке готовили оборону Сахарной: рыли окопы, устанавливали орудия, на улицах появились офицеры-капелевцы. Боялся я их. Жестокие они были. Особенно боялся коменданта Сахарной поручика Панченко. Он, как я узнал позже, был из Куриловки Новоузенского уезда, то есть из одной местности со мной. Ходил поручик всегда с плетью в руках. Отличался свирепостью даже к казакам, которым доставалось часто от него: плеть не была только символом власти: она действовала. Меня часто посылали к нему за чем-нибудь. И всегда я выполнял эти поручения с тревогой в душе. Если поручик узнает, что я пленный и бежал из комендантской команды, то пощады мне от него не будет. Он же, Панченко, при отступлении из станицы Сахарной сжёг живыми 80 пленных красноармейцев. Об этом с ужасом и гневом говорили между собой мои товарищи по несчастью.
Итак, продовольственный склад и пленные, работавшие на нём, перебазировались в форпост Горский. Вот здесь-то я заболел возвратным тифом. Причём, очень тяжело. Никакого ухода, конечно, за мной не было. Лежал я в сенях казацкой избы на глиняном полу. Постелью служила солома, покрытая дерюгой. В голове- мешок, набитый мякиной. Одеялом служила дерюга, сохранившаяся ещё от Перекопного.
Лежал я, никому не нужный, обречённый. Смерть была везде, и к ней люди привыкли. Стояло около меня ведёрко с водой и всё. Высокая температура, из носа шла кровь. Я, вытирая её, весь измазался. Заглянула в сени казачка-хозяйка дома. Увидев меня больного, слабого, обречённого на смерть, заплакала. Начала причитать, вспоминая своего сына, погибшего на войне. Потом женщина принесла таз с водой и умыла меня. Сняла мою грязную, испачканную кровью рубашку и надела чистую.\- Сыночка моего эта рубашка,- со слезами в голосе призналась сердобольная казачка. И на прощание сказала:
- Ну вот, теперь ты приготовился предстать перед богом.
- Значит, я совсем плох, не выдержу, умру.- эти мысли не давали мне покоя.
Но, всё же, не терял надежду на выздоровление. На другой день я услышал, что завтра меня увезут за Урал.
- Значит, я совсем плох, не выдержу, умру. Эти мысли не давали мне покоя.
Но, всё же, не терял надежду на выздоровление. На другой день я услышал, что завтра меня увезут за Урал. Туда отправляли всех безнадёжно больных. Представленные самим себе люди умирали, и их закапывали в общие могилы. Так я узнал, что меня завтра увезут за Урал. А там- верная смерть. В этом я не сомневался и никаких надежд на то, что выдержу и выживу, не питал. Всё, смерть стоит у меня в изголовье. Настала ночь, никого нет, я один в пустых сенях, мне тяжело и физически, и душевно. Я умру, спасения нет. Вспоминаю Перекопное, маму, отца, друзей. Сердце сжимается нестерпимой болью. Я не хочу умирать, я хочу жить. Мысленно прощаюсь с мамой, отцом, братишками, Шурой Катетовым, со своей любовью. Слёзы бегут из глаз. Я измучен, обессилен. И, вконец измотанный, засыпаю. Душевные страдания сильнее физических. Уснул, готовый завтра принять свою смерть.
Но утром проснулся с лёгкой и бодрой головой. Мне легко. Я не болен, здоров. Поднимаю руки, сажусь- хорошо. Голова ещё кружится, но не болит. Значит, я здоров. Но пронзила мысль:
- Вот сейчас придут и не поверят, что я выздоровел. И увезут меня за Урал. Скорее надо быть здоровым.
Пытаюсь встать, но очень слаб. Ноги дрожат, голова кружится. Но ложиться нельзя. Иначе меня сочтут больным. И я ползу во двор. Оттуда- на улицу и сажусь на завалинку. Повторяю себе:
- Голову держи выше, улыбайся, вытри кровь с лица. Я слюнявлю подол рубашки и вытираю лицо. Улыбаюсь и начинаю громко говорить:
- Я выздоровел, у меня ничего не болит. А сам думаю: «Ну, вот так, хорошо. Теперь не повезут за Урал».
Утро идёт, а за мной никто не едет. Я успокаиваюсь окончательно. Теперь задача одна- поправиться и больше не болеть. Приходят товарищи, радуются искренне моему бодрому состоянию, что-то приносят из еды. Я ем, ем с жадностью. Поел и свалился спать. Встал выздоровевшим, окрепшим, хотя ещё слабым. Но я вырвался из когтей смерти.
Это был возвратный тиф. Болезнь обычно приходит три-четыре раза. А ко мне возвращалась неоднократно. Девять раз я болел тифом. И в каких условиях! Выдержал! Только после одного приступа оглох, ничего не слышал. Совершенно лишён звуков и информации о жизни. Как дурачок был- кто-то умер, а я о нём говорю как о живом. Удивляются, забывая о моей глухоте. Ох, как тяжело было глухим! В голове появился треск, свист, боли постоянные. Так я и остался на всю жизнь с этим шумом, болями в голове. Но слух начал восстанавливаться и восстановился процентов на восемьдесят, наверное. Постепенно я опять стал работать при складе. Мой новый начальник, прапорщик Яков Алексеевич,- бывший учитель, человек мягкий и добрый, случайно оказавшийся в белой армии,- начал посылать в командировки за снаряжением, давая под начало казахов с верблюдами.
И вот во главе группы из 10-15 человек я еду в крупную станицу Калмыково с документами на получение продуктов и снаряжения. На дворе ноябрь. Казахстан с его злыми ветрами, морозами и метелями. Продувает до костей. А на мне сапоги кожаные, штаны из мешковины, летняя рубашка и тонкий, на вате, пиджачок, на голове фуражка. Даже варежек нет. Сидишь на санях и дрожишь, сойдёшь в колею и бежишь, пока не согреешься. Один казах видя, как я мёрзну, закутал меня в мешковину в санях, теплее стало. Выдержал. Ехали два дня с ночёвкой в одной станице. Где ночевать? Нашли землянку и остановились в ней на ночь. Что это было за жильё, за хоромы? Большая казахская землянка с двумя подслеповатыми оконцами. Но в ней тепло, а это для меня было самое главное. Казах, жена его, трое голых ребятишек, старуха. На полу землянки большая кошма, посредине печурка с вмазанным в неё котлом. Убожество, грязь, спёртый воздух, паразиты. Казах в меховых штанах, в одной нательной грязной рубашке сидит на кошме, скрестив ноги по-восточному. За спиной у него два голых мальчишки. Сижу и я на кошме, тепло разливается по всему телу. Хорошо! Хозяйка готовит на ужин конину в котле. Варит долго. Мясо разваривается, превращаясь чуть-ли не в кашу. Хозяйка остужает варево. Все садятся на кошму. Хозяйка подходит к каждому гостю с медным тазом, чайником и полотенцем. Ставит передо мной, а потом и перед другими посуду. Я протягиваю руки. Казашка льёт в ладони из чайника воду. Споласкиваю руки, вытираю их полотенцем. Кончил мыть ладони. Сидим, нас человек 10-15 было, ждём. Варево остыло. Женщина наливает его в большую деревянную миску и подносит хозяину. Тот берёт посуду обеими руками и пьёт тёплое варево. Делает это не спеша. Напился, передаёт миску гостю. Тот пьёт также. Хозяйка доливает варево по мере того, как его выпивают. Доходит и до меня очередь. Я беру миску и пью из неё тёплое, вкусное варево из конины. Напился, перевёл дух и передал полупустую миску соседу.
Всё: насытились первым блюдом. Хозяйка достаёт из котла мясо. Оно разварено, как каша Женщина кладёт его в большое деревянное блюдо, поливает густым мясным раствором и ставит на середину нашего круга. Все начинают руками брать мясо и есть. Я быстро заметил, как надо брать мясо и как удобнее отправлять его в рот. Быстро слизываю мясную жижу, текущую по рукам. Едят казахи быстро, ловко. Я стараюсь не отстать, но не могу за ними поспеть. Руки их мелькают перед глазами. Едва я один раз усел запустить пальцы в миску, а они это проделывали трижды. Но наелся. Остались кости. Казах берёт чурбачок и топориком на нём рубит кости. Достаёт из них мозг, кладёт кусочек на ладонь и по очереди подносит каждому это лакомство. Гость быстро слизывает этот кусочек мозга с ладони казаха. Подносит и мне. Как и все, я быстро слизываю свою порцию. Обед закончен. В котле, в котором варили конину, готовят чай. В кипяток льют молоко, кладут сало и кипятят. Чай готов. Из котла его наливают в самовар, ставят на кошму, подают пиалы и пьём чай. Избушку освещает плошка с жиром и фитильком в ней. Спать. Где меня положат? Везде грязь, паразиты. Хотя и сам не обделён ими, но, тем не менее, боюсь «чужих» насекомых. Из уважения к моей персоне: начальник для них, они относятся ко мне с почтением. Я же с ними прост, приветлив и не играю в начальника. Не до этого мне. Притом, я один с ними что могу сделать? Да, и вообще, всегда приветлив с людьми, за что пользуюсь у них благорасположением. Положили меня в закутке землянки на тощем матраце, одеться дали кошму. Согрелся, наелся, напился, быстро уснул.
Встали рано и, не завтракая, поехали дальше. К вечеру были в Калмыково. Нашёл я ночлег для казахов, для себя. Идти по делам поздно. Лёг спать, легко закусив чем-то, данным мне казахами. Ночью почувствовал себя плохо. Заболел. Встал больной- начался очередной приступ возвратного тифа. Пошёл к начальнику, что-то получил, что-то погрузил на подводы- и всё: больше ничего не помню, потерял сознание, жар. Казахи привезли меня в форпост Горский и сдали моим товарищам. Очнулся я через несколько дней.
Почему казахи не оставили меня в Калмыково? Почему не бросили где-нибудь в пути? Зачем им надо было везти больного, без сознания? Не знаю. Пожалели, что был добр к ним. Или боялись ответственности: я же для них начальник. Не знаю, не знаю. Но меня привезли. Я выздоровел. И вновь оглох. Правда, слух потом восстановился частично. И опять я включился в работу.
Казнь красноармейцев.
Автор повести «Повесть о настоящем человеке» и других произведений, посвящённых годам военного лихолетья, писатель Борис Полевой справедливо подчёркивал: «Говорят, самые крепкие воспоминания оставляет пережитая опасность». Именно такие впечатления вынес от картины казни белоказаками пленных красноармейцев в период Гражданской войны В.И.Худяков. Вот как описал это событие сам очевидец:
«По нашим данным в плену у белых казаков было 22 500 красноармейцев. В живых осталось не более 2000 человек. Это, в основном те, кто, как и мы, попал в различные учреждения тыла белой армии. В форпосте Горский был лагерь военнопленных красноармейцев- большая площадь за селом, окутанная колючей проволокой, сараи, несколько домов. Вот в сараях, в неотапливаемых домах и находились пленные. Питания, можно сказать, никакого- кружка пшеницы на день. Все раздеты, разуты. Тиф, голод, а в зимнее время и замерзали. Всё это вело к массовым смертям. Вот обычная картина- на улице, в сопровождении конвоя, идут измождённые до предела, полураздетые пленные, человек десять. На плечах лопаты: идут копать могилы для убитых. А ещё страшнее, ещё ужаснее- для тех, кого поведут на расстрел. Однажды был свидетелем массового расстрела военнопленных. Раннее утро. Солнце только взошло. Утренняя прохлада, свежий воздух, настоянный на степном разнотравье, бодрят и радуют. Наша квартира находилась недалеко от лагеря военнопленных красноармейцев. Мне захотелось выйти на улицу и посидеть на завалинке. Это было в то время, когда я только-только ещё начал поправляться от злейшего приступа возвратного тифа. Из лагеря военнопленных доносился какой-то гул, шум, крики. И вот по улице ведут группу военнопленных красноармейцев. Метрах в двухстах от меня вырыты могилы, около них казаки-старики, производящие расстрел. Подводят к этому длинному, глубокому рву группу пленных и ставят на его край. Казаки приподнимают винтовки, офицер взмахивает шашкой и раздаётся залп. Пленные падают в могилу, палачи дают ещё залп по расстрелянным, лежащим в могиле. Потом даётся одиночный выстрел-сигнал в воздух, чтобы ещё вели новую партию пленных на расстрел. Из лагеря ведут 12 красноармейцев. Я посчитал, в каждой группе по 12 человек. В то утро, мне это запомнилось, расстреляли 72 человека
Страшная картина! Прошло вот уже 58 лет, а я всё это живо себе представляю. Вижу лица обречённых на смерть, свирепые лица палачей: расстреливали старики-казаки.
Вот в группе красноармейцев, идущих на расстрел, совсем молодой парень. Он ещё физически не ослаб, не измождён, не похож на скелет, обтянутый кожей. Парень хочет жить. Он не мирится с мыслью, что вот, вот сейчас будет расстрелян. А утро такое тихое, такое живущее жить и жить. И парень плачет! Весь содрогается. Он- весь страшное отчаяние. Его поддерживает товарищ. Парень останавливается, казак толкает его прикладом винтовки и зло кричит на него. Он идёт, поддерживаемый своим более сильным товарищем. А этот красноармеец уже не живой, он обмяк, его почти волокут двое пленных товарищей, все духовные и физические силы ушли на него.
Вот идут, молча, сурово глядя перед собой, пленные, сумевшие преодолеть страх смерти, они владеют собой. А вот в тельняшке матрос, красноармеец. Он кричит зло на казаков, грозит им кулаком. Его бьют прикладом, он падает, встаёт и продолжает вновь выкрикивать угрозу, страшную матерщину.
Жутко! Сердце обливается кровью. Жалко товарищей. Забыть этот крестный путь пленных к своей могиле, эти злобные лица казаков-конвойных, казаков, расстреливающих пленных, нельзя. Вот кончили расстреливать. Казаки деловито моют руки в ручейке, текущем неподалёку от места расстрела, и идут по домам завтракать. Кое-кто у них несёт свёртки вещей, снятых с пленных : перед расстрелом всех раздевают. Смотрю на лица палачей. Что на них? Ничего. Лица спокойные, угрюмо-злые и усталые- отработали и идут завтракать. И будут завтракать, ласкать детишек, решать житейские дела. Страшно!
Мелькает мысль: «Вот кто-нибудь из конвоя прихватит меня, втолкнёт в группу пленных, и вместе с ними также расстреляют». Я ёжусь, испуганно оглядываюсь, иду во двор и уже оттуда наблюдаю сцену расстрела. И делаю это не из праздного любопытства, а из сочувствия к своим товарищам, попавшим в беду.
Впоследствии я часто об этих казнях говорил, когда выступал с воспоминаниями. Всегда спорил с теми, кто пытался ещё оправдать белых. Расстреливали и мы, красные. Но если и расстреливали, то по суду, за тяжкие преступления, совершённые отдельными белогвардейцами.
Побег из плена.
Положение казаков плохое. Красная Армия и Чапаевская дивизия успешно наступают. Казаки отчаянно пытаются удержаться, но не могут. Едут беженцы, все избы в сёлах переполнены. Тиф безжалостно косит людей. Умерших не успевают хоронить. Они лежат мёртвые в избах, в сенях, во дворах. Страшная картина…
И вот в декабре, незадолго до освобождения, меня посылают за продуктами в штаб армии, который находился впереди нас, ближе к фронту. Дали мне пять подвод верблюдов с казахами, и я поехал. Всё также холодно, всё также я одет легко, всё также ничего нет из продуктов. Пытался найти ночлег в станицах. Нет, всё занято, переполнено, забито. На площади, на улицах костры, и около них- беженцы. Палатки разбиты, у саней лошади, покрытые, чем попало. А в домах здоровые и больные лежат вповалку. Я заходил в несколько помещений и везде наблюдал одну и ту же картину. Приехал в штаб, явился к начальству, к какому-то генералу с заявкой на продукты. А тот возмущается:
- Мы вывозим от вас всё, что можем. А вы хотите туда везти, красным. Они же наступают, а мы отступаем.
Радости моей не было предела. Бегут казаки, скоро придут наши. Надо быстрее возвращаться. Говорю своим напарникам:
- Поехали обратно в форпост Горский…
Казахи тоже рады. Выехали уже под вечер из Калмыково. Навстречу нам тянутся подводы с беженцами, воинские части, конные казаки. Мои спутники обеспокоены. Я под кошмой задремал. Слышу, что мы куда-то спускаемся, телом ощущаю толчки. Поднялся, осматриваюсь, что-то не похоже на знакомую дорогу. Урал замёрзший, мы едем на другую сторону реки. Что могу сделать с ними: я один, ночь, ничего не стоит стукнуть меня и сбросить с саней. Да и реку спустить можно. «Ладно, посмотрим». Казахи потом объяснили, что они боятся, что у них отберут верблюдов и повозки или угонят их самих отступающие казаки. Вот они и решили податься на другую сторону Урала в Бухару.
Едем долго, попадались какие-то землянки, что-то говорили с вышедшими из них казахами. Рассвело. Казахи остановились и сказали мне:
- Вот один из нас отвезёт тебя к Уралу. Ты перейдёшь реку и попадёшь в форпост. А мы поедем подальше от фронтовых дорог. Очень боимся, что отберут верблюдов и нас с ними угонят.
Я сказал «спасибо», и мы с одним из казахов поехали дальше.
Вот и Урал. Казах остановился и сказал, что здесь реку можно перейти, и я один найду дорогу в форпост Горский. А он поедет обратно, боится белоказаков. Я был благодарен великодушию этих людей, угнетаемых и презираемых казаками. Меня подвезли к Уралу, и скоро дойду до форпоста и вновь увижу своих товарищей.
Перешёл реку, лёд был прочный. Нашёл дорогу в форпост Горский и быстро зашагал: очень замёрз, надо было на ходу согреться. Вот одна станица на моём пути. Попытался найти место в избе где-нибудь. Куда там- всё забито до предела. Никому никакого дела не было до меня. И я пошёл дальше, собрав все физические и духовные силы. К вечеру был в форпосте. Подходя к дому, где мы, все пленные, жили, заметил, что склад наш разгромлен, двери в кладовой открыты, окна выбиты.
Товарищи обрадовались моему появлению:
- Ну, мы уже думали, что пропал ты, Василий Иванович. А у нас всё растащили. Но и мы кое-чем попользовались.
И они показали мне пачки мыла, табака, кульки изюма и ещё что-то. Дали и мне кусок мыла, пачку табака. Приготовили ужин. Да ещё какой! Давно я подобного не видел и не ел. За ужином договорились бежать этой ночью в Бухару, а оттуда к своим. Мне сказали:
- Ты, Василий Иванович, устал, слаб сейчас, а предстоит тяжёлый путь. Оставайся здесь, тебя казаки не погонят с собой. Ты не похож на пленного. Ничего, спрячешься и дождёшься своих.
Я не стал настаивать: действительно, ослаб, устал. Да и не хотел быть обузой для своих товарищей.
И вот ночью односельчане-обозники, простившись со мной, ушли к Уралу. А через реку- находится Бухара. Наш начальник всё знал. Более того, он сам советовал пленным бежать скорее. Мы его уговаривали отправиться вместе с нами.
- Боюсь, меня красные расстреляют,- отрицательно покачал головой Яков Алексеевич.
- Мы поручимся за вас. Не бойтесь! – искренне убеждали обозники этого доброго человека.
Нет, не посмел наш начальник бежать, оставил нас самих устраивать свою судьбу. Товарищи мои ушли, а я рано утром перебрался в баню на огороде, на берегу Урала. Хозяйка меня там схоронила, набросила накладку на запор двери. Внешне баня закрыта снаружи, нет в ней никого.
Светает. Смотрю в оконце бани, выходящее на широкую улицу станицы. По дороге идут подводы, везут пушки, отступают белые части. Все в нервном напряжении. А потом начался артиллерийский обстрел станицы, пулемётная и ружейная стрельба. Снаряды рвутся впереди бани. Красная артиллерия бьёт по дороге, по которой отступают белоказаки. Но вот один снаряд разорвался недалеко от бани. Земля дрогнула, стекло в оконце задребезжало. Ну, что это за безобразие! Этак, пожалуй, баню со мной поднимут на воздух. Стрельба усиливается. Стараюсь по звуку определить, где наши части. Близко, близко! Только бы казаки меня не обнаружили. Я знал, что белые никого из мужского населения не оставляют в сдаваемых станицах. Угонят и меня.
Но вот стрельба становится совсем близкой. По улице в панике бегут, мчатся повозки беженцев, коней отчаянно хлещут кнутами. А вот остановилась пара лошадей в повозке, на ней завязанные верёвками тюки. Хозяин спрыгнул с возка, отстегнул постромки, вскочил на одну из лошадей и умчался, бросив всё своё добро.
По всему видать, что вот-вот появятся красные. Движение становится всё меньше, стрельба утихает, улица опустела. Тишина! Что делать? Выскочить и бежать навстречу своим? А вдруг в станице ещё казаки, а наши части не вошли в форпост? Нет, надо подождать. Я весь- напряжение, ожидание. Сердце бьётся тревожно: надежда сменяется боязнью. Не отрываю глаз от оконца бани. Вот появился всадник, другой, не поймёшь, кто это. Я в нерешительности. А вдруг это казаки? Но вот показалась группа всадников, хвосты и гривы лошадей у которых подрезаны. «Наши, наши!»- мелькает радостная мысль. У казакам лошадям хвосты не подрезают. Показался кавалерист в будёновке. Все сомнения отпали- в форпост пришли красные. Я рву дверь, выскакиваю наружу и бегу навстречу своим освободителям. Вот и улица, по ней едут конники.
- Здравствуйте, товарищи!- кричу я и машу фуражкой. Бегу по улице и вновь приветствую.- Здравствуйте, товарищи!
Какой-то красноармеец, приняв меня за казачонка, сказал:
- Какие мы тебе товарищи?
- Так я же пленный!- кричу в ответ.- Ваш товарищ!
Бегу, сам не зная, куда. Радость освобождения несёт на своих крыльях вдоль улицы. И вдруг меня кто-то в красноармейской форме обхватывает, обнимает, целует:
- Вася, Василий Иванович!
Смотрю на красноармейца, ошеломлённый такой встречей.
- Николай!- изумлённо кричу в ответ.
Это наш обозник, бежавший из плена раньше остальных. Мы рады встрече. Я бесконечно счастлив, что попал наконец-то к своим товарищам. И, конечно, тому, что встретился с Николаем, товарищем по плену.
- Пойдём к нам, сейчас будем готовить обед.- сказал он.
- Пойдём, пойдём!- радостно говорю в ответ.
Вот и дом, в котором поставили группу красноармейцев, в их числе и Николая. Он говорит, что я его товарищ, бежавший из плена. Мне жмут руку, хлопают по плечу:
- Молодец, парень!
Несут кур. Где их взяли? Война. Трофеи. Щиплют, отдают хозяйке, которая варит куриный суп. А когда я ел хороший суп? Во время плена был всегда или голодный, или полуголодный. Помню, как будучи отчаянно голодным, отправился в одной станице просить кусок хлеба. С трудом принял такое решение. Совестился, стеснялся, да и самолюбие не позволяло. Но голод- не тётка, заставил меня это сделать. Зашёл в один дом. «Подайте, Христа ради, хлеба!» В ответ слышу: «У самих ничего нет». Второй дом. Та же картина. Третий дом. В комнате сидит казак. Попросил, хозяин сердито ответил: «Много вас здесь шляется. Иди, нет ничего!» Зашёл в один дом на кухню. Никого нет, пахнет аппетитно свежей выпечкой. На столе- пироги, недавно вынутые из печи. У меня в голове закружилось при виде такого богатства. Никто не появился. Я кашлянул. Нет никого. В голове мелькнула мысль: «Взять, да и отломить кусок пирога и уйти». Но… а вдруг заметят. Казаки злые, ведь убьют! Да и нельзя красть. Это было бы воровство. Нигде я не выпросил тогда ни единого кусочка хлеба. А тут, в кругу товарищей,- жирный суп из курятины, мясо куриное. Хлеба сколько хочешь. Нарезали его большими ломтями. Ем, пот прошиб, всё во мне ликует! А Николай угощает меня:
- Ешь, ешь, Василий Иванович, отъедайся за все голодные дни.
Наблюдая, как я управляюсь с обедом, поинтересовался:
- Ну, что будешь дальше делать?
- Домой поеду!
- Домой?
- Да, да, домой хочу поехать. Там ведь ничего не знают, что со мной.
- А как ты поедешь?
- Буду продвигаться до Уральска, а там по железной дороге.
- Слушай, Василий Иванович, а я тебе отдам своего коня с седлом. У меня другой сейчас. Бери и поезжай на нём.
Я задохнулся от радости. Поеду домой на коне. Прибуду в село Перекопное на коне. На коне!
- Давай, давай, Николай!
- Пойдём.
Пошли во двор. Под сараем несколько лошадей жуют сено. Николай отвязывает высокого серого мерина и отдаёт повод мне.
- Вот твой конь, Василий Иванович. Сейчас я тебе седло дам.
Достаёт кавалерийской седло и даёт мне. Я бесконечно рад! Седлаю. Серый надувает живот, когда я потягиваю подпругу. Кончу подтягивать, застегну, серый втянет живот, и седло болтается на спине. Мучаюсь. Николай помогает мне седлать коня. Бьёт по животу серого, когда тот старается надуться. Оседлал. Я взбираюсь на своего коня и еду к себе на квартиру. Еду- счастливый. Весь в мечта, как я появлюсь в Перекопном. Как все удивятся моему приезду на коне. Во дворе своей квартиры расседлываю серого, привязываю его к колоде в конюшне. Глажу коня, никак не налюбуюсь на своего красавца. Достаю сена, даю. Потом насыпаю овса и кормлю своего боевого друга, с которым нам предстоит совершить путь до Уральска, а от Уральска до Перекопного. Это что-то около 500 километров. Пятьсот километров верхом, зимой! Ну, я мальчишка, глуп ещё, фантазёр! А Николай-то что смотрел. Он ведь взрослый человек, должен был всё понять, правильно рассуждать, хотя он мне говорил, что в станицах установлена Советская власть, и мне будут содействовать добраться до дому. К вечеру пришёл Николай проститься со мной.
- Ты как поедешь? Верхом. А не лучше ли тебе в санях ехать? Я достану тебе и сани, сбрую. Запряжём только серого и поедешь.
В санях приехать домой- проза. Не произведёшь впечатления. Другое дело- на коне, верхом.
- Нет, Николай, я верхом поеду.
- Ну, смотри, как хочешь. А у тебя тёплая одежда есть?
- Нет.
- Да разве можно ехать в такой одежде? Ты же сразу замёрзнешь. Пойдём, найду тебе, во что одеться.
- Пойдём.
И мы пошли. Вот большой дом, двор, забитый повозками со всяким добром. Николай открывает один сундук, роется в нём и достаёт мне шаровары. Потом в другом тюке находит пальто с меховым воротником, пиджак тёплый, но лёгкий, короткий, валенки, шапку, варежки.
- Бери, оденешься, будет тепло, никакой мороз не проймёт.
Я рад, бегу на квартиру. Раскладываю всё и не нарадуюсь. Примеряю одежду, всё почти на меня.
- Это где же ты взял такие вещи?- спрашивает хозяйка.
Я ей рассказал, где мы с Николаем добыли одежду.
- А ты знаешь, что хозяева вещей лежат больные в избе?
Оказывается, эти пальто, валенки, шаровары- всё, что я принёс, принадлежит хозяевам. Это я украл у больных. Стало стыдно и нестерпимо больно: обидел больных, обокрал. Я всё собрал, связал, оставил себе только варежки и лёгкий пиджачок и понёс всё в дом, в котором были хозяева этих вещей. Уже полутемно. В комнате лежат люди, стонут.
- Вот я вам принёс ваши вещи. Я не знал, что они ваши, я думал, что всё это брошенное.
И положил все вещи на пол. В доме молчание. Никто не отозвался на моё появление, на мои слова. Я вышел, затворил плотнее дверь. «Что с ними будет? Ведь они помрут все». Жалко их стало, но на душе легко, я не воспользовался тяжёлым положением и не взял у них их вещи. Ну а варежки и пиджачок взял у них, не стыдно, это пустяк. Пришёл на квартиру и сказал хозяйке: «Отнёс всё, отдал. Больные все они».
- Ну, вот и хорошо.- ответила казачка.
Остался я в кожаных сапогах, почти на босу ногу. Замёрзну, в валенках то было бы хорошо…Только где их возьмёшь? И решил я сшить себе из кошмы калоши на сапоги. Идея! Вот это здорово будет! И начал резать, кроить, шить себе тёплые калоши. Резал, кроил, шил, примерял, но…как я ни старался, даже в пот себя вогнал, у меня ничего не получалось. Выходило что-то непрочное, неудобное, никак на сапоги не умещающееся. Понял, что ничего не сделаю. Бросил: ладно, замёрзну- побегу и разогреюсь. Ночь, не спится, хожу к коню и даю ему: то сена, то овса. В полночь поднялась стрельба, становящаяся всё ожесточённее. В голове мысль: «Как бы опять не угодить в плен к казакам». Сердце забилось тревожно и больно. Вышел на улицу, всматриваюсь: всё спокойно, стрельба где-то в стороне и скоро стихла. Успокоился. Спал мало и чутко. Светает. Собрал все свои нехитрые пожитки в вещевой мешок. Его мне сё тот же Николай дал. В мешок положил мыло (вот мама обрадуется такому подарку), пачку табака- это для себя. Была у меня книга какая-то, и её в мешок. Мало? Ну, где возьмёшь больше. Из еды ничего не было. Простился с хозяйкой и пошёл седлать своего серого. Холодно, вьюжно. В варежках не оседлаешь. Снимешь их- руки мёрзнут. Оседлал коня, ногу в стремя вдел. Серый хитрый: когда я подтягивал подпругу, то он надувал живот. Кончишь подтягивать, то вновь подбирал его. Вот седло-то под моей тяжестью и сползало набок. Я помню, как Николай по животу кулаком бил коня, чтобы тот не надувался. И я усердно тычу кулаком в живот серого, подтягиваю подпругу, дую на озябшие руки. Оседлал, опять ногу в тремя. Держится седло, я вскочил на коня. Хорошо! Я готов к большому походу. На коне еду домой. Радость захлёстывает меня: я ликую. Поехал. Улыбаюсь встречному красноармейцу, машу рукой часовым на крыше одного сарая. Выехал из форпоста. Степь, да степь кругом…Всё белым-бело. Морозно, подул ветер, еду тихо. Надо торопиться, чувствую, что уже начал мёрзнуть: сапоги кожаные, в железных стременах ноги пристают к подошвам. Пиджачок лёгкий, не греет. Тронул коня- идёт шагом, понукаю, потом хлещу концом повода узды, затрусил, бежит, не даю ему останавливаться. Вот так, вот так, пошёл, пошёл. Усиленно прыгаю в седле, чтобы немного согреться. И вдруг мой конь поскальзывается, падает на колени, я лечу через его голову. Серый не подкован, дорога скользкая, бежать ему трудно. Поднял коня, повёл его в поводу. Иду и подпрыгиваю. Тащу серого, а он не тянется на поводу, еле передвигает ноги. Надо ехать. Взбираюсь на коня. Седло опять съезжает набок. Мучаюсь, подтягиваю подпругу, сажусь на своего серого.
Сел в седло, поехал, мёрзну, погнал коня. Тот снова упал. Опять поднимаю его, веду в поводу, опять сажусь, гоню падает. Всё, понял, что не добраться мне на нём не только до Перекопного, но и до ближайшей станицы я не доеду, замёрзну. Что делать? Попробовал гнать серого, не бежит, еле передвигает ноги: видит, что я бессилен что-нибудь сделать с ним, ну, и еле идёт. Хлопаю его руками, концом повода, это для него нечувствительно, и он никак не реагирует на мои усилия заставить его бежать. Я окончательно замёрз. Надо бросать тащить за собой коня, иначе пропаду, замёрзну. Остановился, снял седло, узду с серого и положил их на снег у дороги. Кошму из-под седла взял с собой, привязал её к вещевому мешку. И, простившись с конём, пошёл вперёд. Иду быстро, серый за мной, я его отгоняю- он не уходит.
- Ну, иди со мной,- ахнул я рукой,- шут с тобой!
Побежал, отогреваюсь немного, серый заметно от меня отстал. Кругом безлюдная степь, мороз, тянет противный ветер. Надо идти, чтобы до ночи добраться до какой-нибудь станицы. Хочу есть, но с собой ничего нет. Тешу себя надеждою:
- Приду в станицу, будет ночлег. И неужели я ничего не найду поесть!
Впервые осознал всю тяжесть своего положения. В душу закрался страх погибнуть на пути к дому. И вдруг увидел, что меня догоняет лошадь, в санях сидят двое мужчин. В голове мысль:
- Доеду сними до станицы.
Поравнялись со мной. Едут быстро, я бегу и прошу седоков:
- Товарищи, подвезите до станицы.
Молчат и едут всё быстрее. Я догнал сани, схватился за них.
- Отойди, ну, кому говорят!- сердито крикнул в ответ на мою просьбу один из седоков.
Я продолжаю бежать за санями, держась за них. И, получив удар черенком кнута, невольно отдёрнул руку. И опять один в неприютной и такой холодной степи. Зло посмотрел на удаляющуюся повозку.- Сволочи, жалко подвезти меня! – обозлённо шепчу я, потирая руку, по которой пришёлся удар кнутовища.
Надо идти быстрее, почти бегу. Что это? В стороне от дороги, метрах в двухстах вижу: повозка, верблюд лежит. Надо посмотреть, что это? Дошёл. Верблюд замёрз. В повозке мёртвый парнишка моих лет. Тоже замёрз. Больше ничего нет. Мне бросились в глаза валенки на мальчике.
- Вот это кстати,- подумал я.- Да мне валенки, ох, как нужны.
А ели их возьму, так это можно: ведь мальчик замёрзший.
И начал стягивать с мёртвого валенки. Не поддаются, прикипели к ногам. Как ни старался снять, ничего не получилось. Я с сожалением бросил их стягивать. Порылся в кибитке, нашёл старую книгу церковного содержания, взял её и положил в свой мешок. Снимать пиджак с мальчика не стал. А голову сверлила мысль:
- Какая трагедия…Кто же тебя, мальчик, бросил в степи одного? Почему ты замёрз?
Тревожно стало на душе: и со мной может быть такой конец. Нет, я не поддамся ни холоду, ни страху! И я зашагал вперёд. Вперёд, только вперёд.
Вот, наконец, показалась станица. Я воспрял духом: будет и ночлег, и еда, и я пойду дальше. Станица. Иду по улице: безлюдно, во дворах слышу говор, движение. Заглянул в один из них, надо же, наконец, искать себе ночлег. Во дворе красноармейцы снимают с повозки буханки хлеба. А ведь как я голоден!
- Товарищи, дайте хлеба, пожалуйста. Я пленный. Иду домой. У меня ничего нет.
Один из красноармейцев даёт целую буханку:
- На, ешь!
У мня в руках целая буханка мёрзлого хлеба. Я рад, воспрял духом. Теперь нужен ночлег.
- Товарищи, а где мне переночевать?
- Да вон, хата, там наши товарищи. С ними и переночуешь.
Я иду в избу. Здороваюсь, тепло, раздеваюсь. Никто меня не гонит. Наоборот, сажают пить чай. За столом несколько красноармейцев. Я подсаживаюсь к ним. Стараюсь отрезать от своего каравая ломоть. Нет, не удаётся. Хлеб замёрз. Иду в сени и топором отрубаю половину буханки. Потом делю её ещё на две части. Мне дают горячий чай в железной кружке, сахар. Я мочу хлеб в кипятке. До чего же вкусен чай, размокший хлеб. Ем с удовольствием, прихожу в блаженное состояние человека, отогревшегося, утолившего свой голод, обретшего крышу над головой. Около- добрые товарищи. Всё будет хорошо.
Боец Чапаевской дивизии.
Меня расспрашивают, я рассказываю о своей судьбе.
- Ну, и что же делать дальше будешь?
- Пойду домой.
- Тебе надо идти к коменданту нашего полка, он тебя отправит в Уральск. Пойдём к коменданту.
- Пойдём. Вот спасибо, товарищи!
Мы пришли к коменданту полка. Между нами состоялся примерно такой диалог.
- Здравствуйте!- обращаюсь я к командиру, который был начальником комендантской команды.
- Здравствуй!
Я начинаю ему рассказывать, как попал сюда, что иду домой, нуждаюсь в помощи в передвижении.
- Грамотный?- задал вопрос комендант.
- Окончил высшее начальное училище. Мне уже 17 лет.
- Тебя как звать-то?
- Вася.
- Вот, что, Вася, поступай-ка добровольцем в нашу Чапаевскую дивизию. Кончим с белыми, ты поедешь домой как боец Красной Армии. А сейчас мы тебя обмундируем, наешься каши, сводим в баню. А нам нужен грамотный человек.
Чапаевская дивизия. Я уже много о ней слышал. И когда был в Саратовском полку, и в плену казаки говорили о ней со злобой и руганью. Я буду чапаевцем, закончу воевать и приеду домой. Эти мысли замелькали у меня в голове. И быстро решил, что это будет лучше, чем я приду домой, не повоевав, как следует, с беляками, да ещё в рядах Чапаевской дивизии.
- Хорошо, я прошу принять меня добровольцем в Красную Армию.
- Вот и молодец!
Меня отдали на попечение комендантской команды. Красноармейцы повели меня в баню, в которой мылись и сами. Принесли мне туда нательное бельё, военные брюки, гимнастёрку, портянки, сапоги, шинель. Словом, всё казённое обмундирование. Постарались новые мои товарищи, всё достали. Мылся я в бане зверски, как уехал из дому, в ней ни разу не был. Со мной находился один из красноармейцев. Тёр он меня мочалкой и всё приговаривал:
- Вот так-то лучше будет, Василий Иванович, с нам не пропадёшь. Белой казаре скоро конец будет!
Я распарен, доволен, счастливо улыбаюсь. И до чего же добра ко мне жизнь! И до чего, в конце концов, она хороша!
Вымылся, всё моё снаряжение бросили на снег, а я оделся во всё новое военное. Что-то подвернул, что-то подтянул на себя и предстал перед товарищами бойцом комендантской команды 217 стрелкового полка имени Пугачёва 25 стрелковой имени В.И. Чапаева дивизии.
За столом уже стоял котелок обещанной каши. Я ем кашу, пью чай. Всё стало на свои места. Всё будет хорошо. А уж вновь в плен я не попаду. Нет, теперь мне известно, что это такое! Знаю, как надо биться, чтобы не попасть опять в плен. И впервые засыпаю спокойно, уставший, довольный, сытый, в чистом белье».
Краткие сведения о воинской службе чапаевца Василия Ивановича Худякова мы почерпнули из его переписки с Петром Семёновичем Евлампиевым.
«Дорогие товарищи из редакции «Учительской газеты»,- обратился к сотрудникам печатного органа сельский педагог 14 февраля 1957 года.- Ваша газета помогла найти моего комиссара в годы Гражданской войны из Чапаевской дивизии. Газета от 9 февраля 1957 года №18 в статье «Легендарная слава» упоминает о Петре Семёновиче Евлампиеве, комиссаре Пугачёвского полка Чапаевской дивизии, ныне работающего в Промышленном банке в Москве. Это мой комиссар. Я 37 лет пытался узнать о нём что-либо, и вот узнал. Это для меня большой праздник. Убедительно прошу вас, доставить ему моё письмо к нему, которое я посылаю к вам письмом. Прошу вас- не откажите. С благодарностью к вам Василий Иванович Худяков, директор Царевщинской средней школы.»
Публикуем текст этого письма.
«Дорогой Пётр Семёнович! Наконец-то я нашёл Вас. Радости моей нет конца. Передо мной газета и скупые строчки: «Вслед за М.А. Поповой на вечере выступил комиссар Пугачёвского полка Чапаевской дивизии Пётр Семёнович Евлампиев, ныне работник Промышленного банка в Москве». Так мой комиссар Пётр Семёнович жив! Ведь прошло 37 лет с тех пор, как, тогда глупенький мальчишка 17 лет, был у Вас, Пётр Семёнович, информатором вместо Козырева…Вы взяли меня «прапорщика» Василия Ивановича, как называли в шутку меня в шутку за мой китель товарищи. Уральский фронт- Сахарная, Гурьев, помню наши сводки «Моральное состояние бойцов»…вот и такое-то состояние- не совсем понятное для меня понятие. Помню, Вы дали мне в Гурьеве нахлобучку за то, что я сказал пароль одному бойцу, не думая, что это- серьёзное дело. Заболел я тифом, возили меня по госпиталям, но некуда было всунуть: полно больных, а Вы выхаживали меня на квартире- выходили. Всё это было давно, кажется, что всё это было сном. Но, дорогой Пётр Семёнович, я всегда Вас вспоминал. Пытался узнать о Вашей судьбе от старых чапаевцев. Делал о Вас запрос в Чапаевский музей города Пугачёва, ездил туда. Но ничего о Вас я не узнал. Вот наступило 70-летие В.И.Чапаева. Я начал читать все материалы о нём, надеясь на то, что, может быть, что-нибудь промелькнёт о моём незабываемом комиссаре. И вот в «Учительской газете» я прочитал о Вас, Пётр Семёнович. Вы выступали в МГУ у студентов. Радости моей нет конца. Душа поёт: Пётр Семёнович Евлампиев.
Вы, возможно, забыли меня, Пётр Семёнович. Это- естественно. Напомню. Я был у Вас информатором вместо Козырева, который, кажется, заболел. До этого я был в плену у казаков. В декабре 1919 года из станицы Сахарной бежал от них. Думал, мечтал попасть домой, но затем поступил в 217 стрелковый полк имени Пугачёва в санитарную часть, потом в комендантскую команду, из неё Вы и взяли меня к себе информатором военкома полка. Василий Иванович Худяков. Помню себя в офицерском кителе, лаковые офицерские сапожки, шёлковая красная рубашка, пояс из золотых нитей, казацкие шаровары с лампасами, щёгольская фуражка- картинка, загляденье. Молод был, глуп был, не удовлетворял Вас как информатор, и Вы после моего выздоровления перевели меня в какую-то роту и взяли к себе другого информатора. Знаю, что Вы были на Польском фронте и лежали в Москве с моим школьным товарищем Илюшей Уполовниковым, через него узнали обо мне и кланялись мне. Когда Илья мне об этом говорил, я был приятно обрадован, растроган: помнит меня Пётр Семёнович! Вас я всегда, всегда постоянно вспоминал. Мечтал о встрече с Вами, Пётр Семёнович. Так вот я Вас нашёл, Пётр Семёнович, а Вы помните меня? Или время сгладило воспоминания обо мне, маленьком человечке? Это ведь маленький эпизод в Вашей жизни. Да, много воды утекло с тех пор. Несколько слов о себе, сухих анкетных данных. Сейчас мне 54 года. А Вам, Пётр Семёнович, лет на десять должно быть больше. Имею два высших образования. Директор средней школы, член КПСС, имею 7 детей, трёх внуков. Работаю хорошо, известен, представлен к присвоению звания заслуженного учителя.
Жизнь моя была неровная, тяжёлая. Один подлей оклеветал меня, а я не мог доказать свою невиновность и был исключён из партии в 1929 году, а в партию я вступил в 1925 году. Это исключение было тяжёлым для меня, и последствия- тяжёлые. Не доверяли, снимали с работы в 1934 году, в 1937 году. Был маляром, хотя окончил два вуза- университет и педагогический институт, занимался научной работой, подавал надежды, но исключён из партии за принадлежность к троцкистской оппозиции. Пришлось уйти с научной работы. Пошёл в школу, и вот 30 лет воспитываю молодое поколение. В 1942 году вновь вступил в партию, а клеветника, испоганившего мою жизнь, не найду. Ну, чёрт с ним! На жизнь я не жалуюсь, работа с детьми- работа благородная и благодарная. Я ей живу и ни на что другое не променяю. В этом- моё счастье, моя радость, смысл и цель моей жизни. Семья у меня большая и на редкость дружная. 17 лет живу в селе Царевщине Балтайского района Саратовской области. Все 17 лет- директор школы. Для первого к Вам письма, Пётр Семёнович, довольно. Большой у меня праздник на душе, очень большой. Пётр Семёнович, я Вашего адреса не знаю, посылаю Вам это письмо через редакцию «Учительской газеты». Надеюсь, что оно попадёт к Вам. Будьте здоровы Пётр Семёнович. Жду с нетерпением от вас весточки. До свидания, дорогой незабвенный Пётр Семёнович. Не забудьте сообщить свой адрес.
Ваш Василий Иванович Худяков.
Мой адрес:
Село Царевщина Балтайского района Саратовской области. Средняя школа.
14 февраля 1957 года.
Моя послевоенная жизнь.
Вновь вернёмся к биографии героя, изложенной им самим.
«Окончилась моя военная служба- три года находился в частях Красной Армии, Народно-Революционной Армии на Дальнем Востоке. На всю жизнь остались у меня живые связи с нашим комиссаром по 217 Пугачёвскому стрелковому полку 25 Чапаевской дивизии Петром Семёновичем Евлампиевым. Вот и книга «Легендарная Чапаевская», написанная Н.М.Хлебниковым- генерал-полковником, Героем Советского Союза, хорошо мне знакомого по Чапаевской дивизии на Уральском фронте, а сейчас в дни встречи чапаевцев в Москве с Петром Семёновичем Евлампиевым, нашим комиссаром, и Е.И.Володихиным. В этой книге есть фотография, где и я снят в президиуме торжественного собрания по случаю 85-летия В.И. Чапаева. Вот оно- свидетельство моего боевого прошлого в годы Гражданской войны.
Я свободен от службы в армии. Хорошо? Конечно, хорошо почувствовать себя свободным от жёсткой воинской дисциплины. Но следует заботиться о себе теперь самому. И кушать надо, и одеваться на заработанные деньги, и за квартиру платить. В общем, я свободен, могу жить, как хочу, и как требуют условия.
Как сложилась моя дальнейшая судьба? Был приказчиком у купца Сергея Никитича Валова. Лавочка у него была небольшая, но торговля шла бойко. Сергей Никитич имел большой дом на Горной улице Читы, свою лошадь с дрожками. Я жил в его доме, на хозяйских хлебах и получал, кроме жилья и питания, 20 рублей в месяц. Это на Дальнем Востоке, в Дальневосточной Республике, были хорошие деньги. Монеты ходили только золотые, серебряные и медные царской чеканки. Бумажных денежных знаков не было. Хозяин скоро убедился, что я хороший работник. А главное- человек честный. На самом деле, мной исповедовался принцип- ничего не брать, не заработанного своими руками. Никогда, ни при каких обстоятельствах, не пользовался чужим. И я, служа приказчиком у купца, пользуясь его доверием, а впоследствии став полным хозяином лавки, даже пачку папирос, взятую себе с полки, записывал в свой расход или клал стоимость её в кассу.
Хозяин, видя, что великолепно справляюсь один с торговлей и вполне надёжный человек, стал вообще уходить из лавки. Целыми днями он гулял в кабачках или, придя пьяный, валился за прилавок и спал до закрытия лавки. В 6 часов вечера я закрывал лавку, сажал в пролётку хозяина, и тот уезжал домой. А мне с дневной выручкой в 150-250 рублей в мешочке, с ручной гранатой-лимонкой приходилось бежать на рабфак. Именно бежать, чтобы поспеть к вечерним занятиям. Немного почистив костюм, наскоро закусив каким-нибудь бутербродом, я торопился поспеть к началу занятий. Проходя мимо Читинского государственного университета, всегда приостанавливался, жадно смотрел на двери вуза, на входящих в них молодых людей и тяжело вздыхал: какие счастливчики, учатся в университете, студенты. Само слово «студент» ассоциировалось у меня с высшей духовной культурой, было святым, пленительным, влекущим. И я часто говорил себе: «Клянусь, что буду студентом». И эта клятва поддерживала меня в надежде окончить рабфак и поступить в вуз.
Рабфак. Занятия 4 часа- с 7 до 11 часов вечера. А вставал я в 6 часов утра, чтобы собраться, позавтракать, запрячь лошадей, доехать до базара, где была лавочка. С 6 утра до 11 часов вечера был вне дома. На квартиру приходил в двенадцатом часу ночи. Ужин, подготовка уроков и сон. В постель падал обессиленный. Но выдержал: молодость всё преодолевала.
Но вот жизнь моя ещё раз круто изменилась- были работа, крыша над головой, обеспеченный стол, зарплата приличная. И всему этому наступил неожиданный конец. Хозяин, убедившись, что я работник абсолютно честный и на меня можно во всём положиться, совсем забросил лавку. Я стал в ней полным хозяином: день торгую, вечером учусь. Приходя с занятий, отдавал деньги в мешочке хозяйке или хозяину, если тот к тому времени просыпался. Мог бы я от дневной выручки в 150-250-300 рублей брать себе 10-20 рублей? Конечно, мог, и это было бы незаметно. Но у меня мысли об этом не возникало. Я даже пачку папирос не брал бесплатно, не говоря уже о том, чтобы взять 10-20 рублей. А если бы брал, то обеспечил бы себе безбедную жизнь на несколько лет.
Так вот, подошла годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Заявил хозяину:
- Сергей Никитич, завтра большой праздник. Закроем лавочку пораньше. Я вывешу красный флаг, и мы поедем вместе домой. Занятий в этот день на рабфаке не будет.
Так и сделал: закрыл лавочку, деньги взял хозяин (он был трезвый), вывесил флаг, запряг лошадь и приготовился ехать домой. Настроение предпраздничное, светлое и сулящее баню вечером сегодня, и целый день свободный завтра.
- Подожди, Василий Иванович, я сейчас приду.- сказал хозяин и ушёл в ресторанчик.
Жду. Нет его. Позвал. Хозяин ответил: «Сейчас». Опять жду. Нет. Меня зло взяло:
- Да, что я ему, кучер что-ли! Буду я его ждать ещё, вечер себе портить, один приедешь!»
Привязал лошадь и ушёл домой пешком. Вымылся в бане, сижу, чай пью, распаренный, чистый, умиротворённый. Есть время почитать вечером и выспаться сумею: завтра праздник, лавка закрыта. Раздаётся стук в калитку: приехал хозяин. Увидев меня, сидящего за столом, начал сквернословить и ругаться:
- Как ты посмел оставить хозяина одного?! Ушёл и лошадь бросил?
Я молчу: пусть себе ругается. Он всё больше распаляется . Очевидно, хозяина задело то, что я никак не реагирую на ругань, не приношу извинения, что оставил его одного. И вдруг меня словно кнутом хлестнули.
Хозяин закричал:
- Жулик, ты!
Меня от этих слов как пружиной подбросило. Я выскочил из-за стола, подбежал к хозяину и, задыхаясь, выкрикнул:
- Жулик, ты.- повторил тот.
И не сдержавшись, ударил лавочника изо всей силы по лицу. Тот полетел на пол, я его начал молотить на полу и кулаками, и ногами. Меня начали оттаскивать от него, я сопротивлялся:
- Я тебе дам- жулик! Мерзавец!
Хозяин выбежал во двор. Вернулся с ломом. Я схватил стул:
- Ну, походи, разобью твою голову!
Испугался лавочник. Замолчал, лом бросил на пол, сел на стул, начал плакать и причитать:
- Где это видано, чтобы приказчик лицо хозяину был?
Я не стал слушать дальше его жалобы на новые времена, когда приказчикам позволено бить хозяина.
Наутро заявил хозяину:
- Я больше не работник тебе. Ухожу на другую квартиру, делай расчёт.
Хозяин, проспавшись, понял, что я не хочу больше у него работать. Стал меня просить остаться. Дескать, он был неправ, просил извинить его. Но я был непреклонен. Через профсоюз взыскал с лавочника 50 рублей за отпуск, выходные. Получил за месяц зарплату и ушёл, найдя себе другую квартиру.
Начались поиски работы. Копал огороды у частников, малярил немного и переплетал книги. Вот где пригодилось моё переплётное мастерство, которому я научился у Александра Андреевича в Перекопном. Я переплёл личную библиотеку А.И.Бек- зав. Рабфаком, а потом много книг из университетской библиотеки, где она начала работать. Анна Ивановна- замечательный человек. Она интересовалась моей судьбой и давала возможность заработать на жизнь. Потом А.И. Бек придёт мне на помощь в Иркутском университете.
Родной брат Федя.
В нашей семье росли четыре брата. Ваня, 1895 года рождения- старший брат. В моих с ним годах было семь лет разницы. В молодости это имело большое значение. Мы были на почтительном расстоянии друг от друга. Да и учился Ваня в Покровске (ныне город Энгельс), а потом в Аксае в мореходном училище. Дома он жил мало. Паня- самый младший наш брат. Был от меня далёк и по возрасту, и по складу характера, и по духовному содержанию. Школу Паня бросил, с пятого класса не учился, стал сельским парнем. Любил выпить, круг его интересов был далёк от круга моих интересов. Федя- средний брат. Он был моложе меня на 1,5 года. Мы оба учились в одной школе. Только я- на два класса выше. Вместе ходили в школу. На нас лежала вся уборка скотины во дворе. А скотины было достаточно- лошадь, а то и две, корова, тёлка. Часто ещё держали бычка, оставленного отцом на мясо. Надо было чистить конюшни, поить два раза в день всю скотину, гонять к колодцу рогатый скот, лошадям в колоду заливать воду. Всем давали корм в обед и на ночь. Утром за скотом обычно ухаживали родители.
- Васятка, Федяшка, идите убирать скотину!- строго и требовательно говорил отец нам, лёжа на печке или сидя за столом за книгой. Любил он почитать и читал много всяких книг. Или что-то делал в мастерской- клепал новые и чинил старые вёдра, тазы. Недаром мы имели уличную фамилию Ведерниковы. Вообще, убирать скотину была наша с Федей обязанность. Чаще всего это делать нас посылала мама:
- Васятка, Федя, ребятишки, надо убирать скотину! Идите, ребятки,- просительно говорила она нам.
- Ну, пошли!- в приказном тоне говорил я брату.
Федя был моложе, но ростом выше меня. Я был маленький, юркий, складный мальчишка, а брат рос рыхлым, неуклюжим. Одеваемся, идём во двор. И тут начинается между нам междоусобица.
- Гони скотину поить, а я буду чистить конюшню!- распоряжался я на правах старшего брата.
Федя обычно начинал возражать. Если я предлагал ему чистить конюшню, то он говорил:
- Почему я должен чистить конюшню? Делай это сам.
Если я предлагал ему поить скотину, то он говорил:
- Всё я да я пою скотину. Иди сам её пои!
Я настаивал, не мог допустить нарушения правила: младший слушает старшего, а я- старший.
- Иди!
- Не пойду!
- Я тебе не пойду! Иди, а то вот дам тебе по голове.
Федя подчинялся, ворчал, но делал, что ему было приказано.
Бывали и такие курьёзы:
- Я буду мякину таскать, а ты шевяхи посшибай.- говорю брату и беру корзину. Федя цепляется за плетёнку и хочет вырвать её у меня из рук. Я не даю, вырываю корзину, толкаю его, брат падает, ревёт. А тут мать оказалась во дворе:
- Ребятишки, да прекратите, вы, наконец. Васятка, ну что ты его обижаешь? Ты ведь старший.
Федя при матери ещё громче ревёт и, улучив момент, даёт тумака или толкает. Мать заступается за него. В конце концов, мы, всё же, скотину убрали и идём домой. Там уж оба дружные, не соримся. Родитель был строгим, и при нём затевать споры, драки мы не решались.
Папа нас не бил никогда. Только один раз он меня стукнул кулаком, что я отлетел от него и упал на спину. Это было обидно, и я на всю жизнь это запомнил отчётливо. Крепко тогда обиделся на отца. А, вообще, он меня по-своему любил. Ведь я был незаменимым помощником в его работе по малярному делу.
Отношения с Федей стали налаживаться с возрастом, но близости не получалось. Я считал себя старшим, он был по сравнению со мной «мелюзгой». В 16 лет ушёл на фронт в 1919 году, а встретился с братом в 1924 году, когда после трёх лет участия в Гражданской войне (с 1919 по 1922 год), окончания рабочего факультета в Чите, поступления в вуз в 1923 году приехал в Перекопное студентом второго курса факультета общественных наук Иркутского госуниверситета, вернулся домой. Это было летом 1924 года.
Уехал я из Перекопного на фронт шестнадцатилетним мальчишкой, романтически настроенным с неустоявшимися взглядами. А потом, под влиянием Писарева, прошёл период лохмачества, отрицания за практической ненужностью поэзии, с путаницей в голове. И даже замахивался на правомерность любви, практически считал одно время это занятие ненужным революции. Между тем, сам любил, и любил верно, чисто. Безусловно, всё это было наносное, не являлось сутью, объяснялось данью моде- ложному пониманию сущности материализма и долго во мне не задержалось.
Рабфак, университет были для меня осуществлением мечты с малых лет: учиться, учиться и учиться. А университет- потолок стремления к духовной культуре человека.
Помню всегда, как я, наработавшись в лавочке Валова, наскоро приводил себя в порядок, на ходу закусывал чем-нибудь, клал в один карман мешочек с деньгами. Во втором кармане у меня была граната-лимонка. И шёл, вернее бежал, чтобы не опоздать к занятиям на рабфаке. Путь мой лежал мимо Читинского госуниверситета. С какой завистью я смотрел на студентов, которые были «своими» в этом храме науки. Студент был идеалом всех мечтаний о моём будущем. Я много и жадно читал. Был непримирим ко всему, что не укладывалось в моём представлении о ном, советском человеке. Коммунистическая идейность, материалистическая теория были моей духовной позицией. Я страстно защищал в своих ссорах свои взгляды. А спорить было с кем. На Дальнем Востоке осело много белого офицерства. Существовали партии эсеров, социал-демократов, кадетов. Были даже анархисты. Мне приходилось со многими из них дискутировать, защищать Советскую власть, отстаивать свои идейные позиции .И я спорил, боролся, защищал, отстаивал, волновался. Часто меня разбивали в этих дискуссиях. Не хватало аргументов защищать свои идейные позиции. Но я не сдавался и продолжал повторять знаменитую фразу древнего учёного Галилея: «А всё-таки, она вертится!»
В комсомоле я не состоял. В Красной Армии его тогда не было. После демобилизации я весь ушёл в работу, в учёбе и на своём пути не встретил ни одного комсомольца. А вот, поступив в Иркутский университет, я сразу сблизился с членами РКСМ, нашёл среди них идейных товарищей. Какие же это были интересные, преданные делу партии, социализму молодые люди! Все их помыслы, устремления направлялись в сторону утверждения новой коммунистической морали. Они всегда были готовы выполнить и выполняли любое задание партии. Меня приняли в члены Российского коммунистического союза молодёжи. В 1925 году я стал членом РКП(б), потом ВКП(б) и КПСС.
В Иркутском университете училась разноликая молодёжь, имевшая разные взгляды и убеждения. Было много бывших студентов, ранее учившихся в старых вузах, но не окончивших их. Имелись даже бывшие белые офицеры из буржуазных слоёв. Но заправляли всем коммунисты и комсомольцы. Они входили в органы самоуправления университета. Это были своего рода комиссары партии в высших учебных заведениях. Жили тяжело, бедно, часто голодали. Стипендия составляла шесть рублей в месяц, да и получать её я стал лишь в конце первого семестра 1923-1924 учебного года. Продал всё, что было «лишнего». Даже свой любимый офицерский китель, который мне подарили в Чапаевской дивизии на Уральском фронте. Кушали в студенческой столовой. Обеды были скудные. Но хлеба давали почти вдоволь. Правда, был он чёрный, плохо пропечённый. Очевидно, воды лили в муку больше чем положено. Поэтому он был липкий, но вкусный. Мы не жаловались на хлеб, а, пообедав, с тарелки незаметно, как нам казалось, совали ломтики в карманы, где они мешались с табачной пылью, махоркой. Ничего, ерунда, достал кусочек хлеба, дунул на него и сжевал. На отсутствие аппетита мы, естественно , не жаловались.
Вот в этой столовой происходили теоретические бои между «классами». Меня, как самого заядлого спорщика и непримиримого ко всем компромиссам, облюбовала группа студентов, уже пожилых, во всяком случае, старших. Среди них был мадьяр, застрявший на Дальнем Востоке, отчаянно проповедовавший идеалистическую философию. Он всегда меня дожидался в столовой, и не успевал сесть я за стол, как тут же пододвигал табуретку и горел нетерпением сразиться со мной. И начинался между нами идейный спор.
Я начитался «Азбуки коммунизма» Николая Ивановича Бухарина, исторический материализм его и Ярославского-Карпинского. Это были в то время библии коммунизма. Сбить нас с позиций материализма было невозможно. Впоследствии я понял, конечно, как бедны и несовершенны были книги Бухарина, проповедовавшие вульгарный материализм. Но, за невозможностью более глубокого изучения философии, и эта литература служила опорой в наших идейных дискуссиях с оппонентами. Спорили до хрипоты в голосе. Столик окружали студенты, которые разделялись на сторонников нашей позиции или его противников.
В этих спорах я рос, стал изучать философию. И понял, как много мне нужно ещё читать, как политической грамоты ещё недостаточно, чтобы быть по-настоящему образованным человеком.
Прошёл год студенческой жизни. Какое это было молодое, счастливое время. В Иркутском университете мне посчастливилось познакомиться с Иосифом Уткиным, ставшим потом одним из популярных комсомольских поэтов наряду с Жаровым и Безыменским. Я создал литературный кружок, написал «декларацию» , своего рода, литературное «кредо». А Уткин выступил с критикой этой «декларации». Помню я обиделся, ибо считал, что стою на совершенно правильных партийных позициях в вопросах литературы. Потом Уткин уехал из Иркутска в Москву. Много позже я с ним встречался в Саратове, куда он приезжал на гастроли. Поэт выступал в больших залах, которые заполняла студенческая молодёжь. Он был уже знаменитым комсомольским кумиром. Мне довелось участвовать в организации его выступлений. Я, конечно, признал его авторитет и иронически оценивал свои возможные прыжки в литературном споре с Уткиным. Поэт погиб в годы Великой Отечественной войны. Самолёт, на котором он летел, потерпел аварию при посадке.
И вот я в Перекопном. Милое, родное село. С ним связано моё детство, моя первая любовь, вынесшая испытания многих лет разлуки. Мать, постаревшая, но всё же такая же тихая, ласковая к сыну. Она даже первое время говорила мне «Вы». Как же, ведь я- студент, учёный человек. Мама была неграмотная, отец- полуграмотный. Я застеснялся этого «Вы» и попросил маму по-прежнему относиться ко мне так же, как в детстве. Отец молча, сдержанно, гордился своим «учёным» сыном.
Федя встретил меня стеснительно-ласково. Он вырос, возмужал. Я всё никак не мог привыкнуть и удивлялся его ломающемуся голосу, басовитым ноткам. После первых радостей встречи мы с Федей вечером сидели на завалинке нашего дома. Тихая летняя ночь, я впитываю аромат степного воздуха, смотрю на сельскую улицу и во всём ощущаю, чувствую очарование ночи. Немного грустно. Но грусть эта светла, потому что это уже прошло. А впереди ещё- целая жизнь. И какая жизнь!
И вот с той встречи на завалинке тёплой летней ночью мы особенно сдружились с Федей, стали с ним до конца жизни самыми верными, самыми преданными товарищами по комсомолу, по партии. Всю короткую ночь рассказывали друг другу о своих комсомольских делах.
Вот и сейчас, спустя более полувека, вспоминаю я свою боевую юность, горжусь племенем комсомольцев 20-х годов. Какое это честное, преданное партии поколение молодых людей! Мы были мечтатели. Зачастую многого не понимали, верили в близость мировой революции. Внутри каждого сидел маленький Нагульнов, воспетый Шолоховым в романе «Поднятая целина». Но в нас кипела энергия дела. Мы были неистощимы на новое в борьбе со старым. Хотели утвердить это новое сразу, с боя, сейчас же. Нагрешили мы порядком в то время. Но эти грехи были честными, страстным желанием приблизить коммунизм, утвердить его в наше время, самим пожить в таком обществе.
- Федя, а где школа? Почему её разобрали?- спрашиваю брата, с грустью оглядываю развалины школьного здания.
- Знаешь, Вася, мы, комсомольцы, решили её перенести на Большую улицу и там сделать пристройку к старой школе. Решили- сделали. Школу разобрали и перевезли срубы на новое место. А вот собрать не сумели, не хватило на это смекалки, и стройматериал растащили. Федя говорил об этом смущённо, но заверил, что впредь они, комсомольцы, будут умнее и таких потерь не допустят. И подвёл итог своим рассуждениям:
- Всякое бывает, потери неизбежны в ломке старого.
Безусловно, встретился с сельскими друзьями. А сердце щемит и щемит, не хватает Шуры- первой моей любви. Я верен девушке, мечтаю о встрече и пишу ей маленькое письмо. Она приезжает в Перекопное. Первая встреча, робкая, радостная, но такая светлая и захватывающая дух. Мы говорим, строим планы на будущее. Я не соберусь с духом сказать, что по-прежнему своё будущее вижу только с ней. Помню, как я стыдливо пытался от её взгляда рваные ботинки на моих ногах. Отец купил мне сапоги перед отъездом в университет. И я очень сожалел, что не имел их на своих ногах во время нашей встречи с Шурой. Какое это было молодое, счастливое время!
Таковы фрагменты биографии Василия Ивановича Худякова в детские и юношеские годы. Яркие страницы жизни героя в зрелую пору содержит хроника семейных коллизий, изложенная Василием Ивановичем и его супругой Марией Матвеевной Десятовой. События описаны настолько красочно и правдиво, что мы сочли возможным поместить их в книге полностью в авторской редакции.
«Эти главы написаны ко дню рождения друга, товарища, верного спутника на протяжении почти 30 лет жизни, моей жены, Марии Матвеевны Десятовой, матери наших семи детей, бабушки 18 внуков и прабабушки одного правнука. И вновь листаю страницы биографии, созданные после службы в Красной Армии, учёбы на рабфаке, в высших учебных заведениях.
Всё, кажется, потеряно, всё разбито, ничего не осталось в моей личной жизни. Ничего! Была любовь. Любовь подростка, такая чистая, нежная. Было святое чувство в юности, что грело мою душу, наполняло всё существо радостью, восторгом, солнцем, мечтой о большом счастье, о вечности любви. Пронёс это чувство через годы тяжких испытаний Гражданской войны. Сохранил я это великое чувство к одной девушке в течение почти десятка лет. Только о ней думал. Только с ней мечтал соединить свою жизнь. И вот всё произошло так, как мечтал долгие годы. Любимая девушка стала моей женой. У нас растёт дочь Энгелина. Я учусь в университете. Комсомолец, затем член партии. Горю на работе. Расту умственно, много читаю. Готовлю себя к научной деятельности. Как способного и перспективного студента меня зачисляют в резерв выдвиженцев в научные кадры. Я заметен на общественной работе. Меня выбирают членом губернского, а потом- краевого бюро пролетарского студенчества. Работаю заведующим культмассовой комиссией, а потом становлюсь председателем крайбюро пролетстуда- самой высшей профсоюзной организации, объединяющей студентов Нижневолжского края.
В семье всё хорошо: люблю жену, не чаю души в дочке. Я испытываю сильные чувства к женщине, которую полюбил девочкой и не утратил их с годами. Не омрачает меня и то обстоятельство, что жена не состоит ни в комсомоле, ни в партии. Она разделяет мои идейные позиции, и это успокаивает, хотя я не могу быть с ней вполне откровенным. Я стою на голову выше жены в идейно-политическом отношении, более развит, начитан и богаче её духовно. Живу светлыми воспоминаниями нашего прошлого: люблю свою жену, мать нашей дочки. Стараюсь поднять идейно-политический и духовный уровень супруги, не жалею на это ни сил, ни времени. В семье у меня счастье, согласие.
Мой домашний очаг теплеет. Иду к нему после напряжённой работы в течение иногда 10-15 часов и нахожу здесь всё для себя. Я спокоен за свою жизнь в семье. Жене нужно работать. В Саратове места нет. С общего согласия она уезжает преподавать русский язык в сельскую школу. Я сдаю экзамен в аспирантуру по кафедре уголовного права. Мне много приходится работать. Дочка Геля- у бабушки в Ивановке, мать преподаёт в Краснянке. Я в Саратове, весь погружён в общественную и научную работу. И вот, казалось бы, в устойчивом семейном счастье, наступила совершенно неожиданная драматическая развязка. Узнаю, что любимая мною женщина, мать нашей дочки, изменила с близким мне человеком. Об этом мне сказала сама жена. Я ничего не подозревал. У меня никогда не возникал вопрос о её неверности. Никогда! Я сам был верен жене всегда. Считал, что верность мужу обязательна и никогда, ни при каких обстоятельствах не должна нарушаться. И вдруг это совершенно неожиданное признание. Я не спрашивал жену об этом, я её не подозревал ни в чём. А она возьми, да и скажи мне об этом. Зачем? Что её заставило это сделать? Угрызения совести? Честность ко мне? Вряд ли, не думаю, что это было причиной её признания. Легкомыслие, бравада, беспечность, неумение понять боль другого человека, который любит. Всё рухнуло. Страшные это были дни, недели, месяцы. Я не мог примириться с этой злой, не вызванной с моей стороны изменой. Дни шли как в тумане. Наступило решающее время сдачи экзаменов в аспирантуру по уголовному праву. А я- весь комок нервов, опустошён, раздавлен. Порой приходила мысль, что лучше умереть, чем жить в таком состоянии. Чем бы ни занимался, кончал одним и тем же вопросом:
- Да как же это можно? Как же это всё пережить?
На дворе- май-месяц. Всё цветёт, наполняется жизнью. А я чувствую, что жизнь из меня выходит. Сил становится всё меньше, душа кровоточит, а сердце болит и болит. М вот в таком состоянии иду по университетскому двору, весь углублённый в себя, ничего не замечаю. Неожиданно слышу оклик: «Вася!» Поднимаю голову, а передо мной Вера. Бросаюсь к ней и бессвязно повторяю:
- Вера, как же мне сейчас тяжело. И как же я рад тебе!
Вера окончила биологический факультет Саратовского государственного университета. Умная, отлично образованная, культурная и духовно богатая девушка. Внешне красивая и обаятельная. Она знакома с моим братом Ваней, друг нашего дома. Вера часто бывала в гостях, любили играть с Гелей. Со мной была проста и дружески настроена. Любили говорить на разные темы. Мне нравилось с ней беседовать. Я поражался её начитанности и уму. Никогда у меня не возникала даже мысль о том, что могу полюбить её, а она меня. Мы считались добрыми друзьями.
А Вера, оказывается, любила меня, но не хотела нарушать благополучие нашей семьи. Молчала о своём чувстве ко мне и продолжала быть частым нашим гостем. И вот приехала она в Саратов оформить свои вузовские дела и получить диплом. И я встретил её в университетском садике в тяжёлые мои дни.
- Что случилось, Вася?
- Вера, я тебе всё расскажу. Когда мы встретимся?
- Приходи сегодня вечером ко мне, я- на старой квартире.
- Приду. Ох, Вера, как я рад, что встретил тебя. Я всё тебе расскажу.
И вот наступил вечер. Я- у Веры. Всё рассказал. Ищу у неё понимания и поддержки моего состояния. Вера всё поняла. Она удивлена, поражена. Женщина говорит о своём замужестве. О том, что это её не радует. И…признаётся, что давно любит меня. Любит серьёзно, крепко. Но не могла разбивать нашу семью. Она знала, что я люблю жену и дочь. Поэтому Вера таила своё чувство ко мне. А вот теперь, когда я могу быть свободным, уже можно признаться в своей любви. И она об этом сказала.
Всё это меня ошеломило. Просто потрясло. И вместе с тем неудержимо потянуло к этому чудесному человеку. Вера- удивительно милая, обаятельная и красивая женщина. Лицо светилось умом и улыбкой, глаза добрые и поражают глубокой синевой. С ней интересно говорить обо всём: она начитана, глубоко и разносторонне образована.
И я весь отдаюсь этому новому, неожиданно охватившему меня всего чувству близости, теплоты, полного доверия к Вере. День мы работаем, а вечерами встречаемся и гуляем по ночным улицам Саратова. Нам есть о чём сказать друг другу. Неистощима тема взаимоотношений. Вера меня любит. Рану, нанесённую душе, и время не лечит. Я ищу успокоения , иду навстречу Вере. Вижу в ней человека, с которым я найду счастье. С особой силой поднимается во мне протест, возмущение против жены, так легко предавшей нашу любовь, мои чувства к ней. Я не могу с этим примириться. Не могу забыть предательства. И после встречи с Верой не хочу больше жить с женщиной, меня обманувшей. Говорю об этом Вере. Предлагаю ей разойтись с мужем, которого она не любит, и сойтись со мной. Вера не даёт согласия. Всё это, конечно, сложно. Надо всё обдумать, взвесить, проверить свои чувства. Она- ко мне, я- к ней. Нужно время для этого. Надо отдельно пожить и прислушаться к себе, проверить глубину своих чувств. Решаю разойтись с женой. Я должен быть свободным. И пусть Вера знает об этом. Мне нечего проверять себя, а она пусть проверит свои чувства. И, убедившись в силе своей любви, придёт ко мне, зная, что я свободен, и она не разрушает чужую семью.
Еду в село, где работает преподавателем жена. Сообщаю ей о своём решении. Долгая бессонная ночь прошла, как в тумане. Тяжело, очень тяжело дался мне этот разрыв. Но я не мог уже больше так жить. Тем более, что на моём пути оказалась женщина, с которой я должен быть и буду счастлив. Дочь возьму к себе. Так мы договорились. Без Гели я не мог искать счастья. Никто не мог мне его дать, если не будет со мной дочурки. Пока она пусть живёт у бабушки. Я приезжаю в Саратов. Жду с жадным нетерпением вечера, чтобы сказать Вере, что свободен. Вот и Вера. Она слушает меня и плачет. Говорит, что не может сейчас дать согласие связать свою жизнь с моей. Женщина боится этого. Она жалеет, сто у меня произошёл окончательный разрыв с женой. Вера должна через два дня уехать. Она просит ничего ей не писать. Мои письма будут лишать её свободы выбора, влиять на её решение. Я согласился. Наступил день её отъезда. Вера возвращается домой в Куйбышев на пароходе. Я провожаю её. Обоим тяжело тревожно. Всё неясно, всё зыбко, всё будет завтра. А каким будет это завтра, ни я, ни она предсказать не можем.
Вот Вера вся передо мной- лёгкая, стройная, с копной белокурых волос на голове, со своей удивительно обаятельной улыбкой и синими глазами, в тёмном в белый горошек платье. Мы прощаемся. Пароход отходит от пристани. Мы смотрим в лицо друг другу. Наши глаза грустны и печальны. Мне тяжело, сердце болит в предчувствии, что это последняя встреча с Верой, я прощаюсь с ней. Мы договорились, что с 1 по 10 июля встречаемся в Ленинграде, и Вера скажет о своём решении. Всё будет в Ленинграде. Ждать надо месяц.
Тяжёлый месяц был у меня. Семьи нет. Вера далеко. В результате гнусной клеветы друга детства и юности меня обвинили в оппозиции. Непостижимо, как мог так подло поступить по отношению ко мне человек, которому я верил во всём. Днём я работаю, готовлю экзамен по уголовному праву. Вечером, как стемнеет, пишу Вере письмо. Пишу до рассвета. Вот синеет в окне моей комнаты. Вот простучала тележка носильщика. Она всегда рано утром в одно и то же время провозится мимо моей квартиры. Я складываю написанное и ложусь спать. И так каждую ночь. Написанное не отсылаю: был такой уговор. Подходит 1 июля- время нашей встречи с Верой. Всё написанное, что-то около 50 страниц, отсылаю ей в Куйбышев, и отправляюсь в Ленинград. Еду, полный разноречивых чувств и надежды, что найду там своё счастье. Встречу Веру, она готова соединить свою жизнь с моей. А на душе тревога, что пойдут наши судьбы разными путями, и я останусь со своей болью одиноким, оторвавшимся от берега и не приставшим к другому. Куда же мне плыть? Опять к старому берегу? Это невыносимо тяжело и кажется невозможным. Впереди всё неясно, зыбко, всё тревожно. Но, всё же, светит надежда, манит и неудержимо влечёт к себе Вера. А сердце болит и болит в предчувствии конца наших отношений с этой женщиной.
И вот я в Ленинграде. Город поразил меня. Я давно мечтал побывать в нём. Знал его по литературе, по книгам о революционном прошлом. Кажется, всё перечитал, что было о народниках. Для меня наполнены глубоким содержанием улицы города. Ведь с ним связаны боевые дела народовольцев, пролетариата. Для меня имена Желябова, Перовской, Халтурина были знаковыми. Я приехал в Ленинград в белые ночи. И какое же это очарование! Сколько же поэзии в них! Как же волнующе красив Ленинград в эти белые ночи. Я ходил без устали по улицам города, знакомым по книгам. Подолгу стоял у «церкви на крови», где был убит Александр II. Глубоко переживал всю историю борьбы народников с царём.
Ночь незаметно переходит в раннее утро. Я иду спать с мыслью, что всё же встречу Веру. Не может она отказать мне в свидании с ней. Не может молча порвать со мной. Это на неё не похоже. Но дни идут за днями, а Веры нет и нет. Я понял, что кончилась сказка. Умолкла песнь о любви нашей. Ну, что же, я сохраню на всю жизнь воспоминание о месяце наших чистых и романтических отношений. Ничем мы их не запятнали, ничто не оставило горького осадка в душе. Всё!
Я ищу Веру во всех общежитиях, гостиницах. Дохожу до зрительных галлюцинаций. Вот мелькнуло синее в белый горошек платье молодой женщины. Быстро иду следом, я весь- ожидание встречи. Нет, не приехала, не поверила в наше счастье. Побоялась связать свою жизнь с моей? Оказывается, Вера писала в Саратов. Но письма её попадали в руки жены и до меня не доходили.
Что мне осталось? Единственное утешение, единственная радость- дочь Геля. Я еду в Саратов. Беру Гелю. Решаю вернуться в свою семью. Но жена уже поторопилась связать себя с другим мужчиной- жила с председателем колхоза в Краснянке. Решаю вернуть жену. Она соглашается. Приезжает охотно, с радостью, старается наладить свою жизнь с моей. Нужен ещё ребёнок, чтобы в детях забыть свою боль. Забыть всё, что отравляет жизнь. И у нас рождается сын Виля. Я ему рад, как каждому ребёнку, поскольку неистребимо люблю вообще детей. Итак, у меня- дочь и сын. Но душевная боль остаётся, хотя я и стараюсь её заглушить. С Верой всё кончено. Я её потерял и, кажется, навсегда.
Школе фабрично-заводского обучения, которую возглавляю, нужен преподаватель русского языка литературы. Недостатка в кадрах нет. В ФЗУ пойдут с удовольствием выпускники института, университета. Поэтому я не тороплюсь брать преподавателя.
Однажды в школу приходит девушка, окончившая Саратовский госуниверситет. Передала записку от Василия Черникова. Мой товарищ по вузу являлся кандидатом наук, занимал должность доцента на кафедре литературы СГУ. В записке несколько строк: «Васька! Посылаю тебе обещанную. Девка, во!!! Бери! Черников.»
Стоит передо мной эта «девка, во!». На лице смущённая улыбка, но весь вид говорит: «Бери меня на работу. Не подведу. Ну, как же меня не взять, ведь мы товарищи по университете. Я действительно «девка, во!»
Смотрю на неё, а на душе как- то сразу стало тепло. И самому хочется также открыто, доверчиво улыбаться, как открыто и с детской простотой и доверчивостью на меня смотрит Маша Десятова. Берём на работу, оформи, давайте документы. Так и стала преподавателем русского языка и литературы школы ФЗУ моя будущая жена Маша Десятова.
Начались занятия. Работа с учениками тяжёлая, школа- бараки, наспех сбитые. Работать приходилось с раннего утра и до позднего вечера. Маша Десятова активна, отзывчива на любое мероприятие. Девушка- первый и надёжный помощник. Между нами- отношения товарищей, отдающих работе все свои силы ума и души. В свободные минуты мы говорили и непринуждённо о многом, главным образом, об университете, о книгах, о своих привязанностях, о комсомольской юности. Эти разговоры нас сближают. Кроме того, сближает идейная общность- и я, и она преданы партии, живём интересами народа, Советской Родины. Ни я, ни она не утратили романтического взгляда на наше «завтра». Обоим интересно говорить обо всём, нас неудержимо потянуло друг к другу.
Я рассказываю ей о своей жизни, о душевной драме, о детях, показывал ей фотографии Гели и Вили. Больше говорил о Геле: она была всегда в моих мыслях о будущем, о возможностях разрыва с женой, без дочери я не представлял своей жизни. Сын же, очевидно, останется с матерью.
И вот пришла любовь. Незаметно, тихо, печально. И, кажется, без перспективы на будущее, на то, что я разойдусь с женой и свяжу свою жизнь с Машей Десятовой. Не, это не думалось, это казалось невозможным. А вот быть вместе, видеть её каждый день, каждый час, отвечать её такой доброй, красивой улыбке, стало моей душевной потребностью. Я тянулся к ней. Маша отвечала мне тем же. И настали дни, месяцы таких светлых, чистых отношений, так полна и духовно богата стала наша жизнь, что ни я, ни она уже не могли не быть вместе в свободные от работы часы.
А тут новое несчастье- меня снимают с работы завуча школы ФЗУ: бывший «троцкист» исключён из партии. Страшно тяжела и, кажется, бесперспективна моя жизнь. Но на помощь приходят друзья, а их много. Меня берут на работу в научно-методический кабинет Нижневолжского крайсовхоза. Новая должность: методист-консультант.
Моими товарищами по работе стали незабываемый умница Дима Свечников, окончивший СГУ, и Борис Львович Бойницкий, ставший впоследствии проректором политехнического института. Дима же стал моим лучшим неразлучным другом. О нём надо писать много и вдохновенно. Редкой душевной красоты был человек. Любил я его, он также преданно любил меня.
И вот я на кабинетной работе. А ведь считал, что моя жизнь- только с детьми. Тяжёл был мой уход из школы. Очень! Маша Десятова разделяла мою драму. Мы уже объяснились с ней. Я знал, что она любит меня, а я люблю её. Мы не связывали себя обещанием составить семьи, безотчётно отдались чувству духовной близости, любви друг к другу. Нам хорошо вместе. Мы всё понимаем, честны друг с другом, хотим одного- любить, быть, пока можно, вместе, чувствовать друг друга около себя. Встречаемся ежедневно. Бродим по ночным улицам Саратова, по его окрестностям, забираемся в горы, окружавшие город, в выходные дни- на Волге, купаемся, жаримся на солнце, а песке островов реки. Мы не говорим о будущем. Нам хорошо сейчас вместе. Мы любим друг друга без всякой надежды на совместную жизнь, я говорю ей о том, как мне тяжело. Но с семьёй сейчас порвать не могу. Маша всё понимает и ни на что не рассчитывает. Она счастлива нашей близостью, любит меня глубоко, преданно. Мы обещаем не забывать друг друга. Хотим одного: твоё счастье- моё счастье. И ничего больше. Только видеть друг друга. Только быть вместе, когда это возможно. Только говорить друг другу всё, что нас волнует, чем мы живём, что радует и печалит. Мы и вдалеке сохраним свою любовь друг к другу. Странно? Романтика? Возможно, но ведь это так было в жизни, в наших отношениях с Машей Десятовой. Я понимал всю тяжесть таких отношений. Знал, что этот крест для Маши будет слишком тяжёлым. И она не выдержит его тяжести. У меня всё же семья, дети, которых я бесконечно люблю. А у неё нет никого, кроме меня, а я уезжаю в Москву, покидаю Саратов совсем. На вопрос Маши, что же ей делать, говорю: «Выходи замуж». Я хочу ей счастья. Пусть оно будет без меня неполным, ущербным. Но Маша заведёт свою семью. А время- лучший лекарь: всё уляжется, останется в душе навечно грустно-сладкая боль о несостоявшейся у нас семье. Но мы хотим искренне и страстно, чтобы наша любовь, эти месяцы близости, когда мы были вместе, встречались друг с другом, тепло и трепетно отдавались этому чувству, не омрачали бы нашего будущего, не были бы укором, и мы никогда не испытывали чувства раскаяния за нашу любовь. Она была чиста, возвышенна, бескорыстна и ни одного из нас не обязывала к созданию семьи. Мы знали, что мы расстанемся.
Я отдался своему чувству, потому что был одинок в любви. Мне надо оздоровить душу, любить и быть взаимно любимым. Я встретил девушку, которая всем-всем мне была любима. Может быть, эгоистично поступил по отношению к Маше. Такая мысль часто мне приходила в голову. Но ведь Маша была счастлива со мной. Счастлива без перспективы стать моей женой. Всё это тяжело, драматично. И мы оба всё это понимая, не могли отказать себе в желании любить друг друга.
И вот настал день расставания. Мы простились без лишнего надрыва, живя одной мыслью, одним желанием- счастья друг другу, остаться благодарными друг другу за то счастье, которое дарили взаимно.
Я уезжал с Гелей, которую взял у матери, оставив ей сына. Жена с Вилей приедет в Москву, когда там устроюсь с работой и квартирой.
Почему я уехал в Москву? Дима Свечников жил в столице и позвал меня туда. С Саратовом было многое связано: И радостей, и горя. Решил начать жизнь заново. Поэтому и уехал в Москву. Тяжело было прощание с Машей. И я, и она понимали, что это- навсегда. Остаётся только одно- писать друг другу. И всё. И немного.
Я в Москве, жена с детьми в Баландинском районе, Маша в Саратове. В столице живёт брат Федя, первое время с Гелей найду прибежище у него. Так и было- я живу у Феди, нахожу квартиру под Москвой, работаю в областном совете народного хозяйства заведующим учётным пунктом по подготовке квалифицированных рабочих. Снял комнату в дачном посёлке. Геля живёт у Феди. Добрая, простая русская женщина стала заботливой няней- бабушкой Гели. Живу на два дома- дача и семья Феди. Работаю в Москве. Утром на дачном поезде приезжаю на Ярославский вокзал. Трамвай, забитый до отказа рабочими и служащими, едущими на работу. Висишь на подножке или стоишь, сжатый со всех сторон так, что тяжело дышать. Сойдёшь с одного трамвая, садишься на другой, чтобы попасть в учебный комбинат. И так каждый день. Тяжело? Конечно, но молодость всё преодолевает. Не чувствовал я тогда этой тяжести. В выходные дни брал Гелю и шёл с ней в зоопарк, детский театр, бродил по паркам города.
С Машей переписывался, но чувствовал, что надо и переписку кончать. Нельзя же до бесконечности мешать её возможности создать свою семью. Время-лекарь, всё заживёт, останутся воспоминания, дорогие, чистые, светлые. Останется благодарность за счастье любви, подаренная взаимно друг другу. И начал я писать всё реже и реже, а потом совершенно прекратил это делать.
Неожиданно и непонятно почему появилась Александра Павловна с Вилей. Бросила работу преподавателя школы в середины учебного года и приехал ко мне в Москву. Странно, но я не стал добиваться правды. Нужно было срочно искать жильё: хозяйка дачи категорически против того, чтобы я жил с семьёй в её квартире.
Меня пригласили на работу в школу ФЗУ фабрики имени Лебедева под Москвой. Предоставили комнату в заводской двухкомнатной квартире. Я работал заведующим школой, Александра Павловна - преподавателем русского языка и литературы. Зажил с семьёй, связь с Машей прекратилась совсем.
Я много работаю в школе. Жизнь принимала спокойное течение. Время стало залечивать душевные раны. Но все это было неустойчиво и закончилось, в конце концов, полным разрывом с женой. И произошло это таким образом.
Федя, брат мой, однажды в разговоре сказал , что Александра Павловна вела разгульную жизнь и после нашей драмы . И даже похвалялась этим . Она возвела свободу любви в норму жизни, о чём без стеснение рассказывала жене Феди . Я был ошеломлён . Вот уж этого-то никак не ожидал . Раньше думал , что первая измена жены была ошибкой, что она это поняла и раскаивается, что искренне хочет искупить свою вину передо мной. А оказывается, что он не считала свою измену виной. Что она продолжала свободно себя вести и дальше. И не зарекается впредь изменять свою жизнь. Что её принципом является полная свобода от обязанностей перед семьёй. Главное- живи в своё удовольствие, не связывай себя никакими ограничениями и обязанностями перед мужем. Всё это было для меня новым в моральном облике человека, которого я любил многие годы, в облике матери моих детей. Этого я перенести уже не мог.
На вопрос, правда ли это, жена ответила утвердительно. Я заявил:
- Беру Гелю с собой и уезжаю в Москву. А ты собирайся, бери, всё, что находишь нужным из нашего имущества, и уезжай. Пяти дней достаточно, чтобы ты уехала. Вилю я оставляю тебе.
Не знал тогда, что ей и сын-то не нужен, что она и его бы мне оставила. Но тогда не думал, что она так опустошена духовно, и считал, что сына я не имею морального и юридического права брать. И вот всё кончилось. Я разошёлся с женой навсегда и остался один с Гелей.
Тяжёлое это было время. Я был духовно надломлен. Потерял всё: и жену, и Веру, и Машу. Одна осталась радость- Геля. Отдаю дочери много сил, заботлив и нежен с ней. Девочка растёт физически и духовно здоровым ребёнком. Я стараюсь заменить ей мать- и заменяю. Геля не чувствует её отсутствия. О Виле помню, не могу примириться с мыслью, что нет со мной сына. И сделал попытку взять его к себе. На мою просьбу отдать Вилю, я получил быстрое согласие матери. Я тут же поехал в Звенигород, где жила и работала жена, и забрал сына. Радости моей и Гели не было предела. И мы зажили втроём. Я работал и ухаживал за детьми: готовил завтраки и обеды, стирал сам бельё- и своё, и детское, играл с ребятами, читал книги, гулял с ними каждый день. Хорошо мы жили. Я был полон счастья. Вся моя жизнь была в работе и детях. Но вот тяжело заболел корью Виля. Я вынужден был вызвать мать: боялся не справиться с больным ребёнком. Она пожила несколько дней и уехала, взяв с собой Вилю. Об этом я её попросил, боясь за здоровье сына. Из Звенигорода она уехала в Куйбышевскую область, где работала преподавателем. Связь с ней порвалась. Узнаю, что Вера работает в Москве.
И вот происходит моя встреча с ней. Я прихожу в институт малярии, где она тогда работала. Не могу разобраться в своём чувстве к Вере. Люблю её я? Не знаю. У меня была любовь к Маше. Ведь это случилось после Веры. Причём, было искренне, глубоко. С Верой и Машей я был честен и чист. И не могу ни в чём себя упрекнуть. Романтичны, чисты и возвышенны были наши отношения.
Вспомнил всё, поднялось в душе забытое временем чувство к Вере. И вот сижу в холле института и жду. Вера сейчас будет со мной. Какая она? Насколько изменилась? Ведь Вера пережила тяжёлые годы: разошлась с мужем и живёт одна. Что ж теперь, кажется, ничто уже не мешает нам составить семью. Ничто? А мои ожидания в Ленинграде, ежедневные письма к ней в течение месяца- всё осталось безответным. На пути к Вере теперь встала Маша. Хотя я совершенно ничего не знаю, как она устроила свою жизнь. Наверное, у неё есть семья? Не знаю, но забыть её, вычеркнуть из своей жизни уже не мог. В таком вот смятении, ожидании, неизвестности я встретился с Верой.
Вот она спускается по лестнице, идёт ко мне. Вера, кажется, не изменилась за эти четыре года. Вся такая красивая, только глаза стали какие-то грустные и чего-то ожидающие и отпугивающие вместе с тем.
- Здравствуй, Вера!
- Здравствуй, Вася!
Мы пожали друг другу руки и замолчали. Я не могу разобраться в своём чувстве к Вере. Прежнего восторженного, тревожного, трепетно-нежного волнения у меня нет. Не чувствую я и в ней ответного чувства ко мне. Встреча наша была тревожной, грустной и не дала надежду на близость, тепло и счастье. Нет прежней Веры. Нет прежнего Васи. Нет прежнего чувства любви и восторга от встречи. И я, и она- другие. Такого, как сейчас, меня она не знает. Такую, как она после четырёх лет разлуки, я не знаю. То, что чувствуем мы друг к другу, далеко от прежнего чувства. Как это выглядит бледно! Как же всё далеко, далеко от прежней Веры. И мы простились, молча поняв друг друга. Оба поняли, что нет прежнего чувства, что лучше разойтись, сохранив в своём сердце воспоминание о наших прежних отношениях. Прошлого не вернёшь, нет и прежних чувств. Лучше сохранять память о них, чем жизнь совместная, в которой нет прежнего восторга, любви, поэзии. И мы расстались. Прощание было грустное.
Веру я больше не встречал. Получил от неё два маленьких письма, в которых она выражала желание встретиться со мной.
«Милый Вася! Не удивляйся, это не впервые. Я вновь пишу тебе потому, что этого хочется. Прошло много времени. Мои «ранки» затянулись, жизнь не пугает больше, всё перебродило и вновь свежестью жизни в меня вдохнула. Всё, что окружает меня. Моё солнце яркое, тёплое. Мне жить хочется. У меня море работы и энергии. Я улыбаюсь сегодня завтрашнему дню. А, правда, страшно так переписываться. С мужем всё кончено и уже всё переболело, теперь новый мир пониманий. Привет ребятам. Вера.»
Выдержка ещё из другого письма:
«Прожито много, и немало сделано ошибок, которых не поправить, так как они уже сделаны, но которые можно зачеркнуть, так просто вычеркнуть и не замечать, что они были, вот так я и сделала, осталась буквально одна и иного положения не желаю. Прости меня, родной, всё время болтаю о себе, а ты как живёшь? Где маленькая Гелюшка- твоя любимица? Напиши мне о твоей жизни. Когда уезжала из Москвы, сидела около детской комнаты и старалась представить себе одного из играющих детей Гелей, но я её давно не видела и, вероятно, ошибочно создала образ. Скоро буду, возможно, в Москве, хочу тебя увидеть. Итак, жду. Вера».
Грустные письма. Я на них не ответил. Не хотел воскрешать прошлое с Верой. Всё кончилось. Грустно! Печально! Не будем гальванизировать прошлое, а в настоящем нет той поэзии, что была. Вера устроит свою жизнь, а я буду устраивать свою.
В жизни моей наступают годы тяжёлые и страшные. Меня исключают из партии по ложному клеветническому навету «друга» юности. Тяжело, очень тяжело это переживалось: я не мыслили себя вне партии, партия для меня- сама жизнь. И, будучи вне партии, всегда чувствовал себя коммунистом, вёл себя как коммунист, работал по-коммунистически. Никогда, ни на секунду, я не чувствовал себя беспартийным. Работал, забывая, что исключён из партии, и люди, работавшие со мной, не могли никак понять: как это я- беспартийный, не может этого быть. А клеймо исключённого из партии давило меня и делала жизнь невыносимой.
С научной работы пришлось уйти: исключён из партии с клеймом «троцкиста». Жена с моего согласия уехала учительствовать в одно из сёл Баландинского (ныне Калининского) района. Я работаю заведующим учебной части ФЗУ. Огромная школа, в ней несколько сот человек. Я весь в работе. На мне всё держится. Я неистощимо активен, неуёмен, изобретателен, общителен с людьми. Меня любят ученики, педагоги, мой авторитет, кажется, незыблем. На тяжёлые переживания у меня не остаётся времени. А личное прошлое давит камнем на душу, заставляет сердце болеть и болеть. Но я не отдаюсь во власть этих переживаний- и работаю, работаю, работаю. Как? Не знаю.
Тяжёлые это были годы. Очень трудные для меня. Я потерял семью. Нет у меня сына. Всё кончилось с Верой. Потерял Машу. Что с ней, как она устроила свою жизнь? И я хлопочу уехать куда-нибудь далеко, на Крайний Север. Такая возможность представилась: мне предложили ответственную работу в Игарке. Я собираюсь уехать подальше от всего, забыть всё. Но тут произошло изменение в моей жизни- приехала Александра Павловна, устроилась работать под Москвой. И я сделал попытку взять к себе сына. Она не возражала.
- Да, ты лучше воспитаешь детей,- сказала Александра Павловна.
И я забираю сына, переезжаю в село Лотошино директором средней школы. Живу с двумя детьми один. Решаю сына закрепить за собой: сумею, воспитаю, справлюсь. Но детям нужна мать. Я не могу им её заменить полностью. Вот тут и принял твёрдое решение- найти Машу Десятову. Найти её и составить с ней новую семью.
Никто не мог стать такой матерью для моих детей, как Маша Десятова. Никто не мог быть таким другом, товарищем, женой мне, как Маша Десятова. Я её ищу и нахожу. Она замужем, имеет дочь, меня любит. Я еду в Саратов. Мы встречаемся с Машей. И со 2 мая 1934 года она стала моей женой, матерью Гели и Вили, а я отцом Гали, её дочери.
И Василий Иванович не ошибся в своём выборе. Ниже мы публикуем фрагменты воспоминания Марии Матвеевны Десятовой. Каждое слово, каждая строчка этой уникальной саги жизни двух преданных друг другу сердец- это гимн женщины, посвящённый любимому человеку и воспитанию детей. Нравственный девиз семьи Худяковых «Сначала думай о Родине, а потом о себе!» Именно таким духовным принципом руководствуются и исповедуют в жизни их многотысячные ученики, которые поделились воспоминаниями о своих любимых педагогах во второй части настоящей документально-художественной книги.
Вечная память друг друга…
Сегодня- 1 апреля 1982 года. Только собралась с силами продолжить записи «Воспоминаний». Итак, Вася заканчивает свои записи: «Какое это было молодое счастливое время!» Вася утешая других в их неудачах, несчастьях, любил говорить: «Это всё пройдёт». Фраза взята им из легенды. И себя утешал этим. Нет, не проходит.
Умер Вася 8 января 1982 года в больнице. Не ждал он смерти, ждал выздоровления, верил в только что сделанную операцию. Долго, два часа, длилась операция. Привезли Васю в палату без сознания. А когда вышел из наркоза, как он, бедный, мучился…Видимо были страшные боли. Я его утешала, как ребёнка, жалко было ужасно. Потом Вася затих, наверное, укол сестра сделала. Пришёл в сознание- раза четыре меня спрашивал:
- Мне сделали операцию?
И снова терял сознание. Вновь приходил в себя и опять спрашивал:
- А как оперировали: под общим или местным наркозом?
Остаток дня после операции провёл спокойно. На другое утро пришёл врач Сидоров, который делал операцию, и принёс питание. Большую миску куриного бульона и четыре яйца. Кормить, сказал он, нужно через два часа. Сам врач покормил больного через трубочку, научил нас, как это надо делать. Потом я и Танюшка сами кормили его. Вася ни на что не жаловался. Всё вынес хорошо. Приходили Галя с Танюшкой. Дочери долго с ним разговаривали. Отец расспрашивал всё о Царёвщине. Сын Виля пришёл его побрить. Это было 7 января в восемь часов вечера. Стала неясной речь. Я его подняла, умыла. Вася сказал: «Спать». Я его поцеловала, как обычно делала на ночь и дома. Муж уснул. Через некоторое время он встал, сел на кровати, ноги спустил. Я его спрашиваю: «Что тебе надо?» Не отвечает. Думаю: это во сне. Позвала сестру, она сделала ему укол, наверное, снотворное. Вася уснул, храпел. Я не спала, закрывала и открывала глаза. Муж перевернулся лицом к тумбочке и перестал дышать. Позвали врача. Тот сказал:
- Всё, конец, умер! Ничего больше не можем сделать.
Говорят, время лечит. Не верю этому. И Лёня, мой брат, пишет, что свою жену Катю схоронил десять лет тому назад, а горе чувствует также. Очень уж обидно за Васю. Так он хотел жить! Радовался всему. Так много доброго сделал для людей. Здоровье своё старался укреплять. Был молод внешне и душой. Никто ему не давал столько лет. Брат его, Иван Иванович Худяков, перенёс немало трудных, семейных обстоятельств, а прожил 84 года. Всё, всё его напоминает. У меня такое состояние, что будто половины меня нет. Но что поделаешь? Надо жить пока для детей. Не хочется им принести ещё более тяжкое горе.
Продолжу рукопись воспоминаний Василия Ивановича теперь уже о нашей совместной жизни. 1934 год, июль. Приехала я с Галей (ей был один год и два месяца) в Лотошино. В доме Васи не было. Трогаю входную дверь- отперто. Прохожу в комнаты, а их четыре, и пятая кухня. Вижу двоих детей. Утро, они ещё не проснулись. Это Геля восьми лет и Виля четырёх лет. Спят на одной кровати. Узнала у соседей. Оказывается, Вася- директор школы. И сейчас вместе с завучем недалеко за селом косят траву на сено школьным лошадям. Побежала туда, нашла его. Вот у нас- новая семья. Сразу стало трое ребят- и мы двое, всего- пять человек.
Лето, каникулы. Это было счастливое время. Не надеялась, даже не мечтала, что стану жить с любимым человеком. А судьба меня с ним свела. Но, видно, счастье всегда за собой влечёт несчастье. Нашлись люди, которые использовали против Васи его доверчивость. Однажды кому-то откровенно рассказал, что по доносу друга детства Кожина он был исключён из партии, и ему пришлось уйти с научной работы. Причиной послужил банальный факт. Вася посылал ему из Саратова в Перекопное книги видных политиков, а также номера «Роман-газеты» и просил передавать их по прочтении жене с припиской: «Просвещай Шуру, но не до бесчувствия». Эта фраза и послужила поводом для исключения его из партии. Приписали, что в безвинных словах кроется шифр. Об этом знала в Лотошине Наталья Григорьевна Жадкова, жена второго секретаря райкома партии. Как директор, Василий Иванович много работал в школе. Надстроил второй этаж школьного здания на шесть классных комнат. Трудно было доставать строительный материал, рабочих. Директор на спине таскал кирпичи на второй этаж по две тысячи штук в день. Помогали некоторые учителя, родители. Никаких подъёмных кранов не было. За летний период всё сделали и 1 сентября вошли отремонтированную заново школу. Во время Великой Отечественной войны немцы сожгли всё село Лотошино, в том числе школу, где мы работали и дом, в котором мы жили. Много сделал для улучшения быта школьного коллектива и населения. Квартиры учителей были отремонтированы, запасены всем дрова. Общежитие для учеников было устроено, засеян школьный участок, собрано много картошки и помидоров. Все улицы села озеленены, посажены большие липы, и они принялись за лето. Вот это сделано при мне за один год.
А 1 декабря 1934 года убит Киров. Начались подозрения на всех, на ком лежала какая-то тень. При том завуч Н.Г.Жадкова «друг сердечный» моего будущего мужа, окончила педагогический институт. И ту ещё один учитель был с таким же образованием. Так вот педологи проводили свои «эксперименты» над школьниками, отрывали учителей от основной работы. Представители этого направления в педагогике старались доказать, что происхождение и родословная, профессия лежит в основе формирования личности ученика.
Как учителя по вузовскому диплому, авторы книги в общих чертах знакомы с данной концепцией. Чтобы иметь о ней более чёткое представление обратились к справочной литературе. Вот так характеризуется она в третьем издании Советского Энциклопедического словаря: «Педология (от греч. Pais, род, paidos, дети и …логия), буквально наука о детях, фактически не представлявшая целостной теории: совокупность психологических, биологических и социологических концепций развития ребёнка. Возникла в конце 19 века в США и в Западной Европе. Основывалась на метафизических представлениях о ребёнке, судьба которого якобы фатально предопределена наследственностью и влиянием общественной среды. Критика научной несостоятельности идеологии педагогической общественностью в СССР получила завершение в Постановлении ЦК ВКП(б) от 04.07.1036 года «О педологических извращениях в системе наркомпросов». В современных зарубежных странах как самостоятельная отрасль научных знаний не существует». (Из Советской энциклопедии. 1979 год. Стр. 976).
Вот как вспоминала об этом Мария Матвеевна Десятова:
«Я приехала из Саратова, где четыре года работала в образцовой школе завода комбайнов. Там, в частности, мы ещё до постановления партии запротестовали против этой лженауки. В школу часто приходил сторонник педологии профессор Крогиус, который читал лекции на педагогической факультете саратовского вуза. Директор школы А.С. Трофимов попросил этого профессора, чтобы тот не мешал учить детей. Потом в 1935-1937 годах всех этих «педологов» лишили их аттестатов и заставили снова переучиваться. Так было и с Н.Г.Жадковой.
И вот я начала на педсоветах выступать с убеждением, что такая «педология» нашей школе не нужна. Она не ориентирует детей на выбор любой профессии, а направляет детей на труд родителей. По их утверждению, дети рабочих и крестьян не способны быть инженерами, учёными, деятелями литературы и искусства. Василий Иванович как директор стал меня поддерживать. Это не нравилось Н.Г.Жадковой. Василий Иванович прислушивался к моим мнениям, во многом соглашался, поскольку я уже имела опыт педагогической работы и соответствующее образование. Это её обозлило. Начались аресты. Поснимали с работы многих честных товарищей. Освободили от должности и В.И.Худякова. Собрание состоялось в присутствии какого-то мрачного представителя из Москвы. Вот тут-то Н.Г.Жадкова и раскрылась как настоящий предатель. Сколько наговорила тогда лжи на директора. Всё лучшее, что он сделал для школы, перевернула наоборот. Ну, а кто станет говорить против, защищать невиновного человека? Все молчат, а на этот роток не накинешь платок. Всё-таки, я взяла слово и сказала, что это ложь. Под руководством директора В.И.Худякова школа достроена, ремонт во всех учительских квартирах сделан вовремя, общежитие благоустроено, с родителями работа велась интересно, учебно-воспитательный процесс организован хорошо. А мне на это:
- У Вас много двоек.
Я отвечала, что мне пришлось работать с «запущенными учениками», которым не двойки, а единицы надо бы ставить. В диктантах ребята делали по 40-50 ошибок. Я занималась с ними дополнительно. В результате стали допускать по 9-10 ошибок. Это- уже достижение. Но тройки ещё рано ставить. Нужно ещё работать и работать с учениками. Но разве меня станут слушать. Так и говорили:
- Конечно, она жена директора. Поэтому его защищает.
- Это «худяковщина»,- выкрикнула Жадова.- Всю школу развалил.
- Вот уж правда,- говорила дома Настя, присутствовавшая на том собрании.- Вроде бы, все уважали Васю. И вот стоило только одному бросить в него камень, как все начали бросать.
Что делать? К кому обращаться за помощью? Вася решил поехать в Саратов, там остались его друзья. Помогли устроиться в школу Октябрьского городка Татищевского района. Сначала он был учителем, потом завучем, затем директором. Это было в апреле 1935 года.
А меня новый директор Михеев пришёл выселять из квартиры, так как дом, где мы жили, предназначен для школьного руководства. Я, конечно, запротестовала. Сказала, что не уйду. Искать частную квартиру не буду, дождусь конца учебного года и уеду к мужу. А ведь этот Михеев считался нашим хорошим другом. Не ушла с квартиры. Учебный год закончился, а мне пришлось лечь в больницу. В это время вышла статья Сталина «Головокружение от успехов». В ней говорилось, что руководящие кадры на местах «перестарались» и поснимали с работы многих честных людей. Пришла Жадкова Н.Г. и спрашивает:
- Как вы живёте? Чем вам помочь?
Не могла я, больная, ответить, как следует. Зато всю жизнь видела сны, что встречаю её и отвожу свою «душу», высказываю все наши обиды, что пришлось пережить нам из-за неё.
И, всё-таки, случай представился. В 1951 году я была вызвана на педагогические чтения в Академию наук. Мы договорились с Соней, моей подругой по университету, встретиться в Москве. А найти её можно было только через Гурченко, работающую в Министерстве Просвещения. В Москву поехала с Васей: боялась её одна. Приходим в Министерство к Гурченко, а в той же комнате находится Н.Г.Жадкова. Она пошла нас провожать. В вестибюле и по дороге вот уж я дала волю чувствам.
- Почему вы нам не писали? - спросила Н.Г.Жадкова.
И всё, что виделось во сне, в лицо высказала, как женщина подло поступила, какая она- предательница.
Молчала, ей нечем было оправдаться. И, тем не менее, на прощание сказала Васе:
- Пиши мне, только не квартиру, а «До востребования». Чтобы к мужу не попали письма.
Это при мне такое говорить? Ну, ни стыда, ни совести у женщины!
Вася не писал. Я ему верю.
Кончилась учёба. Мы с Настей собрали все вещи. С трудом нашли автомашину. До станции в Волоколамске- 40 километров. Никто не пришёл нас проводить, никто не помог.
Забрала своих детей-Гелю, Вилю, Галю, Лену. В Волоколамске сдали багаж «малой скоростью». Взяли только то, что можно нести в руках. Правда, Настя набрала корзину картошки. У нас в подполе осталось много крупных клубней. В Москве тогда было плохо с овощами. Ну, а я ничего не взяла. Только кур жареных штуки четыре. Пришлось всех хохлаток, которых Геля вырастила в инкубаторе, поколоть. Не везти же птицу на поезде! Настя осталась с Леной у Нади в Москве, а я с детьми к брату поехала. Билет до места назначения- станции Никольская- закомпостировать, сразу не удалось. А от неё до Октябрьского городка- четыре километра. Восемь дней пришлось стоять в очереди, чтобы закомпостировать билеты. Касса была у памятника первопечатнику Ивану Фёдорову. С утра до вечера приходилось возле неё дежурить. Вот на восьмой день очередь доходит до меня. Осталось человек десять до кассы. Вдруг какая-то старуха вытаскивает меня из очереди силой и кричит: «Ты моё место заняла. Это я здесь стою». Ну, конечно, спорю, прошу соседей подтвердить. Старуха продолжает кричать, меня толкает. Подходит милиционер: «Тише, тише, а то обеих из очереди выведу!» Вот моё положение. Троих детей на Катю оставляю, все продукты доедаем, денег практически не остаётся, надежды уехать из Москвы- почти никакой. Надо заехать к отцу, он один остался. Наплакалась, настрадалась, но билеты, в конце концов, закомпостировала. Проводил нас Лёня. В столице на отпускные деньги мы с золовкой купили Лене, Геле и Виле осенние пальтишки и ботинки, а Геле я сама за дорогу скроила из подсобного материала одёжку. Дорогой в вагоне я девочкам сшила шляпки из тюли на проволочном каркасе, чтобы они к папе нарядными приехали.
Встретил нас Вася. А жить негде. Квартиры нет. Школа ещё не работала. Поэтому до занятий поселили нас в класс с балконом. Сельхозтехникум разместился в большом здании. Имелось общежитие. Техникум был построен ещё в царское время для побочных детей всяких вельмож. Они здесь воспитывались и учились. Городок этот раньше назывался Николаевским, а теперь Октябрьским. Был дом для директора с мезонином., в котором разместилась вся школа. Правда младшие классы размещались в другом здании.
Наша квартира временная- класс с балконом. Ни кроватей, ни постели, ни подушек не было- один чайник, одна кастрюля, да простыни с детским одеяльцем. Хорошо, что- лето, тепло. Купили керосинку: можно готовить чай и обед. А спали на полу. Сено натаскали, простыни постелили, а укрывались своими пальтишками. К осени нам дали квартиру. Просторная- три комнаты и кухня. Опять жизнь наладилась, багаж пришёл. Квартира хорошая, работать в школе можно. Снова принялись за дело: учим, добиваемся хороших результатов, много работаем по воспитанию, готовим художественную самодеятельность.
1935-1936 годы. У нас родилась Иночка. В доме всё хорошо. Дети растут, умнеют. Геля, когда ещё в Лотошине жили, самостоятельно, без какой-либо подсказки или «наталкивания», сама спросила у меня разрешения: «Можно, я тебя буду тоже называть мамой». Больше ей никто не напоминал, и наши отношения были всегда тёплые. Она никогда не отказывалась от моих поручений. Ни разу не сказала: «Ну, тебя!» Галя уже говорила кое-что и звала «мамой». По её примеру и Виля сразу стал меня так называть.
По два года у нас жили домработницы и не знали, что дети от разных родителей. Не замечали разницы. А держать няней приходилось, так как у меня было 30 и даже 36 уроков в неделю, а дети- маленькие. С кем оставлять? Детских садиков ещё не было.
Наступил 1937 год. Василий Иванович, как директор школы, организовал юбилейное торжество в честь педагогов А.К.Уполовниковой и А.Ф.Акимовой. Обе проработали учителями младших классов по 25 лет. Подготовились хорошо. Торжественная часть, ученическая самодеятельность, гости из района, из сельхозтехникума, родители. Собрались все приглашённые, надо начинать, а районное начальство мешкает. О чём-то в запертом кабинете без директора В.И.Худякова совещаются. Потом подходят ко мне (а я была беременна Толей, пятым ребёнком) и говорят, чтобы открывала торжественное собрание вступительной речью:
- Почему я, а не Василий Иванович?- спрашиваю.- Он же директор. Притом, готовил учительницам юбилейный праздник. Нет, не буду.
Торжество не открывают. Сообщаю об этом Васе. Он в ответ:
- Раз так, то я ухожу!
Прошло много времени. Торжество не открывают. Я не соглашаюсь произносить речь. Начальство о чём-то пошепталось. Послали уборщицу за директором школы. Он не идёт. Послали учителя за ним. Тот тоже вернулся один. Тогда послали старого коммуниста, директора совхоза Добрынина, которого Вася уважал. Тот его уговорил. Василий Иванович открыл торжество, произнёс прекрасную речь в честь этих учителей. Все слушали с огромным волнением и вниманием. Потом состоялась художественная часть, приготовленная для этих учительниц. Очень хорошая художественная часть. Геля училась у одной из юбиляров, и танцевала в сценке, где играла роль ландыша. Потом состоялся банкет. Учительницам вручили в подарок по патефону, которые только появились в продаже. Всё прошло празднично, памятно для учителей, школьников и населения.
Почему не хотели давать слово В.И.Худякову? Оказалось, что это дело рук учителя Новокрещенова. Директор принял его на работу преподавателем географии и биологии, учил его методике подготовки и проведения уроков, снабжал учебниками, картами. Между ними установились дружеские отношения. И как товарищу Василий Иванович рассказал о том, как по ложному доносу был исключён из партии. А этот человек оказался настоящим «Иудушкой» из романа Салтыкова-Щедрина «Господа Головлёвы»: донёс об их разговоре. Однажды на педсовете директор что-то доказывал своё, а Новокрещенов сказал: «Это тебе не троцкистское собрание». Не выдержал Василий Иванович, схватил на столе графин с водой и замахнулся на обидчика. Спасибо, что я сидела рядом и успела отвести его руку от удара. Разве после этого непонятно, что донёс учитель географии. Ведь только тот знал об этом от самого Василия Ивановича Худякова. Это было второе коварное предательство человека, которому он помог в своё время.
29 июля 1937 года появился на свет Толя. Нахожусь в роддоме, вся переполнена счастьем. Но у ребёнка желтуха, плачет бедный, глазные белки жёлтые. Стонет, как взрослый, жалко его, но врач успокаивает: «Всё это пройдёт». Сын быстро поправляется. Вася, учительницы А.К.Уполовникова и А.Ф.Акимова ко мне ходят в родом. Я строю радужные планы, что на пятого ребёнка много получу денег за декрет. И мы них обязательно купим пианино. В семье все здоровы, дети ходят посмотреть на младшего брата. Хотя этот ребёнок не был запланирован, он родился и приносит нам радость. Я узнала, что беременна, когда была на пятом месяце. Плакала сначала. А потом была очень рада, когда родился ещё сын. Только Вася приходил ко мне грустный. Почему?
Мы принесли ребёнка из роддома, оформили свидетельство в ЗАГСе, зарегистрировались сами в бракосочетании. Всё было хорошо. Вечером, когда уложили детей спать, сели за письменный стол вдвоём. Вася мне сообщил, что его сняли с работы. Не исключено, что и арестуют. Многих уже арестовали, в том числе и мужа А.К.Уполовниковой, участника Гражданской войны. Не говорил мне об этом раньше, когда была в роддоме, а теперь откладывать нельзя. Решили уехать подальше. Посоветовались с ветераном партии Добрыниным. Тот посоветовал:
- Немедленно уезжай! Больше тебе ничего не скажу!
- Да ведь я ни в чём не виноват!- горячо говорил Вася.
- Уезжай!- настойчиво повторил Добрынин.
Вот вечером мы решили, а утром в 11 часов я проводила мужа с Гелей в Саратов. Отец решил напоследок сводить её в театры, музеи, кино, чтобы дочь город запомнила. Мало ли что может случиться. А дня через два-три уедет в Среднюю Азию. Там у меня старший брат Костя, он поможет. Утром проводила их, а в первом часу ночи громко залаял Джульбарс, наша умница собака-овчарка. Она была в столовой и бросалась на окна. Посмотрела, а около дома стоит «Чёрный ворон». Ну, всё, это за Васей. Стучат в дверь. Подхожу. Спрашиваю, кого нужно? Слышу знакомый голос председателя Сельсовета:
- Где Василий Иванович?
Я отвечаю: «Уехал в Саратов».
Переговариваются. А Джульбарс не унимается. Говорю:
- Отпереть вам дверь? Проходите, ищите, его нет.
Ответили:
- Не нужно, не отпирайте.
Или поверили, или испугались Джульбарса. Я ведь только первые сутки из роддома. Что мне делать? Голова разламывается, сон не идёт, конечно. Дождалась трёх или четырёх часов, чуть брезжит рассвет. Собрала Толю и сказала домработнице Шуре, которая ещё нянчила Иночку, что ухожу на станцию. Решила предупредить Василия Ивановича, чтобы не задерживался в Саратове. Пешком, одна с новорожденным ребёнком на руках шла четыре километра до станции Никольская. К поезду поспела. Прихожу к брату Серафиму. На квартире Васи нет: гуляет с дочерью по городу. Дождалась их. Сообщаю, что приезжал «Чёрный ворон». Скорее уезжай. Не задерживайся. А он упрямо, настойчиво говорит:
- Никуда я не поеду. Я ни в чём не виноват ни перед Родиной, ни перед народом. Пусть арестуют. Я не повинен, разберутся.
А Сима говорит:
- Не надейся на правду, Вася. Сейчас трудно доказать. Самых хороших людей сажают.
Я вспомнила, что у меня в Саратове есть хорошие друзья по школе на заводе комбайнов. Это Т.М.Винникова- заместитель заведующего облоно и А.С.Трофимов- секретарь одного из райкомов партии в Саратове. Винникова уехала в отпуск. Пошли к Трофимову. Что делать? Александр Степанович Трофимов говорит, что сейчас в основном арестовывают идеологические кадры, рабочих берут мало. А уезжать не стоит, только хуже будет. Будут думать, что скрывался, лучше идти на завод в рабочий класс. Есть какая-нибудь рабочая профессия?
- Есть.- отвечает Вася.- Маляр.
- Иди на Крекинг-завод, там нужны маляры.- дал совет Трофимов.
Вот и стал наш папа-Вася маляром.
А я с Гелей и Толей вернулась в Октябрьский городок. Дня через два приезжает заведующий районо и ещё кто-то. Предлагают мне с семьёй освободить квартиру. Я не соглашаюсь. Помню, как в Лотошине удалось не послушаться. Заведующий говорит:
- Не послушаетесь, вас арестуют.
- Детей куда?- спрашиваю.
- В детские дома определят. Так поступали со многими.
Пришлось подчиниться. Ничего не поделаешь, у них власть.
Предложили крестьянскую халупу. В ней не жили несколько лет. Потолки с трещинами. Земля из них сыпется, прямо в глаза будет падать детям. В углах просвет, стены в дождевых потоках. Рядом, через стену хлев. Зашли с няней Шурой в дом, оклеили потолки газетами, побелили стенки, углы глиной с коровьим помётом замазали, полы отодрали с кирпичом. Переселились. Дров нет. Купили соломы и соломой топили печи. Денег нет. Выплату декретных денег задерживают. Жить надо. Скоро 1 сентября, нужно раньше выходить на работу. 20 августа взяла с собой старшую дочь Гелю, чтобы помочь пелёнки нести, собрала Толю, а ему только 21 день от роду, и пошли мы в район, в Татищево, хлопотать, чтобы выплатили мне декретные. День был жаркий. Прижмёшь ребёнка, ему душно. Так вот на протянутых руках и несла сына до Татищева- 15 километров. Выплатили деньги, но с задержкой.
Вася в Саратове еле зарабатывал себе на хлеб. Стеснялся есть белые булки. Всё собирал нам деньги, на семью. А взяла 36 часов в неделю уроков русского языка и литературы. А чтобы детей было с кем оставить и за коровой ухаживать, ещё Шурину сестрёнку Марусю из Котла выписали.
Зима пришла холодная. Соломой печки не натопишь: скоро остывают. Дров из школы дали мало. Стенки до половины в инее всю зиму. Кровати близко к стене не придвинешь. Толю всю зиму не купали: холодно. Даже на печке нельзя было купать, так как углы ветер продувал. А всех старших, в том числе и Иночку, в общественную баню водила. Иночка заболела диареей. Ей было полтора годика. Лечили, но ничего не помогало. Девочка так ослабла, что даже ходить перестала. А у меня было много молока. Я как-то не думая прижала её к себе, дала ей грудь, она вцепилась и начала сосать. Стала регулярно её кормить, как и Толю, грудью. Пошла Иночка на поправку. А в марте она перенесла что-то вроде родимицы, припадки были с ней. В Саратов в детскую поликлинику её возила. Это было ещё до рождения Толи. Тогда я ещё не знала, что он у меня будет. И Васю не снимали с работы. А потом ветряной оспой переболели все дети. Особенно тяжело перенесла её Иночка. А теперь, в сентябре 1937 года, понос случился. Затем в этой халупе всех корь свалила. Особенно трудно перенесла её Геля.
В декабре- снова тревога. Нашли мужа в Саратове. Но случай спас. Он навестил нас на выходные дни, а за ним на «Чёрном вороне» снова приехали ночью на квартиру, где жил. Вот и ждал каждый день Вася, что в полночь за ним придут. Часа в два-три ложился спать, так как карета «Чёрного ворона» приезжала только в полночь. Сколько же надо сил, нервов, терпения иметь, чтобы выносить такие незаслуженные обиды, муки…
Ко мне в школе относились недружелюбно. Особенно председатель месткома и Новокрещеновы. Мои девчата, Шура с Марусей, за чистотой следили, да ещё в соревновании с другими мыли полы всегда с кирпичом, чтобы были жёлтыми. Ну, а кроваток много у нас было, для всех детей по кроватке- пять. Разве всё уставить в деревенской избе? Да моя кровать. Маруся с Шурой спали в кухне на печке или диване. Конечно, нет комфорта. Так вот комиссия признала, что нет уюта по вине хозяйки.
Гелю тоже, по той же причине, что отца сняли с работы, ребята обижали. Однажды девочку встретили после ученического вечера, стали толкать, отобрали её сумочку с бусами, лентами, костюмом, в котором она выступала, и разбросали всё по сугробам. Пришла вся в слезах. Я успокоила. Всё найдём. Взяли с собой собаку Джульбарса, дали понюхать сумку и пошли. Всё собрал до последней пуговки. Удивительно. И следу нет. Всё ведь по сугробам разбросано было.
20 декабря 1937 года умер мой папа. Поехать на похороны с грудным ребёнком страшно. Зима, автомашины туда не ходили. От станции до нашего села Котла- 25 километров. Сообщила по телефону через Симу, чтобы Вася вместо меня поехал. Но и он не поехал, так как на квартиру, где он жил, опять приезжал «Чёрный ворон». Тревожно было.
В январе Сталин опять одумался, в газетах появилась статья на ту же тему как «Головокружение от успехов». Вася с ней пошёл к секретарю райкома партии А.С.Трофимову. Тот ему сказал:
- Иди в облоно. Восстановят.
Сняли с него подозрение и представили работу учителя русского языка и литературы в селе Рыбушка Широко-Карамышского района. Выплатили деньги за прошедшие месяцы, как освободили от должности. Поехал в Рыбушку и взял с собой Гелю. Ему скучно, да и её избавил от незаслуженных претензий. Отлегло от сердца. Наработался Василий Иванович маляром. Потом показывал мне в Саратове, в каких домах красил. Удивлялись строители: не иностранец ли какой? На работу идёт в костюме, там переодевается. После смены умывается и идёт домой в чистой одежде, не как другие рабочие. А он уже и деньги накопил, и лесу купил, чтобы строить дом в Саратове для семьи. А мы в октябрьском городке выращивали свинью и бычка, чтобы продать, а деньги в дом вложить. Так весь стройматериал и пропал.
В Рыбушке принялся за педагогическую деятельность с рвением. Учениками были старшеклассники, с которыми два года почти не занимались русским языком и литературой. Школьники полюбили Василия Ивановича. Подготовил он их хорошо. Экзамены сдали успешно. Выпускники школы Резникова и Потехин, ставшие супругами, переписываются с нашей семьёй. Оба- видные специалисты: жена- художник, а муж- юрист.
1938 год. После смерти папы маму взял в Москву мой брат Лёня. Но ей городская жизнь не понравилась. Мы пригласили Александру Ивановну жить с нами. Мама приехала в Саратов на весенние каникулы и остановилась у своего сына Серафима. Я отправилась за ней, взяв с собой грудного Толю. А в это время появилась мать Лели и Вили Александра Павловна с казахом. «Телохранитель мой»,- так она рекомендовала его при встрече. Девчата мои, Шура и Маруся, напуганные всякими слухами об аферистах и жуликах, незваных гостей не пустили в дом. Женщина назвалась матерью Гели и Вили. Но в семье никогда не было разговора о том, что дети сводные. Два года Шура у нас жила и ничего не знала. Поэтому и подумала, что это аферисты. Больше дня Александра Павловна со своим «телохранителем» жила у других граждан и ждала, когда я приеду.
Только мы с мамой входим в дом, как девчата сообщают, что они натерпелись страху: второй день в дом ходит аферистка, называясь матерью детей. А они знают, что только я их родительница. Пришлось объяснить, что у Вили и Гели биологической матерью является эта женщина.
Пришла Александра Павловна. Мальчик сидел возле приехавшей из Саратова моей мамы, которая соскучилась по русской печке. Виля увидел мать и сразу спрятался за спину бабушки Саши. По его чёрным глазкам было видно, что сын её узнал. Александра Павловна стала манить его к себе. Но Виля ещё дальше спрятался за бабушку, так и не пошёл к ней. Я пригласила женщину в комнату, стала разговаривать, а «телохранитель» остался у порога и почему-то руку держал в кармане. Мои помощницы подумали, что у него там оружие. Александра Павловна сказала, что не думала расставаться с мужем навсегда. Пока она молода, поживёт в своё удовольствие и, в конце концов, они снова сойдутся. Её план таков: взять сына. Василий Иванович сам к ней придёт, несмотря на то, что у него пятеро детей. Как выразилась Александра Павловна, она явилась не с пустыми руками. У неё есть порочащие Василия Ивановича Худякова документы, и его могут за это арестовать, стоит только их представить куда следует. Мне стало как-то не по себе. Подумалось, что, пожалуй, она способна на подлость и у нас в доме. Но мне было жалко её как мать, что не увидит сына. Я сняла Вилю с печки, взяла его на руки. Мальчик так к ней и не подошёл. Мать стала уговаривать поехать к ней жить. Сын отказался.
- Нет, не поеду!- решительно мотал головой мальчик.
Тогда она говорит:
- Ну, поедем ко мне в гости.
А мальчик отвечает:
- Если мама (то есть я) поедет, то и я поеду.
И так отвечал несколько раз. Женщина показала мне фото с сыном, прижитым с казахом. Назвала его тоже Вилей. Ему уже один год. Так, погрозив, что ещё может что-то сделать, уехала со своим «телохранителем». Оказывается, она жила в 25 километрах от Октябрьского городка. Не помню названия села. Когда на майские дни приехал Василий Иванович, то сразу отправился на велосипеде к ней. Увидел этого казахчонка. Бегает весь грязный, запущенный. Спросил у бывшей супруги:
- И какие же у тебя есть документы, которые меня порочат?
Женщина сказала, что хранит подписанную В.И.Худяковым справку о работе учительницей русского языка два года. Между тем, она преподавала в школе этот предмет только один год. Вот что, оказывается, крылось за угрозой бывшей жены посадить в тюрьму отца брошенных ею двоих детей, которых тот воспитывал. Может быть, директор подписал пресловутую справку без умысла, просто даты перепутал. Перед тем, как ехать, Вася проконсультировался у прокурора: не может ли мать отобрать у него сына. Тот ответил, что Александра Павловна уже потеряла свои права на сына. И суд будет на стороне отца, который воспитывает ребёнка. Вася сказал об этом бывшей супруге, и она больше никогда не интересовалась детьми, которых бросила. Только Геле однажды прислала на платье розового материала, который приготовила будущему ребёнку от казаха. А родила не девочку, а мальчика. Поэтому розовый цвет не подходил, поскольку требовался голубой. А Виле она купила детский автомобиль. Мы его оставили в Рыбушке, так как некуда было класть в транспорт с вещами.
Мы в Рыбушке.
Весной 1938 года Василий Иванович приехал за нами из села Рыбушки. Мы собрали вещи. Муж, Виля, Галя, Иночка и бабушка сели в кузов грузовика, а я с младшим Толей в кабину к шофёру. Корову и бычка привязали к телеге. Маруся-няня поехала сопровождать на лошади, Шура осталась в Октябрьском городке, поступив техничкой в сельхозтехникум.
В Рыбушке у нас была неплохая квартира. Работать в школе интересно и комфортно. Отношения с дирекцией и учителями установились хорошие. Но плохо то, что не было больницы. Был медпункт с пьяницей-фельдшером. Если кто-то заболеет, то надо ехать в Саратов. Это ни мало, ни много, а 60 километров. Автомашины попутные ездили редко. Кроме того, нас разорили коровы. Сначала мы продали белую бурёнку, которую купили в Октябрьском городке. Приобрёл её заведующий Рыбушкинским потребительским обществом. Но не расплатился. А деньги немалые по тому времени- 800 рублей. Просили вернуть долг, а требовать мы по своей скромности не могли. Всё надеялись на честность. Купили молоденькую тёлку, которая давала ало молока- всего 2-3 литра в день. Уговорили нас поменять её на хорошую белую корову. Хотя она и давала много молока, но была уже старой. Вдобавок корова оказалась бруцеллёзной. Пришлось отдать её на мясо. В селе было много бруцеллёзных коров. Жители вынуждены сдавать коров на мясо. И многие люди болели бруцеллёзом, мучились и умирали от истощения.
Мы подкопили деньги и купили породистую корову. А это было в ту пору большой проблемой. С детьми без молока нельзя. Корова оказалась продуктивной. Но не прошло и года, как её тоже признали бруцеллёзной. Мы вынуждены были и эту бурёнку сдать на мясо. И вновь семейному бюджету убыток. Дети плакали, когда пришли за коровой. Виля, Галя и Иночка упрашивали людей в халатах не уводить их бурёнку.
Надо было снова копить деньги и искать породистую корову. А тогда это сделать было непросто. Услышали, что в Баланде на базаре можно выбрать хорошую корову. Мы с мужем на велосипеде отправились на станцию. Белые Ключи, кажется, называется. Там мы сели на поезд. Велосипед, конечно, взяли с собой. В Баланде жили в то время родители знакомой учительницы Марии Ивановны Буряковой, с которой мы продолжали переписываться. Было лето, и она находилась дома. Мария Ивановна училась в СГУ на историческом факультете. Из Октябрьского городка она уехала. Вышла замуж за студента А.В.Щукина. У них росла годовалая дочка Наташа.
- Ты помнишь их адрес?- спросил меня Вася.
- Конечно, помню,- заверила я мужа.
Номер дома я, действительно, знала. А вот название улицы забыла. Помнилось, Мария Ивановна говорила, что в Баланде всё переименовали с революционным смыслом. Вот мне и показалось, что их улица носит название «Революционная». Прибыли мы в Баланду (теперь город Калининск) часов в 10 вечера. Ищем Революционную улицу. Нашли. Действительно, Революционная есть. Улица длинная-предлинная, домики одноэтажные. Дошли с велосипедом до дома №11. Оказывается, в нём нет таких жителей. Я решила, что спутала название улицы. Наверное, она именуется Коммунистическая. Тоже есть такая улица. Имеется дом №11. Но и здесь нет жильцов Буряковых. «Может быть, Интернациональная?»- подумалось мне. Продолжаем искать. Есть и такая улица. Однако и здесь Буряковых нет. Уже час ночи. Я виновата, но Вася меня не ругает. Что делать? Уже нет людей на улицах. Встретили одного человека. Тот посоветовал обратиться в милицию. Так мы и сделали. Нам сообщили, что Буряковы проживают на улице Шумной. Вот так. Даже никакой связи с революционным смыслом нет. У Чехова в рассказе «Человек с лошадиной фамилией» связь хотя бы в том, что лошади овёс едят.
Корову мы не купили. Были рекордсменки. Молока давали раза в два-три больше обычных коров, но и стоили значительно дороже. И уход, и корм требовался и особый. Словом, не по нашим средствам. Зато нам понравился город Баланда, река Хопёр. Условия жизни лучше, чем в Рыбушке. Мы прямиком отправились на поезде в Саратов, чтобы облоно попросить перевода в Баландийскую школу. В облоно заместителем заведующего была Татьяна Михайловна Винникова. Мы с ней ранее работали в школе завода комбайнов. В Баланде вакансий учителей не оказалось. В Саратове мы познакомились с заведующей Балтайским районо Серафимой Ивановной Забелиной. Она приехала в Саратов в поисках кандидатуры на должность директора сельской средней школы. Во время встречи в облоно разговорились. Она рассказала, что представляет собой Царещина. В селе действуют колхоз и совхоз, леса кругом. А перед знакомством с Забелиной нам в облоно предложили поехать за Волгу в город Новоузенск. Вася был доволен. Степняк он сам. Простор до горизонта, обилие тюльпанов, запах полыни. А я из лесных мест, где шумят берёзовые рощи, повсюду грибные и ягодные поляны. При этом научена горьким опытом в Рыбушке. В селе больницы нет, бруцеллёз у коров и у людей, пыльная дорога. Расстояние до областного центра 90 километров. Помню, как мне пришлось ехать зимой туда из Саратова. Двое суток добирались на лошадях в плохой одежде. Ночевали где-то под Саратовом в избушке, топленной по-чёрному, вместе с извозчиками. Правда, меня поселили к соседям. Мы обсудили варианты, посоветовались с нашими братьями Серафимом Матвеевичем и Иваном Ивановичем и отправились с невесткой Ксенией на разведку в Новоузенск. Учителя там были нужны. Под квартиру предоставлялся двухэтажный особняк: нижний- каменный, верхний- деревянный. Вокруг степь, дров и угля не бывает. Кизяками топят те, у кого скотина. Купить дров негде. Идём по городу. Я удивляюсь, повсюду чисто, как подметено. Ни одной палочки и щепочки не валяется. Ни кустика перед домом, ни сзади него. Почти все жилые помещения из самана. На улицах не видно ни лошадиного, ни коровьего помёта. Иногда увидишь, как кто-то после утренней выгонки стада ладонями собрал жидкий помёт от коровы. Это показалось странным. Помнится, я сказала:
- Народ здесь чистоплотный, не загрязняют город. Не то, что в наших деревнях на правом берегу Волги.
На базаре много муки, крупы, мяса хорошего качества- то радует. Из деревень съехались на базар на коровах. Наблюдаю, женщины-горожанки с двумя вёдрами на коромыслах подбирают помёт у только что очистивших желудок коров. Опять думаю, что ради чистоты города. А Ксения говорит:
- Это женщины собирают жидкий помёт, чтобы хаты смазывать с глиной. Саманные домики надо поддерживать.
Идём по зелёной лужайке, отделявшей одну часть города от другой. Вижу: телята пасутся на траве. Девочка в белом платьице ходит с вёдрами и совочком собирает жидкий помёт в ведро. У меня сжалось сердце. Что-то недоброе почувствовала в этом. Подошла и спросила, зачем девочка это делает? Она ответила: «На топку».
- А кто тебе поручил?
- Учителя.- ответила девочка.
«Ну»,- подумала я,- «И нам также придётся заставлять Гелю, а подрастут- Иночку и Галю собирать жидкий помёт на топку. И решила всячески воспрепятствовать нашему назначению в эту местность, хотя Вася и любит степи. Когда мы пришли в облоно, чтобы отказаться от Новоузенской школы, то там вновь встретили С.И.Забелину. Она нас уговорила, и мы дали согласие работать в Балтайском районе.
К 1 сентября 1940 года Вася с имуществом на полуторке отправился в Царевщину. Сначала с отцом поехали Геля и Виля. Там они жили в семье Яшиных до тех пор, пока Н.В.Виноградова и Е.П.Колина не освободили директорскую квартиру.
Галю оставили со мной в Рыбушке. Боялись, что одна бабушка ней не справится. Галя была непослушной девочкой. А меня до приезда нового учителя литературы не отпускал Широко-Карамышский райком партии. Я была кандидатом в члены ВКП(б). И поэтому меня задержали в школе на два месяца. Жила с Галей почти без вещей. Вскоре приехал брат Сима, забрал остатки урожая овощей и увёз с собой Галю. Дочь в Саратове очень скучала. По целым дням стояла у калитки и в каждой проходящей женщине видела маму. А мне пришлось срочно продать корову, купленную недавно и остатки сена. На Хватовке (так иногда называли станцию Нессельроде, теперь Высотная), нас встретил Василий Иванович с конюхом дядей Лёней. В пути муж рассказал мне, что бабушке Саше очень нравится квартира. Особенно окна: большие, светлые.
- Всадник может проехать,- радостно заявила она зятю.
Приехали в Царевщину. И мне здесь понравилось. Дети все с нами. Геля учится в 8 классе, Виля- в 3 классе, Галя осталась дома. Мама с нами, я приступила к работе. Это было уже в конце октября 1940 года. В селе Алае купили корову. Назвали Зорькой. Корова оказалась молочной. Надаивали от неё по три ведра в день. Молоко- хорошее.
1941 год.
Пришла весна, нас всё радовало. В школе дела шли хорошо, в семье- тоже. Наступили летние каникулы. Мы ждали на лето из Пятигорска жену брата Феди с детьми. 22 июня поехали за ними на станцию Нессельроде. Встретили. Сноха Надя сказала:
- Я слышала на станции: война началась. Немцы наступают.
Мы вначале не поверили. Но немного погодя по радио сообщили эту страшную весть. Через некоторое время мой брат Федя сообщил, что его призвали в армию. Поскольку он ветеринарный врач, то его определили в конный эскадрон. Надя немного пожила у нас и уехала в Пятигорск. А там пришли немцы, и нашим родственникам пришлось много пережить в оккупации. В Царевщине начались сборы на фронт по мобилизации. Из школы призвали в армию учителей Цыганкова, Синицына. Очередь походила к Васе. Я ему собрала всё, что полагалось брать на фронт: тёплые носки, пару белья, шапку-ушанку, варежки. Эти вещи пролежали всю войну до победы в шкафу. Но его на фронт не брали из-за контузии в период Гражданской войны.
Вскоре стали приходить в село похоронки. 3 июля получили обращение И.В.Сталина к народу. Начиналось оно со слов: «Братья и сёстры…» Вождь призывал всех на борьбу со страшным врагом.
Вечером 4 июля при свете семилинейной лампы у сельского Совета был собран сход граждан. Мне, как партийной учительнице, поручили читать это обращение. Настроение у все было тревожное.
Вскоре стали прибывать эвакуированные, которых размещали по домам сельских жителей. А похоронки всё приходили и приходили, взрывая избы надрывным плачем по погибшим на фронте воинам. Враг рвался к Москве. Начали брать на фронт всех взрослых мужчин даже с физическими недостатками. Вполне могли призвать в армию и Василия Ивановича. Но случилось так, что погибло много людей со специальным высшим образованием. В Балтайском районе таких людей осталось всего трое: педагоги В.И.Худяков, Мария Матвеевна Десятова и врач А.П.Калязин. И мой муж не попал на фронт. Но ему, как участнику Гражданской войны, военкомат поручил готовить допризывников в армию и народное ополчение из пожилых и молодых граждан. После уроков директор школы долго занимался с ними по определённой программе: рыли окопы, лазали, ползали, изучали винтовку.
Трактора, автомашины, лучших лошадей- всё забрал фронт. Хлеб в колхозах убирать некому было. Остались только женщины и старики. Молодых девушек мобилизовали на оборонительные работы. А хлеб пришлось убирать серпами. Комбайны были, но он могли работать только в сцепке с тракторами, которых в селе практически не осталось. Я умела хорошо жать рожь серпом. Поэтому добровольно стала помогать местному колхозу. Я взяла с собой старшую дочь Гелю, научила её пользоваться серпом. Ну, и как обычно бывает, девочка порезала себе руку. Завязала ранку (я заранее брала с собой йод и бинт), и Геля продолжала со мной жать рожь. По нашему примеру и другие представители интеллигенции начали помогать колхозу. Хлеб с полей убрали, а картошку не успели. Клубни выкопали, а вывезти не смогли. Картошка осталась в буртах под снегом, который выпал рано. Подсолнухи тоже не успели убрать.
Тревожно ждали 24-й годовщины Великого Октября. Гитлер грозил свой парад провести в этот день на Красной площади. Все напряжённо ожидали: будет ли говорить Москва? Некоторое время вместо столицы передачи транслировались из Куйбышева. Все радиоприёмники были отобраны и слушать их было запрещено. В годовщину Октября шёл снег, а учителя вместе со старшеклассниками отправились с серпами на Барнуковскую гору резать шляпки подсолнухов.
Парад состоялся на Красной площади. И его проводила наша Советская власть. Через некоторое время враг был отброшен от Москвы. Но опасно было в других местах: в Ленинграде, Орле, Курске, Киеве, на Северном Кавказе. А потом и до Сталинграда дошла война. С тревогой слушали голос Левитана о том, какие потери несла наша страна. Газет тогда было мало. Но мы выписывали в школу всё, что было возможно.
Народ интересовался событиями на войне. И все учителя были распределены по десятидворкам, чтобы сообщать населению о том, как идут дела на фронте. Василий Иванович тоже проводил лекции среди населения. Приходило много эвакуированных.
В годы войны было много волков, которые резали запоздавших из стада овец.
1942 год был особенно тревожный. Хлеб давали по карточкам по 400 граммов на работника и 200 граммов на детей. Картошки мало уродилось. Колхозникам не выдавали хлеба. На трудодни продуктов получали мало. В Еленовке, соседней деревеньке, люди питались, в основном, тыквами. Лицо и тело у них были жёлтые, как при желтухе. Хорошо у кого имелись коровы, их хоть молоко спасало. А когда они не доились, то купить было негде. Всё село исходишь и не найдёшь. А кринка молока стоила три рубля. Тогда эти деньги были дорогими. Особенно голодно было весной.
Голод 1942 года.
Мама, Александра Ивановна, жила всю войну с нами. Она рассказывала, что в голодном 1921 году в селе Котле крестьяне раскапывали ямы с промёрзшей картошкой, зарытой лет 10-15 назад. И оказалось, что клубни сохранились в виде крахмала в кожуре, и многие люди этим спаслись от голода. Я вспомнила 1933 год, когда весной ехала в Котёл с маленькой Галей на руках. В поле встретила своих бывших учениц, которые по колхозному полю собирали прошлогодний картофель на блины, как они говорили. Вот и я с Грушей Ирдеменьевой, тоже многодетной матерью, отправилась на поиски прошлогодней картошки. Нам повезло. Нашли целый бурт промёрзших клубней, брошенных осенью. Мы набрали картошки, промыли, кожуру очистили, пропустили через мясорубку и пекли блины. Нам казалось, что вкуснее ничего не может быть.
А ещё пекли просо в ступах и прямо с кожурой пекли из такой муки блины. Но это было опасно для здоровья. Груша придумала печь лепёшки из барды. Так назывались отходы пшеницы после переработки на спирт. Барду женщины сушили на крыше, потом толкли в ступе и пекли лепёшки. Я тоже пробовала жарить блины из таких отходов, но всех тошнило с такой пищи. Сил было мало. Бывало, пойдём с мужем на огород мотыжить, полоть- и несколько раз останавливаемся дорогой, чтобы отдохнуть. Барда на спиртзаводе была доступна всем. Мы носили её вёдрами: летом для кур, свиней, коровы. А зимой возили на санях в ящиках. Это было большое подспорье для кома скотины. Мы могли содержать корову, 2-3 овцы, свинью, кур штук 10. А вот барду носили и возили на себе.
Голодно было, но в сёлах у нас никто не умирал от истощения. Особенно тяжёлым оказался 1942 год. Жалко было детей. Утром похлёбка и маленький кусочек хлеба. 200 граммов делили на три части. Но ели три раза в сутки: утром, в полдень и вечером в 7 часов. Очень трудно было дождаться 12 часов. Дети уже и просят есть. Я говорю: «ждите 12 часов». И укладываю Иночку и Толю спать до обеда. При этом думаю: если они будут лежать, то есть им меньше захочется. Пятилетний Толя лежит в кроватке и сам себе говорит: «Ой, как есть хочется». А меня от этих слов, как по сердцу ножом…Так жалко всех…
Сначала детей покормлю. Потом из школы приходит отец. Ему столько же еды! Я делила хлеб всем поровну. И себе, и отцу не меньше. Хотя хотелось всё отдавать детям. Но я всегда помнила, как мне в селе Рыбушке рассказывали про родителей моего ученика Миши Порожнякова. В 1933 году они сами ничего не ели, всё отдавали детям. Ребята выжили, а родители умерли от голода. Поэтому я старалась делить еду всем, чтобы не оставлять пятерых детей сиротами.
Придёт, бывало, отец из школы обедать. А Иночка с Толей тоже за стол сядут и смотрят ему в рот. Как только крошка хлеба упадёт от кусочка отца, они её хватают и в рот. Это тяжело.
Вспоминался голодный 1933 год в Саратове, Котле, когда с голода умирали прямо на улицах, а с хлебом, полученном по карточкам, нельзя было ходить. Я сколько раз видела, как голодные выхватывали хлеб из сумок и тут же запихивали в рот. Поэтому рабочим и служащим завода комбайнов развозили по домам хлеб в специальных закрытых фургонах.
Бои под Сталинградом.
Хотя от Москвы врага отбросили, но немцы по своему плану приближались к Сталинграду. А 12 августа, как говорили, они намеревались быть в Саратове. Осенью 1942 года бомбили Саратов, особенно заводы Крекинг и комбайнов. Наша область- на военном положении. От Царевщины до Саратова 130 километров. Сбивали вражеские самолёты около города Вольска и села Донгуз. Один такой самолёт привезли в школу. Его разобрали по частям и затащили на чердак над конюшнями, где ребята устроили свой тимуровский штаб.
Было тревожно. Уже и мы думали: что делать? Пути для эвакуации небезопасны. Железные дороги перегружены, а на переправах через большие реки вражеские самолёты бомбили скопившихся беженцев. Создавать партизанские отряды ненадёжно: леса небольшие. Неизвестно, как поведёт себя население. А мы с Василием Ивановичем вступили в партию. Я в члены, а Вася кандидатом в члены ВКП(б). Кое-кто пугал:
- Зря вступаете. Немцы придут, и вас вздёрнут на виселицу.
Враг в Сталинграде. Бои идут страшные. Голос Левитана тревожный, но не панический. Куда убежишь с большой семьёй, а я ещё беременна Люсенькой. 4 ноября 1942 года умер мой старший брат Костя. Как сообщить маме? Спрятали телеграмму, а 25 ноября я пошла в роддом и попросила мужа сказать маме такую страшную весть. Вася не решился. 25 ноября родилась Люсенька. В эти дни совершались решительные бои под Сталинградом, и враг был сломлен. Люсенька прожила пять с половиной месяцев и умерла от того, что покормила её перегоревшим молоком. Я была виновата в её смерти: так мне было её жаль. И я дала слово себе, что никогда не буду делать абортов! Пусть родятся дети, сколько захочет их дать мне природа и моя судьба. Потом родились Костя 1 января 1945 года и Таня 12 августа 1947 года.
Нужда увеличивается. 1942-1943 годы. Всё подносилось. Обуви нет. Василий Иванович как директор сделал заявку старикам на изготовление лаптей. Их плели из липового лыка. В качестве премии раздавали ученикам лапти. Директор сам и его дети тоже надели лапти-ступни. Валенки, полушубки, варежки, носки, другие тёплые вещи отправлялись на фронт. Ученики собирали их по домам. И что удивительно: бедные граждане были более отзывчивы, чем зажиточные. Последние почти ничего не давали.
Фронту нужны были спирт и махорка. Колхоз отвёл большую площадь под табачную плантацию. От школы до улицы Кайманы. Надо было её обрабатывать: обрывать побеги, это могли делать и дети. За рабочий день давали детям 300 граммов размолотого пшеничного хлеба. Наши дети: Геля пятнадцати лет, Виля одиннадцати лет и Галя восьми лет в каникулы первого года войны стали ходить на табачную плантацию. И фронту помогали, и себе зарабатывали на еду. Хлеб давали в конце рабочего дня. Дети его по дороге домой ели. По настоянию старшей сестры Гели все оставляли кусочек недоеденного хлеба, чтобы угостить маму, папу, Иночку с Толей. До слёз было жалко брать обкусанный хлебный ломтик. Но я брала с благодарностью. Видела их счастливые глаза. А вечером им снова подкладывала их огрызки, которые они с молоком ели в ужин.
Все дети работали на своём огороде. Первый год у нас был участок, а на второй год войны колхоз дополнительно выделил на бабушку ещё 15 соток. Поэтому в 1942-1943 годы у нас было больше посажено картошки и тыквы. Эти овощи особенно выручали. Из картошки мы пекли блины. Овощи варили, жарили, клали в суп, щи. Насчитывали до 70-90 блюд из картофеля.
Старшие дети работали в колхозе на прополке овощей. В конце дня Геля каждый день приносила траву корове, чтобы больше давала молока. Вся семья участвовала в заготовке корма для животных. И специально за травой для сена с мешками ходили на Кручу. Так называли в селе крутую лесную горку.
В зиму 1942 года каменное здание школы было взято для казармы, имея в виду отступления наших войск. Приходилось детей учить в три смены.
Зарплату, которую учителя получали, отдавали в пользу фронта. Себе оставляли ровно столько, чтобы выкупить хлеб по карточкам. Коллектив школы проводил большую работу с населением по сбору средств на нужды фронта. Мы отослали в действующую армию не одну тонну посылок с сухарями, копчёными курями, табаком, сушёной тыквой, тёплыми вещами. Нами было собрано 65 тысяч рублей. Все деньги отослали в Москву с просьбой купить танк имени Царевщинской школы с наказом экипажу беспощадно бить врага. Верховный Главнокомандующий И.В.Сталин прислал на имя В.И.Худякова и комсомольского секретаря Н.В.Хантова благодарственную телеграмму. Пионеры повесили в каждом классе копилки и таким образом собирали деньги ежедневно. Шла переписка школьников с бойцами фронта. Каждое письмо зачитывалось в классе. Ребята просили воинов не щадить врага и прогнать его с нашей земли. Страшные вести приходили с фронта. Многие получали похоронки. Стали появляться военные повести «Семья Тараса» Горбатова и «Радуга» Ванды Василевской. Эти книги мы читали с учениками на уроках в школе и гражданам на десятидворках. Враг был отброшен от Сталинграда.
На базаре в Саратове можно было кое-что купить, но, в основном, на продукты. Мы решили с согласия всей семьи есть снятое молоко и копить масло. Картофельные оладьи ели со снятым молоком. Масла накопили полведра. Поехали с мужем на базар в Саратов. Купили на проданное масло Виле бязи на рубашку и скатерть для простыни. Геле сарафанчик ситцевый и серого коленкора Иночке на платье.
Настроение у населения тревожное, унылое, хотя Красная Армия понемногу стала возвращать наши города и сёла. В семьи продолжали приходить похоронки. Юношам из десятого класса выдавали свидетельства об окончании средней школы, чтобы направить на фронт. А девушек мобилизовывали на окопные работы. В войну погибли многие ученики нашей школы.
Осенью 1943 года Василий Иванович уехал в Москву на курсы ЦИПКНО. Дни стали короткими. Не успеешь прийти из школы, как уже темнеет. Уроки учить, тетради проверять, а света нет. Электричества тогда совсем не было, и керосина мало. А ужинали с лучиной, как в старину. Учили уроки, и я ютились около зажжённой голландки в спальне. Тетрадей не было, писали на старых книгах, газетах. Чернила делали сами: плоды клёна или шишечки на дубовых листьях мочили вместе с ржавым железом.
Однажды вечером около школы остановилась автомашина. Из неё вышел городской человек, видимо, какой-то начальник из Саратова. Спрашивает директора школы. Я говорю, что он в Москве на курсах. Гость меня расспросил, каково настроение у населения, как в школе? Я всё рассказала и пожаловалась, что нет в школе керосина. Он мне сказал:
- Надо поднять настроение у граждан.
- А как?
- Да вот как!- ответил приезжий. И задал новый вопрос:
- У вас найдутся люди, знающие старинные русские песни?
- Найдутся!- сказала я в ответ.
- Организуйте хор стариков.- продолжал развивать свою мысль приезжий. Поднимайте настроение у граждан. А керосин у вас будет!
Сел в автомашину и уехал. И, правда, керосин у нас вскоре появился. Приехал Василий Иванович. Приступили к организации хора стариков, как мы его тогда назвали. Начались спевки при свете семилинейной лампы. Готовили старинные русские песни «О Ермаке», «По диким степям Забайкалья», «Вечерний звон», частушки. Выступали в клубе. Население было довольно. О нас узнали в областном центре. Пригласили в Саратов.
Геля поступила в Ленинградский эвакуированный университет. Жила она в тяжёлых условиях, голодала. Да и университет уже собирался обратно в Ленинград. Геля ещё очень юная, чтобы так далеко в военное время её отпускать. Мы взяли дочь домой. На следующий, 1943-1944 учебный год, она на правах золотой медалистки поступила на филфак СГУ имени Чернышевского.
Приехав с курсов из Москвы, Василий Иванович принялся с новой энергией и новыми знаниями за учебно-воспитательную работу в школе. За основу были взяты идеи А.С.Макаренко. Мы читали с педагогами и учениками его художественные произведения и научные труды, старались по мере возможности применять новаторские методы в своей практике. А сам Василий Иванович как директор школы взялся за основную тему в практике школы- создание школьного коллектива. Он поставил задачи:
Создать, воспитать сознательную дисциплину.
Организовать ученическое самоуправление.
Взяться за большое общественно-полезное дело, на котором воспитывать школьный коллектив.
Эти задачи были выполнены, и он своим опытом делился на областных педагогических чтениях.
Силами школьного коллектива все три учебных здания были обнесены изгородью, заняв довольно большую территорию. Посажен яблоневый сад, малина, декоративные растения для парка. Все три здания утопали в зелени. Здесь проводили большую работу по наблюдению за растениями и этим воспитывали у учеников любовь к труду. Школьники участвовали в заготовке дров в лесу и изготовлении кизяков на топливо. У колхозной и совхозной конюшен накапливалось большое количества навоза, так как возить его в поля не имелось транспорта. Директор был родом из Заволжья, где в качестве топлива изготавливались кизяки. Ремонт школы тоже проводился силами учителей и учеников. В летние каникулы дети работали в колхозе и совхозе. Учащиеся младших классов ходили собирать хлебные колоски, а старшие ребята участвовали в более сложных работах на полях и огородах.
И, всё-таки, директор находил время лично заниматься воспитанием школьников. Вместе с учителями физкультуры и пионервожатой совершал походы на открытой местности. Большую работу коллектив школы проводил с населением, прививая культуру быта.
В микрорайонах села Царевщина действовали тимуровские отряды По существу все школьники были вовлечены в эти полезные движения. Отряды между собой соревновались. В каждом тимуровском микрорайоне была своя спортплощадка, старшие ребята заботились о младших. Школьники организованно проводили каникулы. Помогали семьям фронтовиков, престарелым гражданам: носили воду, рубили дрова, мыли полы, работали на огородах, устраивали концерты художественной самодеятельности, обеспечивали книгами. Вся эта работа проводилась под непосредственным руководством директора школы Василия Ивановича Худякова».
Воспоминания Инессы Васильевны Климовой (Худяковой).
Папа, Василий Иванович Худяков родился 3 января 1903 года. Его отец делал крыши, чинил их, и маленький Васятка, как его звали в семье, часто ему помогал. Дед любили пошутить. И папа такой же азартный, фантазёр, романтик. Вечно стремился к чему-то хорошему, восхищался природой, страстно любил книги, читал их вдумчиво, не спеша. В селе Царевщина улицу, на которой мы жили, назвали его именем. И это по заслугам.
Всего себя отдавал работе с учащимися. Жизнь в школе кипела с утра до ночи. Когда не было электричества, вечерами занимались при керосиновых лампах. Всем было очень интересно. Детей в школе ждали различные кружки, хор, концерты тематического вечера, спектакли, диспуты, собрания, походы, тимуровская работа, спортивные соревнования и многое другое.
Папа приходил обедать, час спал. Мы все знали, что в это время нельзя его будить. Потом папа шёл на почту за газетами, так как их было много, и он жалел письмоносцев.
Где-то до 11-12 лет я считала, что папа самый лучший во всех отношениях человек на Земле. И очень удивилась, когда подружка мне сказала, что на своих отцах не женятся. Папа нас редко ругал, но если ругал, так уж держись! И мы боялись доводить его до гнева. До сорока лет папа был заядлым курильщиком, потом бросил. Любил выпить рюмочку хорошего вина, но спиртным не увлекался. Употреблял, как говорится, в меру. Любил хороший чай. Мог выпить его несколько стаканов за беседой с нами по вечерам.
Папе хотелось, чтобы у нас в доме было чисто и красиво. Но семья большая. Чтобы прокормиться, держали корову, поросят, кур во дворе. А зимой телёнка, ягнят переводили в закуток у печки в доме: иначе на улице замёрзнут. Да нас, взрослых и детей, в тесных комнатках множество. Поэтому папина мечта о скромном бытовом комфорте исполнилась лишь тогда, как была ликвидирована почти вся скотина. Кроме кошки, собаки и кур в доме больше другой живности не держали. Да и мы все выросли и разъехались. И папа заскучал. Ему всегда хотелось видеть в маме светскую даму. Но она была постоянно беременная, усталая, не выспавшаяся, полная забот. Управившись с домашними делами, допоздна засиживалась за кипой тетрадей, которые надо обязательно проверить. Да и литературу филологу требовалось обязательно читать…А ещё сшить и поштопать одежду, приготовить еду и накормить семью, помочь детям с уроками, убрать в саду, заняться скотиной. Безусловно, всё это не позволяло маме стать настоящей Леди.
И всё равно романтичный папа не мог обходиться без мамы: взгляды на жизнь, идеология, отношение к работе- всё у них было одинаковое. И, конечно, детей- «семеро по лавкам». Переживания за наследников, радость за их успехи, моральная и материальная поддержка ещё больше сплачивала родителей. Все внуки по целому лету гостили у бабушки с дедушкой, доставляя им немало хлопот. Но для мамы и папы было большим счастьем возиться с детворой. Дедушка читал малышам книги, совершал с ними прогулки в рощу, на Кручу. А какие походы с внуками он организовывал! С собакой, с рюкзаками, с биноклем, с кинжалом по оврагам и берегам речки Алай доходили до её истоков. Всё это, конечно, оставляло глубокий след в детских душах, расширяло кругозор.
Книги.
(Воспоминания И.В.Климовой (Худяковой).
Наш папа Василий Иванович Худяков был большой книголюб. Он книги и покупал. Мы все окружали его в ожидании очередного чуда. И оно неизменно происходило. Папа показывал нам купленные издания, комментировал их содержание, рассказывал об авторах. И мы все растекались по своим уголкам с выбранными книгами. Моё любимое место было на сундучке бабушки перед голландкой. Однажды папа купил «Хижину дяди Тома» Бичер Стоу. Дал книгу Танюшке, которой было лет десять, и сказал: «Если ты при чтении не заплачешь, то я тебе куплю шоколадку». И вот помню такую картину: Танюшка, вся в слезах, бежит к отцу и сквозь рыдания говорит: «Папа, не дари мне шоколадку: я не выдержала и заплакала!» Отец поцеловал её и сказал: «Вот за твои слёзы я обязательно куплю тебе не одну, а две шоколадки». Папа сам вечерами читал нам на куне за самоваром интересные места из книг. Особенно любил И.С.Тургенева, А.С.Пушкина, литературу о Шаляпине, о великих шахматистах. Читал очень выразительно, артистически. Слушали всегда затаив дыхание.
Когда мои дети, Марийка и Таня, чуть подросли, то каждый день забирались к дедушке на колени, и он самозабвенно читал им детские книги. Самой любимой у всех ребят нашего племени была и есть повесть «Динка» Осеевой.
Папа умел интересно рассказывать. Когда дети ходили с им в поход и начинали уставать, то он начинал рассказывать что-нибудь. Шли вокруг него гурьбой и слушали, забыв об усталости. Василий Иванович много знал, страстно любил жизнь, восхищался прекрасным, природой, красивой женщиной, цветами. Выписывал много журналов и газет. Чтобы не затруднять почтальона, сам ходил за почтой. По вечерам в его кабинете долго горел свет: папа читал. В школе он преподавал литературу, историю, логику. Мы, ученики, были по очереди влюблены в писателей и поэтов, которых изучали. Старались прочитать все книги этих авторов, восхищались Маяковским, Есениным, Блоком.
В семье Худяковых любили делать друг другу подарки.
В семье любимыми праздниками были 1 мая, 7 ноября, Новый год и дни рождения. В доме всегда было много детей. Деревня- грязь, мухи, скотина, в доме бедненько и не очень чисто. Но к праздникам мыли с мылом двери, чистили окна, купали цветы, оттирали полы с песком до желтизны (полы были некрашенными), мама затевала пироги. В праздники были обновки, всё сияло чистотой и радостью. Когда к дому пристроили кухню и большую веранду, мы, дети, подросли, в комнатах появились новые книжные шкафы, шифоньеры, диваны. У нас было четыре комнаты, стало уютнее и чище в доме. Мама выписала пианино и стала нас сама по самоучителю учить играть. У всех дело пошло. Но лучше всех играли Галина и Виля. Они были самые музыкальные. Играли не по нотам, сами импровизировали. Костя и Танюшка исполняли серьёзные вещи по нотам. Толя тоже неплохо играл. Меня, Гелю, папу бог музыкальным слухом не наградил. Но мы очень любили петь, врали, но самозабвенно пели. Папа был заядлый шахматист. К нему часто приходили учителя, знакомые сыграть партию. И папа всегда бубнил один и тот же мотив «Взял бы я бандуру…»
Потом у Василия Ивановича была любимая песня «О, голубка моя…».
На Первое мая ходили мы, дети, потом уже молодёжь, в лес за первыми подснежниками. Собиралось всё село. По улице ходили с плакатами, знамёнами.
С рождением детей и внуков Василий Иванович сажал во дворе деревце. А вокруг дома и двора был школьный огромный сад-парк.
Василий Иванович вышел из семьи мастеровых людей. Все четыре брата получили высшее образование, стали видными людьми. Василий Иванович жизнь посвятил учительской профессии. Педагогическая работа была его призванием. Он обладал широкой эрудицией. Чем была богата его голова, спешил делиться с коллегами и учащимися. Энергия в нём била ключом. Видя в своих детях недостатки, выступал против них жёстко. С возрастом помягчел, на их шалопайства смотрел с юмором. К внукам и внучкам относился нежно.
Василий Иванович до конца своих дней творил полезные дела. Он, как секретарь партийной организации ветеранов, занимался обустройством жизни и быта пенсионеров микрорайона, выступал с лекциями на воспитательные и международные темы. Василий Иванович до глубокой старости делал ежедневные пятнадцатикилометровые пробежки летом, большие переходы на лыжах по лесу зимой, увлекая за собой и супругу. В свои 60 лет Василий Иванович выдержал довольно трудный пеший поход по Уральской тайге.
В своей воспитательной работе Василий Иванович и Мария Матвеевна использовали и развивали учение А.С.Макаренко, выпускали научные труды, которые вошли в учебники для студентов педвузов.
Жизнь Василия Ивановича закончилась преждевременно и трагически. У него развилась онкология лёгких.
Василий Иванович запомнился своим ученикам не только как талантливый организатор и воспитатель, но и прекрасный оратор. Когда он выступал с докладом или лекцией в клубе совхоза «Царевщинский», зал был всегда переполнен. Вместе со взрослыми приходили и школьники. Характерно, что в руках оратора слушатели никогда не видели бумажек. Безупречная дикция, яркие эпитеты и сравнения речи, глубина и темперамент изложения материала, чёткие ответы на вопросы завораживали присутствующих, вызывали горячие аплодисменты.
Примечательно, что Василий Иванович активно использовал разные формы поощрения отличившихся ребят. Причём делал это не только публично, на общешкольных линейках и торжественных мероприятиях, но и камерно, у себя в кабинете.
А с каким энтузиазмом ученики восприняли в школьном коллективе организацию тимуровского движения! Было приятно школьникам осознавать, что в их помощи нуждается старшее поколение. Своим участием и заботой ребята старались хотя бы частично облегчить жизнь прошедшим кровавую войну инвалидам, многодетным семьям погибших на фронте кормильцев, престарелым ветеранам труда. Это сейчас создана сеть социальных работников, а тогда их функции в Царевщине выполняли пионеры и комсомольцы. Всё село было поделено на микрорайоны, в каждом из которых действовала тимуровская группа. Мальчишки в основном выполняли мужскую работу: пилили и кололи дрова, укладывали их под навес, помогали хозяевам управляться с живностью на подворье. Девочки закреплялись за пенсионерами и больными, убирались в квартирах, покупали продукты и лекарства. В нашем микрорайоне жил инвалид без ног и кистей рук. Тимуровцы круглый год выполняли мужскую работу в его доме.
Радость совместного коллективного труда школьники получали на школьных субботниках, в многочисленных кружках по направлениям.
Под влиянием В.И.Худякова и М.М.Десятовой многие выпускники Царевщинской средней школы избрали учительскую профессию.
«Истина конкретна»,- любил повторять изречение философов преподаватель обществоведения Василий Иванович Худяков. В бытность директором школы он талантливо подобрал и сформировал педагогический коллектив. Безграничную любовь к детям, искусство воспитания подрастающего поколения Василий Иванович и Мария Матвеевна генетически передали своим наследникам.
Все учащиеся Царевщинской школы разных поколений воспитывались на примере богатой духовной жизни своих педагогов. Воспитывали на всём лучшем от своих наставников. Именно ими было привито чувство справедливости, достоинства, благородства, чести. Школа являлась средой постоянного обитания. Внеклассная работа кипела, вовлекая в свою орбиту взрослых и детей. Взаимосвязь с сельской общественностью, да и районной была хорошо налажена. Не случайно из стен школы вышло так много известных учёных, специалистов, руководителей, ставших гордостью района и страны. Плеяду неординарных личностей воспитала семья сельских педагогов Худяковых: Галина Васильевна Чернышёва- учительница английского языка, Анатолий Васильевич- доктор физико-математических наук, Константин Васильевич Худяков- художник с мировым именем, Заслуженный художник России, действительный член академии художеств Росси, президент Творческого союза художников России, Инесса Васильевна Климова- учительница немецкого языка, Татьяна Васильевна- учитель химии, Энгелина Васильевна Ушерович- известная журналистка.
Василий Иванович из нынешнего времени видится своим ученикам демократом. Он не допускал никакой авторитарности, высокомерности, нравоучительства в отношении учеников, своих коллег и сельских жителей. Уважал в каждом человеке право на личное мнение, личную свободу. Был с учениками на Вы.
Из воспоминаний учителя русского языка и литературы Мазанова Александра Васильевича.
«Впервые я увидел Василия Ивановича Худякова в 1940 году ещё сам, будучи учеником. В Царевщину он приехал вместе со своими маленькими детьми. Помню, что одет он был очень скромно, и на это обратил внимание не я один. Что я могу сказать о Худякове, как о педагоге? Во-первых, он великолепно знал литературу, начиная с древнерусских текстов и заканчивая последними новинками, как советскими, так и зарубежными. И в этом ему, я считаю, равных в нашем Балтайском районе не было. Кроме того, Василий Иванович имел за плечами два высших образования: юридическое и педагогическое.
Во-вторых, он как-то сразу сумел произвести сильное впечатление на всех: и на учителей, и на учеников. Из армии я демобилизовался в 1948 году и первые два года проработал секретарём в сельсовете. Василий Иванович предложил вести в школе физкультуру и военное дело. Я согласился. Через год опять обращается ко мне, на этот раз с новым предложением: «Не хотите ли Вы, Александр Васильевич, получить высшее образование?» И снова я согласился. В 1958 году я закончил институт и сразу начал преподавать русский язык, а через год и литературу. Василий Иванович Худяков был прекрасным педагогом, хорошо знал свой предмет. Но не меньше времени отдавал Василий Иванович воспитанию, считая эту составляющую учебного процесса куда более важной в формировании Человека. Всё новое, что тогда появлялось, он старался внедрить в повседневную практику. Причём вовлекал в это и весь коллектив. Ту же «Педагогическую поэму» А.С.Макаренко он читал не столько, как художественное произведение, как руководство к действию: что можно взять у великого педагога и перенести в нашу жизнь? Антона Семёновича часто упрекали, что его опыт весьма специфичен и годен только для работы с определённой категорией детей: беспризорников. На что тот всегда отвечал: «Моя работа с беспризорными отнюдь не была специальной работой с беспризорными детьми. Во-первых, в качестве рабочей гипотезы и с первых дней своей работы с беспризорными установил, что никаких особых методов по отношению к беспризорным употреблять не нужно…» И эти методы весьма успешно работали в отношении любого ребёнка.
Так для себя Василий Иванович вывел следующее: надо увидеть в мальчишке или в девчонке то, за что можно «зацепиться», потянуть, как за ниточку, стараясь выявить в характере или поступках то хорошее, что может быть скрыто под всякой «шелухой». Выявить и, опираясь на это, развивать. Следуя этому принципу, наш директор требовал и от других. Не всегда и не у всех это получалось, но мы старались.
Много времени Василий Иванович уделял физической закалке учеников. И как-то очень органично у него переплеталось это с воспитанием патриотическим. Не меньше двух раз в месяц проводились внутришкольные спортивные соревнования. Кроме того, были ещё и районные: пионерские, юношеские.
Помню, как тяжело переживал Василий Иванович смерть Сталина. Почернел весь, осунулся. Как-то сказал мне: «Кто же будет у нас теперь вождём? Не главой государства, а вождём? Не будет вождя… Такие люди, Александр Васильевич, родятся раз в сто лет. Да нет, не в сто. В двести». Когда на собрании коммунистов села я зачитывал закрытое письмо о разоблачении культа личности Сталина, Худяков сидел весь белый. Только желваками играл. Да, конечно, он был фанатиком. Ни до, ни после я не встречал в своей жизни более преданных своему делу коммунистов, чем Василий Иванович и Мария Матвеевна…
И когда дело касалось принципов, он не шёл на компромиссы. Открыто отстаивал свою точку зрения. Истина для него была важнее авторитетов.
Педагоги не только детей учили и воспитывали, но и общественной работой занимались. Почти все были агитаторами на десятидворках. Действовала в советскую пору такая форма политической работы с населением.
А как любил директор всех нас! Сплачивая коллектив, старался, чтобы связь между учителями крепла не только во время рабочего процесса, что было вполне естественным, но м в свободное время. У нас очень многие увлекались шахматами, и Василий Иванович любил поколдовать над доской с фигурками. Вот и стали сначала собираться два раза в неделю, а впоследствии и турниры начали устраивать. В школе висела большая таблица, в которой отображалось количество всех очков, набранных его участниками. Победителю присваивалось звание гроссмейстера и вручался памятный приз. В.И.Худяков играл неплохо.
Совершали мы и лыжные вылазки: всем коллективом во главе с Худяковым, катались с горы. И праздники отмечались сообща. Василий Иванович считал, что людей очень сплачивает общение в неформальной обстановке.
Была у Василия Ивановича ещё одна страсть: он обожал путешествовать. И этим своим восхищением спешил поделиться с ребятами. Мы много ездили в ту пору, возили учащихся на экскурсии в Москву, Ленинград.
Когда Василию Ивановичу исполнилось 60 лет, он ушёл на пенсию. Но расстаться со школой было выше его сил. Вот и остался там преподавателем истории».
Из воспоминаний Просвирова Владимира Ивановича, председателя совета ветеранов села Царевщина, кавалера ордена «Знак Почёта», Заслуженного агронома России.
Василия Ивановича я знаю с 1952 года, с того момента, как пришёл в среднюю школу. О Василии Ивановиче могу сказать, что крайне мало встречал таких людей- требовательных, добросовестных и справедливых. Болел он всей душой за каждого, старался вникнуть в то, чем ребёнок живёт и дышит. Если же приходилось делать внушение за тот или иной проступок, то никогда просто не ругал, а пытался повернуть дело так, чтобы мальчишка или девчонка сами поняли, что поступили неправильно, испытали стыд за содеянное. Он вникал во все школьные дела и особенно много времени уделял спорту, физической культуре. Уже, будучи далеко не молодым, сам прекрасно ходил на лыжах. У нас тут вокруг села прекрасная лыжня всегда была проложена. По ней чуть ли не каждый день и бегали.
Директор любил повторять одну фразу: «Нужно всё время быть в движении». Физическая подготовка у нас у всех была вполне приличной. Последние годы своей жизни наш директор провёл в Димитровграде. Его и похоронили там. И сама могила оформлена необычно, это Костя всех удивил: огромный камень, а на нём имя и фамилия. И ведь что интересно: когда б ни приезжали мы к нему в гости, всегда Василий Иванович живо интересовался: что в Царевщине, как там Царевщина? Всё помнил- все уголки, все названия.
Из воспоминаний бывшего учителя физики Царевщинской средней школы Владимира Сергеевича Трясучкина.
Василий Иванович и Мария Матвеевна были постоянными тружениками. Про таких людей говорят, что работали они не за страх, а за совесть. Василий Иванович ювелирно сколачивал коллектив из своих же сельских учителей. В коллективе было 16 женщин и 8 мужчин, что было очень необычным для любой школы, а уж, тем более, деревенской. Ни в одной школе не было подобного состава. И вы же понимаете, что такое педагог-мужчина для послевоенных сорванцов.
Семья у нашего директора была большущая- столько детей. Всех обуй, одень, накорми. А зарплату выдавали копеечную- 80 рублей в лучшем случае. Но у Василия Ивановича в первую очередь голова болела за школу. Заботился о своих коллегах, как о родных. Идеями, подчас фантастическими, он просто фонтанировал.
Родная школа- наша гордость.
Так озаглавила свои воспоминания бывший секретарь комитета ВЛКСМ Царевщинской средней школы послевоенной поры Валентина Михайловна Боброва (в девичестве Козлова), возглавляющая сегодня Саратовское региональное отделение «Союза женщин России». Она пошла по стопам своих наставников В.И.Худякова и М.М.Девятовой.
«Прошло много лет, как я окончила Царевщинскую среднюю школу, но до сих пор сердце хранит чувство любви к директору школы В.И.Худякову и его супруге М.М.Десятовой. И каждому ребёнку наставники отдали частицу себя, знания и душевную щедрость. Практически все выпускники получили интересную профессию, стали известными людьми. Только из нашего класса вышли офицеры Анатолий Карпов и Николай Рыбакин, Заслуженный врач России Антонина Девятнина, кандидат наук Маргарита Суровцева, педагог Тамара Рудакова.
Школьная жизнь в наши годы буквально била ключом. Организатором многих мероприятий часто выступал комитет ВЛКСМ, который мне доверили возглавлять. Месте с педагогами мы организовывали спортивные мероприятия, предметные олимпиады, смотры художественной самодеятельности. Жажда знаний, азарт состязательности, стремление побеждать, которые мы приобретали во время соревнований, помогали избавляться от комплексов, вырабатывать уверенность в себе, закаляться физически и духовно, формировать качества лидеров.
Чувство коллективизма, любовь к отчему краю педагоги закладывали у учащихся путём активного вовлечения в полезную деятельность. Старожилы помнят, что в послевоенную пору холмы вокруг Царевщины были сплошь покрыты полынью и редкими кустарниками. Тогда в стране проводился в жизнь «сталинский план преобразования природы». По совету Василия Ивановича Худякова школьная комсомольская организация выступила инициатором проведения «Праздника леса». Было решено вокруг дороги, ведущей к селу из областного и районного центров, заложить полосы хвойных деревьев. Эту идею поддержали в Балтайском лесничестве. Нас обеспечили саженцами. И работа закипела. Дети вместе со взрослыми сажали деревца в каменистую почву. Чтобы саженцы принялись, нам приходилось их поливать. За каждым учеником было закреплено несколько деревьев, а за классом- целая полоса. Благодаря энтузиазму взрослых и детей вокруг дороги подняли свои зелёные шапки многометровые сосны. В летнюю пору местные жители бродят вокруг них с корзинками, собирая грибы маслята. Так поддержанная педагогами обычная идея учащихся- украсить село, защитить природу от суховеев- была воплощена в жизнь. И теперь, подъезжая к родному селу Царевщина, я с радостью говорю: «Здравствуй, наш школьный сосновый бор!»
Сейчас многие политики говорят о том, что для подъёма страны нужна общая национальная идея. Вероятно, такая необходимость есть. А на обыденном уровне эта идея может быть весьма простой и конкретной. Люби свою Родину, береги природу, соверши для отчего края, в котором вырос, полезное дело, оставь о себе память благородным поступком! Если срубил одно деревце, посади и вырасти три. Наверное, поэтому Балтайский район по сей день считается одним из природных оазисов Саратовской области. Что заложено в детстве и юности, остаётся с каждым навсегда.
Наша школа давала фундаментальные знания без компьютеров, Интернета и даже телевизоров. Оказывается, оргтехнику освоить гораздо проще в любом возрасте. А воспитать думающего, честного и доброго человека гораздо сложнее. Коллектив педагогов Царевщинской средней школы формировал из каждого ребёнка личность. Сейчас многое из накопленного опыта утрачено. Приставки к телевизору подключить и освоить компьютерные сайты проще, чем оторвать молодого человека от Интернета, заставить его самого искать ответы, мыслить и рассуждать, намного труднее. И порой на селе не хватает таких лидеров учительских коллективов, как Худяков Василий Иванович.
В книге выпускника Царевщинской средней школы, Заслуженного работника культуры РСФСР, кандидата исторических наук Василия Моргунова «Детство, опалённое войной» много добрых слов сказано в адрес педагогов и воспитанников сельского учебного заведения. Писатель с огромным уважением отозвался о патриотических свершениях семьи Худяковых в годы Великой Отечественной войны.
Марии Матвеевны Десятовой не стало 8 июля 1989 года.
Как верили в себя…
Из воспоминаний Лидии Фёдоровны Андриановой (Шестериной).
«За свою долгую жизнь я встречала немало образованных, умных, интересных людей. В бытность работы секретарём партийной организации крупного производственного подразделения Волжского автомобильного завода мне довелось общаться с талантливыми рабочими, инженерами и управленцами. Большинство из них отличалось высоким профессионализмом, преданностью делу и высокими нравственными качествами. И всё же таких незаурядных личностей, как М.М.Десятова и В.И.Худяков, я не встречала. Мои любимые учителя служили критерием оценки высоких качеств Педагога, Человека и Гражданина. Их эрудиция, творческое горение, любовь к детям, взаимоотношения в семье были образцом для подражания. Именно такими остались они в памяти десятков поколений воспитанников. Будучи очень впечатлительной девочкой, я сама как будто напиталась атмосферой этих людей и тем, как надо жить.
Дом Худяковых, с их многодетным коллективом, семейными традициями сильнее магнита притягивал меня в детстве.
Глава семьи, в основном, пропадал в школе или где-то на конференциях и совещаниях. Василий Иванович был для всех кумиром, кладезем знаний, непререкаемым авторитетом. Он знал всё, мог ответить на любой вопрос. Признаюсь, что я была в него влюблена. Это был очень интересный мужчина: всегда элегантно одет, занимался гимнастикой, обтирался снегом. Красиво танцевал, особенно вальс. У Василия Ивановича был небольшой кабинет, совмещённый со спальней. Что в нём можно было видеть? Стеллажи книг со всех сторон, письменный стол с газетами и журналами и брошюрами общества «Знание». Книг в доме Худяковых было огромное множество В зале, на веранде стояли шкафы с потрёпанной детской литературой. Произведения классиков и красочные здания находились в кабинете главы семьи. Мы мечтали о пионерском лагере, и директор организовал его в школьном здании. Сделать это было очень непросто. К нам приехали ребята из мужской школы города Саратова. Какой это был весёлый лагерь! Каждый вечер приходил Василий Иванович и читал нам вслух книги «Флаги на башнях», «Васёк Трубачёв и его товарищи». А читал он великолепно. И чтец, и рассказчик директор школы был замечательный. А потом мы совершили в Саратов. Шли пешком неделю. Возглавлял поход В.И.Худяков. Ночевали в зданиях школ, мимо которых пролегал маршрут. Значит, наш директор заранее договаривался об этом с руководителями сельских учебных заведений. В Саратове размещались в школе, чьи учащиеся отдыхали в нашем пионерском лагере. Уже в первый вечер Василий Иванович повёл нашу группу в театр. В городском парке мы сфотографировались. Затем были экскурсии в Москве, Самаре и многих других городах».
Из воспоминаний выпускницы Царевщинской средней школы 1954 года выпуска, серебряной медалистки Елизаветы Лаврентьевны Евстифеевой.
«Для меня школа- это дверь в мир прекрасной, умной, совершенной жизни. А учителей я считала небожителями: все разные, умные, знающие такие вещи, о которых мы и не подозревали. Уроки мне были в радость. Поэтому я каждый день с удовольствием шла в школу. А, кроме уроков, сколько сил педагоги тратили на нас, крестьянских детей?! Учили правильно говорить, читать стихи, привлекали к занятиям спортом. Мы были детьми войны. И нас учили смелости, дружбе, взаимопомощи. Василий Иванович вёл уроки логики. Был в наше время такой предмет. Кстати, очень интересная и полезная дисциплина. Мы слушали директора, затаив дыхание. Что ещё в нём привлекало? Василий Иванович был всегда чисто выбрит, одет в отглаженный костюм, носил красивый галстук. Я не помню случая, чтобы он повысил голос на ученика. Наш директор относился уважительно к взрослым и детям. Интересно проходили школьные вечера. Вначале- доклад на политическую тему, потом концерт художественной самодеятельности в заключение- танцы. Когда начинала звучать музыка, Василий Иванович первым вставал со стула, чинно подходил к Марии Матвеевне , склонив голову, просил разрешения на тур вальса. Причём делалось это так красиво, что наши «кавалеры», подражая директору, тоже галантно приглашали девочек на танец.
Общеизвестны стихотворные строчки Владимира Маяковского: «Я знаю, город будет, я знаю, саду цвесть, когда в стране советской такие люди есть», ставшие девизом нашего времени. Василий Иванович Худяков и Н.В. Виноградова привезли откуда-то саженцы, и мы стали копать для них ямы, носить плодородную землю. На каждое деревце повесили бирку с фамилией школьника, который над ним шефствует. И нас не надо было заставлять ухаживать за посадками. В летние каникулы каждый приносил в вёдрах воду и поливал своё деревце. И сад вокруг школы вырос и покрылся весной белой кипенью. Милые учителя! Каждый из вас отдал детям частицу своего сердца! Но ясно, что всех организовал на кропотливый труд с нами Василий Иванович Худяков. Каким же надо было обладать сердечным теплом оптимизмом, чтобы вселять веру в потерявших на фронте кормильцев многодетных семей, формировать у мальчишек и девчонок осознанную жажду знаний, стремление помогать изорвавшим здоровье непосильным трудом в тылу матерям, «глаголом жечь сердца детей!»
Выпускники Царевщинской средней школы: боевой офицер, участник Парада Победы А.В.Мазанов, доктор наук, профессор Анатолий Васильевич Худяков, Заслуженный нефтяник России, полный кавалер орденов Трудовой Славы Ю.И.Абакумов, доктор сельскохозяйственных наук И.Я. Кудашев, лауреат премии Совета Министров СССР П.Ф.Салеев, академик РАСХН А.А.Черняев, действительный член Академии художеств, Заслуженный художник России, Президент Творческого Союза художников России К.В.Худяков, Заслуженный учитель России З.А.Серова (Кондратьева), Народная артистка Республики Марий Эл, Заслуженная артистка России Р.К. Исаева-Носырева, полковники Н.А. Душков и Н.Ф. Рыбакин, орденоносцы В.М. Боброва (Козлова), В.С. Девятнин, Ю.П. Власов, ВИ. Медвигин, Заслуженный агроном России В.И. Просвиров и многие другие.
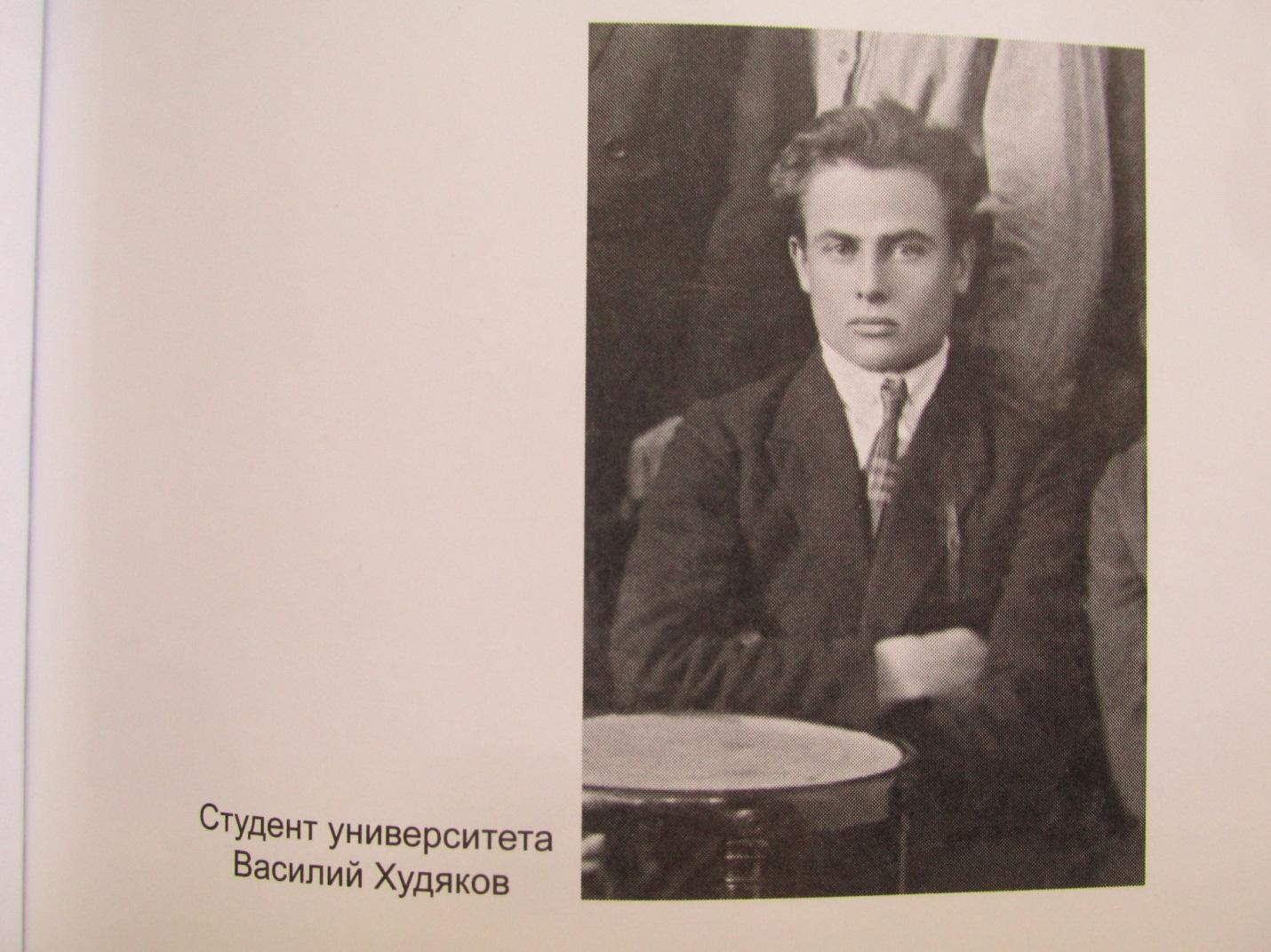
Студент университета.

Учащийся реального училища Вася Худяков. 1918 год.

Рабфаковец Василий Худяков с сокурсниками.

Студентка университета Мария Десятова.

Заслуженный учитель школы РСФСР Худяков Василий Иванович.
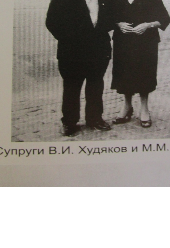
Супруги В.И.Худяков и М.М.Десятова.

Коллектив учителей Царевщинской средней школы Балтайского района Саратовской области.

Учителя В.И.Худяков и А.В.Мазанов с учениками.
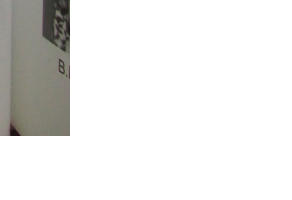
М.М.Десятова с учителями Царевщинской средней школы.
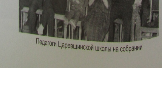
Учителя Царевщинской школы на собрании.

Супруги М.М.Десятова и В.И.Худяков в минуты отдыха.

В.И.Худяков и М.М.Десятова с детьми и внуками в городе Димитровграде.
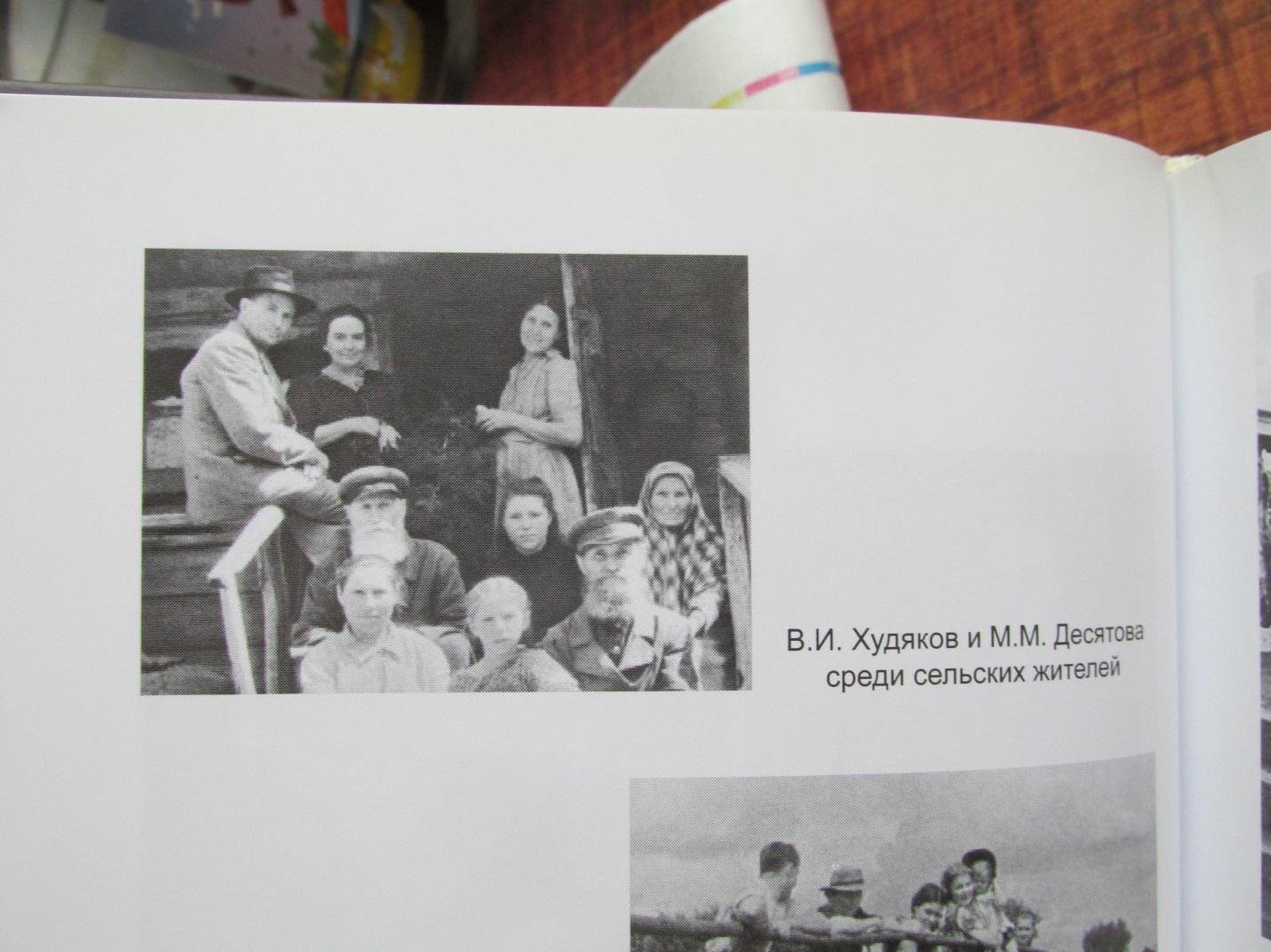
В.И.Худяков и М.М.Десятова среди сельских жителей.
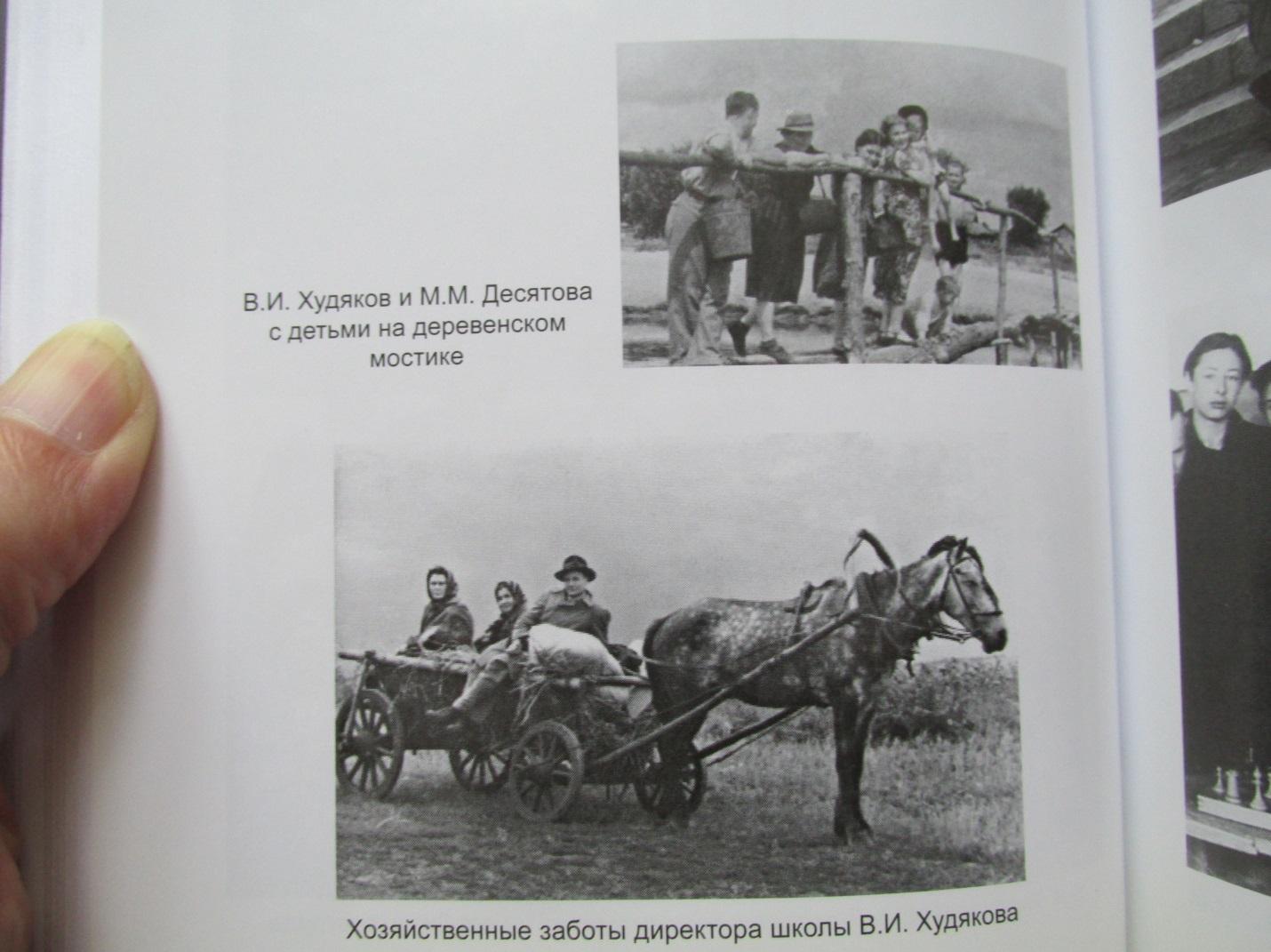
В.И.Худяков и М.М.Десятова с детьми на деревенском мостике.
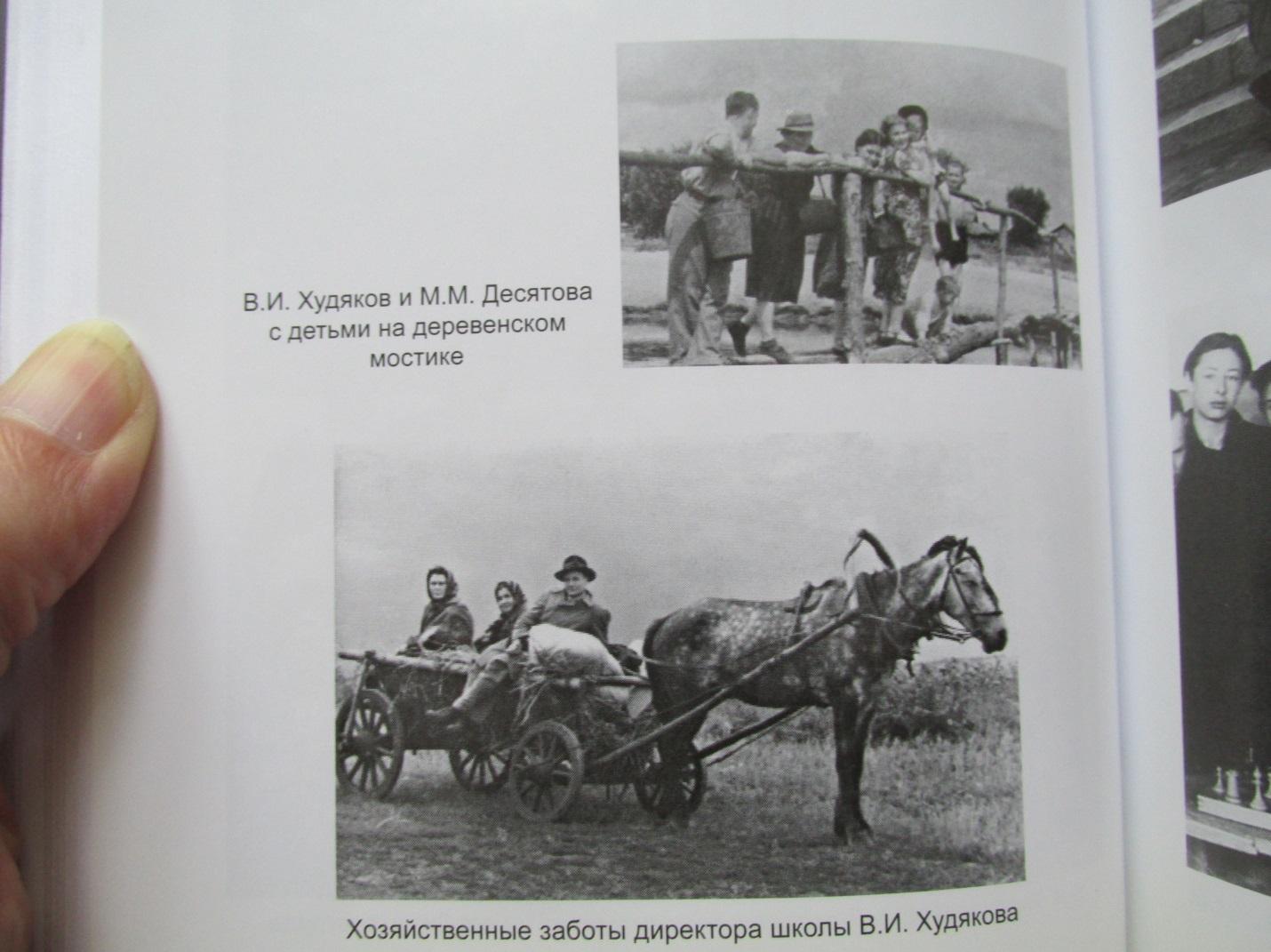
Хозяйственный заботы директора школы В.И.Худякова.

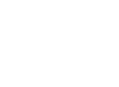
В..Худяков с немецким коллегой Вейгелем.

В.И.Худяков, М.М.Десятова с дочерьми Инессой и Татьяной принимают немецкую коллегу Эрику в г. Димитровграде.

Ветеран труда В.И.Худяков на отдыхе.

Энгелина Васильевна Ушерович (Худякова).

Галина Чернышёва с братьями Велиором и Константином Худяковыми.
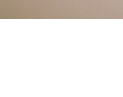
Сёстры Инесса Климова Татьяна Лепихова с братьями Велиором и Анатолием Худяковыми.

Г.В.Чернышёва с дочерью Ирой.

В.И.Худяков и Г.В. Чернышёва с учениками Царевщинской школы.












