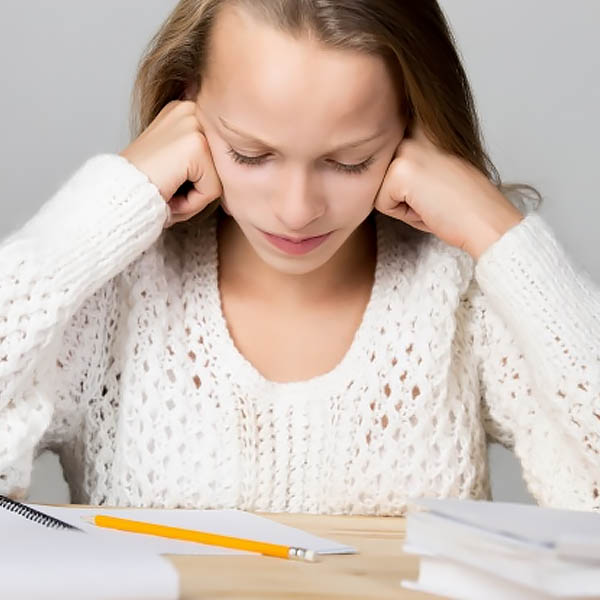Сценарии жизни —
Сценарии жизни —
то, что мы выбираем,
но можем не выбирать!
Книга Клода Штайнера появилась в русском переводе хотя и с временной задержкой, но тем не менее чрезвычайно своевременно. Более ранняя публикация в России работ Эрика Берна в конце 80-х и начале 90-х годов XX века, с одной стороны, привлекла внимание читателей к проблематике практической психологии, а с другой стороны, оставила транзактный анализ в памяти большинства лишь как одну из более или менее распространенных в мире концепций, автор которой уже является достоянием истории. Соответствие концепции транзактного анализа реалиям современной России было весьма поверхностным, особенно если учесть перегруженность текстов Берна собственно американской спецификой — эти книги писались только для американцев либо для жителей соседних стран — Канады и Мексики.
С работой Клода Штайнера все обстоит иначе. За прошедшие со времени написания книги годы оказалось, что тенденции психологического развития современного общества, описанные учеником Берна, стали неотъемлемой частью процесса глобализации мировой экономики. И в России, как части мирового сообщества, психологическое развитие общества по Штайнеру (и транзактному анализу) может быть описано в терминах, совпадающих с современными исследованиями различий в национальных культурах. Возможно то, что соответствие идей Штайнера современному миру вообще и России в частности связано с тем, что большую часть его клиентов ко времени написания книги составляли в основном люди, переживающие серьезные жизненные кризисы — алкоголики, наркоманы, преступники и жертвы преступлений и т. п. В этом он радикально отличался от Берна, в практике которого большую часть времени занимали менее «острые» случаи. И если идеи и книги Берна были соотнесены с «нормативным» поведением людей в Америке, то работы Штайнера носят по своей природе интернациональный характер, поскольку страдание не знает политических границ. В связи с этим можно сказать, что мир стал более «страдающим» за последние 20 лет и что дискомфорт людей в начале XXI века связан в основном с драматическими изменениями в политической, экономической и технологической сферах.
Такие описания жизненных сценариев, как «без любви», «без разума» и «без радости», использованные Штайнером в 1974 году, стали к настоящему времени «общими» благодаря статьям во многих газетах и журналах. Понятие «кризиса середины жизни» дополнилось новым — «кризисом первой четверти жизни», поскольку современное общество выдвигает часто невыполнимые требования к молодому поколению, пропагандируя через СМИ обязательность раннего успеха в любом начинании. Возраст высших достижений в жизни под воздействием успехов в спорте и электронной коммерции смещается на жизненный период 18-23 лет, что подготавливает наступление кризиса к 25 годам.
Конкретным воплощением современности этой книги является сопоставление концептов Штайнера с результатами исследований Г. Хофстеде (1980), в которой описано исследование, проведенное более чем на 80 тысячах сотрудников корпорации IBM в 53 странах мира, выделено четыре фактора, лежащих в основе различий между национальными культурами:
дистанция власти (характеристика, показывающая степень готовности не обладающих властью членов общественных институтов данной национальной культуры согласиться с тем фактом, что власть в обществе распределена неравномерно);
индивидуализм/коллективизм (индивидуализм характерен для национальных культур, в которых связи между индивидуумами не очень тесны и от людей ожидается, что они будут заботиться прежде всего о себе и» возможно, о своих наиболее близких родственниках; коллективизм характерен для национальных культур, в которых люди с рождения интегрированы в сплоченные группы» которые на протяжении всей жизни защищают их в обмен на лояльность);
мужественность/женственность (мужественность соответствует национальным культурам, четко разделяющим тендерные — социальные мужские и социальные женские — роли, при этом мужские роли являются более конфронтационными и ориентированными на материальный успех, женские же — более мягкими и направленными на улучшение качества жизни; женственность соответствует национальным культурам, в которых четкое социальное разделение тендерных ролей отсутствует);
избегание неопределенности (характеристика, показывающая уровень психологического дискомфорта, переживаемого членами данной национальной культуры при столкновении с неизвестными ранее жизненными ситуациями). Понятие дистанции власти в национальной культуре совпадает с идеей Штайнера о сценарии беспомощности (глава 11), то есть о ситуации, когда в семье ребенок проживает ситуации его «спасения» и учится быть беспомощным. В западных цивилизациях отдельный гражданин может сокращать дистанцию власти за счет существования демократических институтов, но это требует его осознанного выбора, и об этом пишет Штайнер.
Человек, привыкший к тому, что его «спасают» от рождения до смерти и отказывающийся принять на себя ответственность, — типичное порождение советского строя. Разумеется, государство было заинтересовано в выращивании такого сорта людей, но изменения, происшедшие в общественно-политическом и экономическом устройстве России, заставили этих людей переживать настоящую трагедию. Недавнее исследование ООН последствий радиационной катастрофы в Чернобыле показало, что максимальный ущерб был нанесен жителям обширного региона не радиацией, а нарушением семейных связей, отрывом от мест проживания и воспитанием поколения иждивенцев, способных лишь на ожидание льгот от государства. Разумеется, исследование не касалось людей, непосредственно участвовавших в ликвидации последствий аварии на АЭС. По прочтении «Сценариев...» становится ясно, что подход Клода Штайнера носит достаточно универсальный характер и вполне применим для индивидуальной работы как со «Спасателями», так и с «Жертвами».
Понятие индивидуализма/коллективизма в национальной культуре совпадает с идеей Штайнера о сценарии неравенства и индивидуализма (глава 12). Из этих идей далее развиты концепты соревновательности и силовых игр как элементов североамериканской национальной культуры.
Эти представления также вошли в жизнь практически каждого жителя России и обострили внутри- и межличностные конфликты. Привычный коллективизм заменился не менее привычным «диким» индивидуализмом. «Диким» в том смысле, что основной упор делается не на отстаивании собственных прав и свобод, а на жестком захвате чужих прав и свобод, прежде всего экономических.
Эта жесткая, по Штайнеру, «силовая» игра приносит достаточно много психологического дискомфорта ее участникам и рост популярности традиционного способа снятия такого дискомфорта — приобщение к церкви — можно считать одним из показателей ее распространенности. Поскольку очевидно, что соревновательность в нашем обществе будет расти и дальше (вообще-то именно она является двигателем экономического развития), необходимо уметь конструктивно ее реализовывать и соответственно корректировать.
Мужественность/женственность рассмотрены очень подробно в статьях X. Викофф о полоролевом программировании мужчин и женщин.
Представления о традиционных половых ролях в России изменяются в настоящее время от декларированных в советское время равных возможностей к реальному равенству. Однако для такого реального равенства еще не хватает ни правовой практики в конкретных случаях, ни массовости в масштабах страны. Таким образом, изменения в представлениях о традиционных половых ролях создают и будут создавать почву, благоприятную для семейных ссор и домашнего насилия, карьерных кризисов и служебных конфликтов. Приведенный в книге материал может стать хорошим поводом для анализа личного отношения к тендерным проблемам в семье и на работе.
Избегание неопределенности как характеристика национальной культуры соотносится с таким представлением транзактного анализа, как автономность. Предполагается, что если человек достаточно автономен от собственного сценария, то для вариантов развития событий он разрабатывает социально приемлемые способы поведения — вполне взрослое поведение. Если же сценарий человека, в соответствии с его детскими решениями, контролирует его жизнь, то этот спектр социально приемлемых, разнообразных способов поведения недоступен и реализуется единственная/стереотипная форма поведения. То есть избежать неопределенности можно, структурировав свою жизнь на основе информации об окружающем мире.
К сожалению, жизнь современных россиян не может быть структуриро-вана достаточно подробно и большинство из них должно сосуществовать с жизненной неопределенностью. Переживание неопределенности в течение долгого времени всегда идет с высокой вероятностью стресса и дистресса, то есть приводит на прием к психологу (или наркологу).
С учетом того, что описанные выше российские аналогии представлений Штайнера имеют в основном негативный характер, следует подчеркнуть, что вся книга пронизана оптимизмом. Клод Штайнер как признанный мастер практической психологии не оставляет места пассивности, безысходности, обреченности. Его основной принцип: «все можно и следует изменить для достижения человеком искренности, автономности и любви».
Книга написана в традиционном для транзактного анализа стиле — простым и доступным языком со всеми необходимыми пояснениями и может быть рекомендована читателям всех
возрастных групп.
Книга изобилует условными именами клиентов — Блэк (Черный), Уайт (Белый) и т. д., разумеется, это следует понимать лишь как желание избежать идентификации читателей с героями конкретных сюжетов и не более того.
По аналогии с популярностью работ Эрика Берна можно предположить, что книга Штайнера может также привлечь читателей к самостоятельной работе над своими детскими решениями, однако следует оговорить, что при бережном отношении к себе не следует пытаться удалить зуб мудрости самостоятельно, стоя перед зеркалом. Книга прекрасно описывает процесс работы профессионала, и именно к профессионалам и следует обращаться для безопасного достижения необходимого результата. К счастью, за последние годы в стране выросло целое поколение практических психологов, способных работать в интересах клиента.
Базовые утверждения
теории транзактного анализа
Эрика Берна, известного миллионам людей как автор книги «Игры, в которые играют люди», тем не менее мало кто считает пионером в области психиатрической науки.
Я считаю, что Эрик Берн пересмотрел самые основы науки о душевном здоровье и открыл закономерности, противоречившие устоявшимся мнениям и неоспоримым по тем временам истинам. Специалисты, которые обучались психотерапии в рамках психоаналитической доктрины, не могли принять его идеи, не изменив в корне свои представления о причинах жизненных затруднений людей и о методах терапии.
Прежде чем углубиться в детали, я назову три посылки, которые отличают идеологию транзактного анализа от идеологии традиционной психиатрии.
Люди от рождения являются душевно здоровыми. Принятие позиции «Я в порядке — Ты в порядке» (как психиатром, так и клиентом) необходимо для успешного излечения, а также для эмоционального и социального благополучия любого человека.
Даже переживая эмоциональные затруднения, люди тем не менее остаются разумными, полноценными человеческими существами. Они способны понять суть своей проблемы, ее причины и при наличии адекватной помощи решить ее. Они не могут не включиться в терапевтический процесс, если действительно хотят справиться со своими трудностями.
3. Любые эмоциональные затруднения разрешимы при условии применения верного подхода и адекватного знания. Сложности, с которыми сталкиваются психиатры в случаях так называемых шизофрении, алкоголизма, депрессивного психоза и т. д., — результат невежества психиатров, а не неизлечимости этих «заболеваний».
Люди душевно здоровы от рождения
Первое и важнейшее, на мой взгляд, понятие, которое Берн ввел в психиатрию, в афористической форме звучит так: «Люди рождаются Принцами и Принцессами, а родители превращают их в Лягушек». Большинство наиболее радикальных своих идей Берн представил в виде афоризмов. Их завуалированная форма скрывала ход его рассуждений от умов тех, кто хотел бы исказить их значение. Сформулированное косвенным образом понятие о том, что люди рождаются счастливыми, а семена эмоционального разлада с самими собой, несчастливости и безумия им передают родители, стало приемлемым для тех, кто, услышав его полное, прямое значение, отверг бы целиком.
Исходя из «веры в человеческую природу», убеждения в том, что люди от природы хороши, Берн сформулировал варианты экзистенциальных позиций, которые приобрели популярность благодаря сочинениям Эми и Томаса Харрис. Экзистенциальная позиция — это чувства, которые человек испытывает к самому себе и к другим. Первая, или центральная, позиция звучит как «Я в порядке, Ты в порядке». Со временем, под давлением жизненных обстоятельств, люди меняют эту позицию на одну из трех других, а именно: «Я в порядке, Ты не в порядке», или «Я не в порядке, Ты в порядке», или даже «Я не в порядке, Ты не в порядке». Из-за этого им становится все труднее общаться, достигать поставленных целей и, главное, наслаждаться жизнью.
Принятие жизненной позиции «Я в порядке, Ты в порядке» необходимо для полной реализации творческого потенциала человека. Однако она не подразумевает, что любые его действия являются приемлемыми. Экзистенциальная позиция «Я в порядке, Ты в порядке» — это точка зрения, которая рассматривает человека отдельно от его действий и особенностей. Эта позиция необходима при построении близких отношений и является ключом к эмоциональному и социальному благополучию человека. Берн добавляет, что эта установка не только хороша, но и единственно верна.
Когда психиатр принимает эту точку зрения (Я в порядке, Ты в порядке, твой отец, твоя мать, сестра, брат и соседи тоже в порядке), ему приходится отказаться от всего, чему его учили его наставники — опытные психиатры. Такой специалист не станет искать у своего пациента ни невротический конфликт, ни психоз, ни расстройство характера, ни какую бы то ни было диагностическую категорию из области психопатологии, которые, по мнению Берна, оскорбляют человека. Вместо этого он постарается понять, какие влияния объясняют особенности поведения и чувства его клиента, потому, что он будет верить, что людей приводят к психиатрам внешние обстоятельства, а не внутренние слабости. Такой подход не нов для психиатрии: его предвосхитили Вильгельм Райх, Карл Роджерс и Рональд Лэнг. Тем не менее он до сих пор не находит ни поддержки, ни признания в психиатрических кругах. Мнение «Я в порядке, Ты в порядке» — редкое явление в современной психиатрии. Большинство специалистов в своей работе следуют медицинской модели болезни: когда к психиатру приходит пациент, он должен поставить ему диагноз, осмотрев его, побеседовав с ним и определив, что же с ним (с ней) не так («Ты не в порядке, мне нужно только установить, что именно в тебе неправильно»).
Транзактный анализ переключает внимание с того, что находится внутри человека, на то, что происходит между людьми и что часто действительно бывает не в порядке.
Позвольте мне сформулировать своими словами первую посылку транзактного анализа.
Люди по своей природе склонны и способны жить в гармонии с собой, другими и природой. Если человека оставить в покое (при условии необходимой заботы о его нуждах), он будет следовать своему естественному стремлению быть здоровым и счастливым, ладить с другими людьми и уважать другие формы жизни.
Люди несчастливы, нездоровы, не желают учиться новому, не стремятся к сотрудничеству, эгоистичны и не уважают жизнь по вине внешнего подавляющего воздействия, которое пересиливает естественную тенденцию «жить и давать жить другим». Однако, даже будучи подавленной, эта тенденция продолжает существование в скрытом виде и поэтому всегда готова проявить себя в случае, если давление будет ослаблено. И даже если ей ни разу не удастся проявить себя за всю жизнь индивида, она будет передана новому поколению.
Общение и договор
Во-вторых, Эрик Берн радикальным образом изменил отношения между психотерапевтом и клиентом. Об этом он сообщал прямо, не пользуясь шутками и афоризмами. Берн стремился строить отношения с клиентами как с равными ему по уму и возможностям и разделять с ними ответственность за достижение общей цели психотерапии.
Его стратегия была настолько радикальна, что немедленно привела к конфликту с коллегами. В частности, он верил, что пациенты способны правильно понять то, что он о них думает, и что с ними можно говорить на равных. Он отказался от психиатрической традиции использовать один язык для общения с клиентами и другой — для общения с коллегами. Формулируя понятия своей теории, он пользовался словами, понятными большинству людей. Когда Берн заметил, что люди могут вести себя тремя разными способами, он назвал эти три позиции Родитель, Взрослый и Ребенок, хотя мог бы дать им какие-нибудь другие, более «научные» названия, например Экстеропсихе, Неопсихе и Археопсихе. Говоря о человеческом общении и о признании, он назвал единицу взаимодействия не «единицей интерперсональной коммуникации», а «поглаживанием». Он назвал трудности в общении, с которыми время от времени сталкивается каждый из нас, не «дисфункциональными коммуникативными паттернами», а «играми». Способ, которым человек проживает свою жизнь, основанный на решении, принятом в детстве, Берн назвал не «постоянно повторяющейся в течение жизни компульсией», а «сценарием».
Терминология и методы Берна отпугнули от него «профессионалов в области душевного здоровья». Однако он нарушил традиции не ради эпатажа, а чтобы привлечь на свою сторону клиентов, создав, таким образом, «общий язык», необходимый для совместной работы. Он сделал это, исходя из убеждения, что каждый человек, даже тот, который называется пациентом, обладает «взрослым состоянием», которое нужно только поощрить к действию. Поэтому, что было вполне логично, Берн приглашал своих клиентов на все дискуссии и конференции, на которых речь шла о них. Он ввел в практику присутствие пациентов психиатрической лечебницы на обсуждении врачами и стажерами сеанса групповой терапии. Он говорил: «То, что не стоит говорить в присутствии пациента, не стоит говорить вообще».
Неудивительно, что коллеги Берна, ставшие «жертвами» такого неординарного подхода, чувствовали себя не слишком комфортно. Им пришлось признать, что многое из того, что они говорили на научных конференциях, звучало снисходительно по отношению к их пациентам и, главное, непонятно для них.
Продолжением этого подхода стал «терапевтический договор» (см. гл. 20) — соглашение между клиентом и психотерапевтом, которое оговаривает обоюдную ответственность за результат терапии. В этом соглашении клиент дает согласие на терапию и заявляет о своей готовности сотрудничать, а терапевт признает себя ответственным за помощь клиенту в достижении желаемых перемен и за соблюдение контракта. В соответствии с теорией транзактного анализа без терапевтического соглашения терапия невозможна. Такое соглашение исключает принуждение пациента психиатром или социальным работником к еженедельным или ежедневным сеансам «промывания мозгов», или сенсорной депривации, во время которых они не проявляют ни участия, ни одобрения (имеется в виду сеанс психоанализа. — Прим. перев.).
Это условие также исключает неопределенные формы «терапевтической» деятельности, которые сводятся лишь к рекомендациям по поводу актуальных затруднений клиента. Иными словами, подход Эрика Берна подразумевает, что в отличие от медицинского знания, которое (справедливо или нет) считается слишком сложным для простых смертных, психиатрическое знание должно и может стать доступным и понятным всем вовлеченным в терапевтический процесс сторонам.
Берн верил, что человека с психическим нарушением можно вылечить. Имеется в виду не только пациент с умеренной формой невроза, но и наркоман, и человек в глубокой депрессии, и «больной шизофренией» — любой человек с функциональным психическим расстройством (то есть с нарушением, в основе которого не лежит физическое нарушение или значительный биохимический дисбаланс) излечим. Под излечением Берн не имел в виду «превращение шизофреника в бравого шизофреника» или алкоголика — в арестованного алкоголика. Излечить, по Берну, — значит помочь человеку «восстановить свое членство в человеческом обществе».
Представление о том, что психиатр может вылечить своего пациента от серьезных эмоциональных нарушений, оказалось самым радикальным из введенных в последнее время в психиатрию. От своих учеников Берн требовал соблюдения следующего правила: «Психотерапевт, практикующий транзактный анализ, должен уметь вылечить своего пациента в течение первого сеанса совместной работы. Если ему это не удалось, всю неделю до следующего сеанса он должен думать, что он сделал не так и что нужно будет сделать, чтобы вылечить пациента во время второй встречи, и так далее, пока пациент не будет излечен или психотерапевт не признает своего поражения». Тот факт, что психиатрам, работающим в традиционной манере, не удается помочь своим клиентам избавиться от алкоголизма, шизофрении и депрессии, не значил для Берна, что эти расстройства неизлечимы сами по себе. Для него это значило, что психиатрия пока не разработала достаточно эффективного подхода к лечению этих расстройств. Отношение психиатров к людям, которых они не могут вылечить (и которых они считают либо неизлечимыми, либо недостаточно мотивированными), для Берна было неприемлемо.
Я цитирую одно из последних публичных выступлений Эрика.
Другое излюбленное оправдание психотерапевтов в том, что они ничего не делают, — ложная ссылка на личность пациента. «Раз затронута вся личность клиента, как можно ожидать, что нам удастся вылечить его раньше чем через пять лет?» Хорошо. Допустим, человек занозил палец ноги. Палец воспаляется, из-за этого человек начинает хромать, а мускулы ноги напрягаются. Чтобы компенсировать избыточное напряжение мускулов ноги, в свою очередь, напрягаются мускулы спины. Затем напрягаются мышцы шеи и черепа, и вскоре у человека начинает болеть голова. От воспаления у него поднимается температура, его начинает лихорадить, пульс учащается. Иными словами, вовлекается весь организм — вся личность, включая голову, которая болит; и он злится на занозу и думает: и кто только засунул эту занозу в такое неподходящее место—и может даже пойти к юристу. Короче говоря, в это вовлечена вся его личность, И тогда он звонит хирургу. Врач приходит, смотрит на больного и говорит: «Вы серьезно больны. В вашу болезнь вовлечена вся личность. У вас болен весь организм: у вас температура, вы часто дышите, у вас учащено сердцебиение и напряжены все мышцы. Я думаю, понадобится три или четыре года, чтобы вас вылечить, но я не могу дать никаких гарантий — в нашей работе никогда нельзя гарантировать удачный исход, — так что, я думаю, понадобится три или четыре года, — разумеется, здесь многое будет зависеть от вас, — и тогда, возможно, нам удастся вас вылечить». Пациент говорит на это: «Хорошо, я подумаю и дам вам знать завтра». И тогда он идет к другому хирургу, и этот другой хирург говорит: «Да у вас заноза в пальце!» — берет щипцы и вытаскивает занозу; и тогда температура снижается, и пульс выравнивается, и мышцы черепа расслабляются, и голова перестает болеть, потом расслабляются мышцы спины и мышцы ноги. И парень полностью приходит в норму за сорок восемь часов, а может быть, быстрее. Вот как должен вести себя психотерапевт. Просто нужно найти занозу и вытащить ее. Когда я говорю это, коллеги на меня сердятся. Они обвиняют меня в том, что я не провел полный анализ клиента. И они сердятся, когда я их спрашиваю: «И много ли клиентов вы проанализировали полностью?» — потому что подтекст моего вопроса: «Вы осознаете, насколько вы враждебны по отношению к своим клиентам?» И каждый из них пишет книги. А по-моему, стоит написать только одну книгу — «Как лечить пациентов», если только ты хочешь делать свою работу хорошо.
В этом выступлении Берн изъясняется в своей обычной метафорической манере. Значит ли это, что вылечить психотика так же просто, как вытащить занозу из пальца, при условии, что об эмоциональных нарушениях нам будет известно столько же, сколько мы сейчас знаем о воспалении? Значит ли это, что быстрое лечение применимо в случаях, когда «затронута вся личность»? Имел ли Берн в виду, что психиатры дурачат своих пациентов и уходят от ответственности?
Мне кажется, что он подразумевал именно это, и его вера подействовала на меня настолько сильно, что подтолкнула к написанию книги.
Изложенные выше три базовых принципа неявно присутствуют во всех аспектах теории транзактного анализа. Я обратил на них ваше внимание, потому что считаю их важнейшей частью теории транзактного анализа.. Конечно, транзактный анализ включает в себя и многое другое, о чем я буду подробно говорить дальше, но названные три пункта, на мой взгляд, являются принципами, которые невозможно опустить, не лишив при этом транзактный анализ его основы и его истинного содержания.







 Сценарии жизни —
Сценарии жизни —