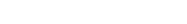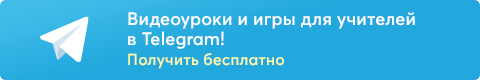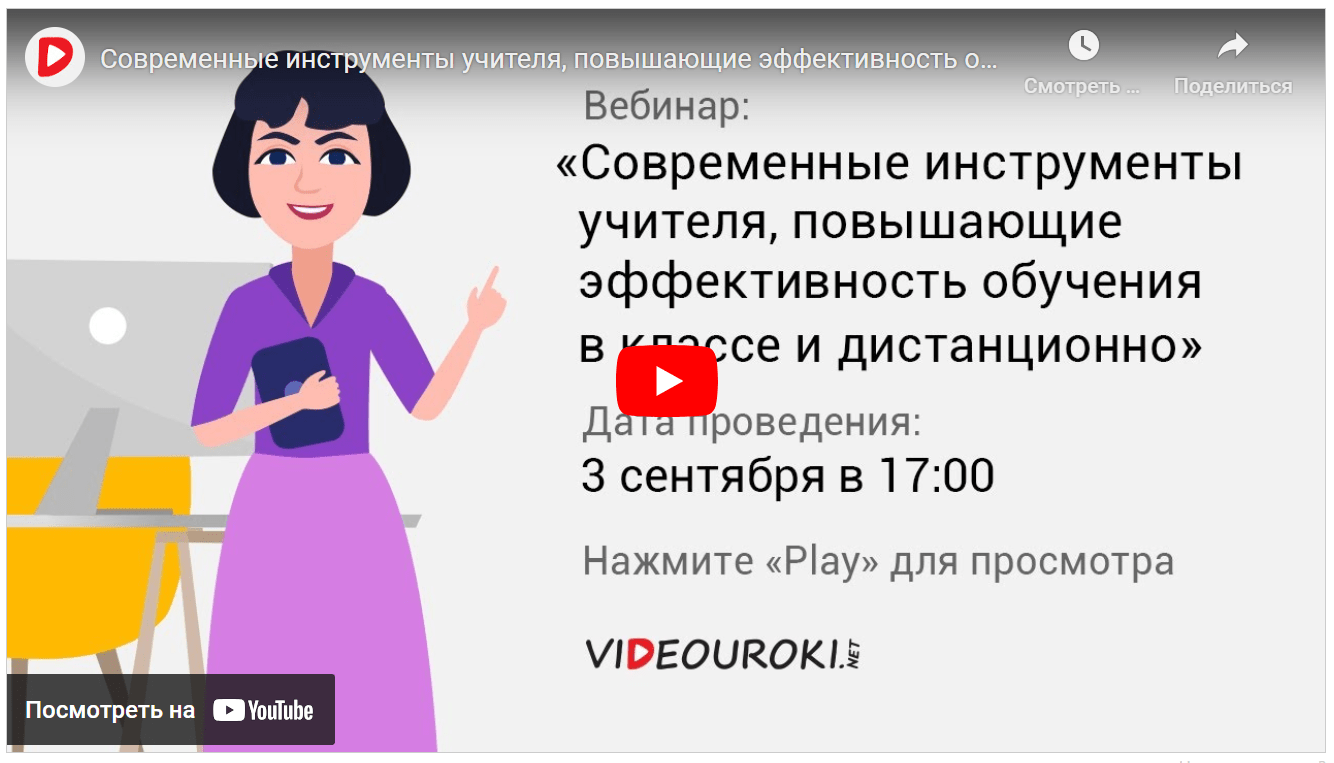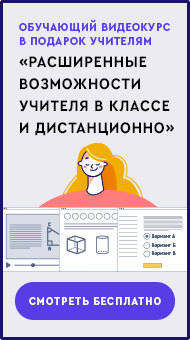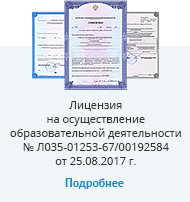СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ
Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно
Скидки до 50 % на комплекты
только до
Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой
Организационный момент
Проверка знаний
Объяснение материала
Закрепление изученного
Итоги урока

Айхенвальд Ю.И. Анна Ахматова
Просмотр содержимого документа
«Айхенвальд Ю.И. Анна Ахматова»
Ю. И. АЙХЕНВАЛЬД
Анна Ахматова
Публикуется по книге: Хрестоматия критических материалов. Русская литература рубежа XIX - XX веков. М.: Айрис Пресс, Рольф, 1999. Электронная версия подготовлена А.В. Волковой - www.slovesnik.ru
I
(*94) "Четками" назвала Анна Ахматова свой известный сборник, и это правильно, потому что в ее поэзии много молитвенности и стихи ее - четки, или амулеты, которые должны бы охранять ее от нечистой, от злой силы (в нее она верит), но которые не уберегли ее от навождения любви. И про любовь свою, злополучную и неутоленную, рассказывает она миру. Очень интимен дневник ее творчества, но эта интимность интересна: она вышла за пределы личной исповеди, так как вообще все то, что по-настоящему и до дна лично, тем самым и общественно; субъективное, совершая свой кругооборот, возвращается к объективному. Анна Ахматова любит свое имя, "сладчайшее для губ людских и слуха", и своей поэзией она заставила полюбить его и других. Она (*95) явила образ женской души, которая приняла любовь как отраву, недуг и удушье. Перед нами - страдалица любви; и оттого "словно тронуты черной, густою тушью тяжелые веки" ее. В этой жертвенной любви, которая не ликованьем и радостью, а надгробным камнем легла на жизнь, в этой любви на погосте, "всего непременней - полынь". Что же удивительного, если сама Ахматова признает свой голос незвонким? Грустный голос ее действительно незвонок, но он - такого чарующего тембра, какого никогда еще не слыхала из уст своих поэтесс русская литература. И если писать о стихах всегда - значит переписывать стихи, то это особенно применимо к ней, автору "Вечера" и "Подорожника": так задушевны и проникновенны интонации ее некнижной, чистой русской речи, что хочется только слушать и слушать "стихов ее белую стаю", а не говорить о ней языком нашей охлаждающей прозы. К тому же трудно уловить и формулировать особенности ее стихотворений, их своеобразную ритмику и композицию - эти неожиданные, но убедительные, эти не логические, но тонко психологические переходы от слов настроения к словам описания, от души к природе, от факта к чувству, эти волнующие ассоциации, которыми она навсегда - и для себя, и для читателей - связала свои душевные состояния с какой-нибудь выразительной подробностью пейзажа, обстановки, быта, с какой-нибудь характерной деталью пережитого явления. Она искусно подбирает другим незаметные признаки соответственного момента, она "замечает все, как новое", так что внутренний мир ее не просто обрамляется внешним, а сходятся они воедино, в одну слитную и органическую целостность жизни. Легкий жест, движение, та или другая наружная примета лучше всяких излияний обрисовывает ее душу. Разве, например, вся горькая растерянность и смущенность последней встречи не сказываются в этом штрихе: "я на правую руку надела перчатку с левой руки"?.. И разве мы не чувствуем, какая симпатическая связь ощущений и вещей породнила между собой следующие строки:
Это песня последней встречи.
Я взглянула на темный дом.
Только в спальне горели свечи
Равнодушно-желтым огнем?
Общую картину тоски здесь неизбежно дополняет и мертвенно освещает равнодушная желтизна свечей, и нельзя их не заметить и не запомнить. Ибо вещи вмешиваются в душу. И так как внешняя предметность, конкретные очертания, фактическое окружение вообще нужны Ахматовой, то это и вносит в ее лирику начало эпоса, не дает последней расплыться в марево, сообщает ей желанную устойчивость и реальность. Такой манерой лирического рассказа, сплетающего осязательные нити с бесплотными, такою системой поистине тонких намеков и сближений осуществляет поэтесса теплую жизненность своих созданий, и по нежным, синим венам ее лиризма начинает струиться ощутимая кровь...
(*96) Это пленительно. Но и сама пленительница находится в плену у некоего царевича, у сероглазого короля, у того, кто взял ее сердце, но не отдал надолго своего. И с тех пор она больна любовью и от любви. Но от боли и не зарекается она: "Слава тебе, безысходная боль!" Ей нужна мука, трудно представить себе ее счастливой, у нее нет таланта счастливости... Даже общедоступное счастье сна мало ведомо ей, поэтессе бессонницы, этой верной "сиделки" ее ночей. У нее душа - вдова. И она хочет быть прирученной, покоренной, и неспроста читаем мы в одном ее стихотворении: "Муж хлестал меня узорчатым, вдвое сложенным ремнем", и в другом стихотворении героиня - рабыня:
И висит на стенке плеть,
Чтобы песен мне не петь.
"Как соломинкой", пьют ее душу, но она пытки мольбой не нарушит и только просит: "Когда кончишь, скажи". Беззаветна, отреченна, смиренна ее любовь, но сосредоточенно страстна - "и если б знал ты, как сейчас мне любы твои сухие розовые губы"; и "десять лет замираний и криков, все свои бессонные ночи" умеет она вложить в одно любовное слово. Однако бывают исключительные минуты у этой женщины, которая "от любви его загадочной, как от боли, в крик кричит, стала желтой и припадочной, еле ноги волочит"... Бывают у нее минуты, когда общая смиренность ее отходит вдаль и сменяется реакцией безудержного и буйного протеста. Вот спокойно, в тонах отреченья, говорит она себе:
Знаю: гадая, не мне обрывать
Нежный цветок маргаритку.
Должен на этой земле испытать
Каждый любовную пытку.
Жгу до зари на окошке свечу
И ни о ком не тоскую -
и вдруг это прерывается исступленным, истошным криком:
Но не хочу, не хочу, не хочу
Знать, как целуют другую...
Эти смены мотивов, да и весь общий стиль ее любви связаны с тем, что Анна Ахматова- моральная монастырка, монашенка, с крестом на груди. Она помнит об аде, верит в Божье возмездие. Ее любовь- та же власяница. У нее строгая страсть, и она смущена своей любовью, но, может быть, успокоена тем, что любовь ее несчастна и, значит, Бог не в обиде, Бог не поруган грешностью своей богомолицы. При этом Ахматова - монастырка, но в миру, но в свете, в блестящем вихре столицы, среди изощренных развлечений и выдающихся людей: сочетание редкое и оригинальное...
(*97) Из недр народности, как из своего последнего источника, текут ее личные песни, и, вообще, она - такая русская, великорусская, она светлыми струями своих стихов утоляет нашу оскорбленную жажду родины. Замечательно в ней это соединение: она одновременно индивидуальна и национальна. Изысканная, вкусившая тончайших даров культурности, хрупкая и нервная, Ахматова вместе с тем простодушна и принадлежит к общим глубинам исконной России; и творческий лик ее навевает воспоминания о русских иконах, о вдохновениях Андрея Рублева, о явленных бесплотностях Васнецова и Нестерова. Осеняет ее ореол родной страны и старины. Часто говорит она о Новгороде, где "Марфа правила и правил Аракчеев", о древнем городе, над которым "звезд иглистые алмазы к Богу взнесены", в котором она хотела бы окончить "путь свой жертвенный и славный"...
Тихая, сияет перед нею ее северная родина. И это слияние льдинки и пенистого вина, это сочетание спокойной и уверенной любови, именно любови, а не любви, к северу с великим зноем уже не любови, а любви, земной любви к любимому - вот что является одною из ее самых характерных особенностей. Она религиозна, она благочестива, этот отпрыск новгородской старины, верная дочь православной церкви, носительница древнего благочестия. Но эта христианка влюблена, а любовь - это язычество. И даже в пределах чтимого христианством Писания она переходит от строгого к страстному, от апостолов к Песни Песней -
. . . . . . . . . . . . . . .
Читаю посланья апостолов я,
Слова псалмопевца читаю.
Но звезды синеют, но иней пушист,
И каждая встреча чудесней, -
А в Библии красный кленовый лист
Заложен на Песни Песней.
Влюбленность - язычество, и природа - язычество, так что с православным, с церковным настроением Анны Ахматовой не может не переплетаться и это другое начало. И потому она верит в приметы, она суеверна, она гадает, ворожит, колдует, христианка-цыганка; она ради любимого, но не любящего может "просить у знахарок в наговорной воде корешок иль пришлет ему страшный подарок - свой заветный душистый платок". Она носит на счастье темно-синий шелковый шнурок, она чует воду, и разными другими тайнами делится с нею полное загадок естество. В душе у нее - много романтики и сказки, так что даже лирическую эпопею своей любви она развертывает в двух обликах - реалистическом и фантастическом. С одной стороны, все так ясно, конкретно, здешне, и можно даже догадываться о действительном имени, какое носит герой ее романа; с другой стороны, этот же роман отодвигается в светлую тень и даль призрачного мифа. Иногда эти два освещения соединяются в один белый свет, как, например, в белых стихах несказанно прекрасной (*98) лирической поэмы "У самого моря", где в очарованиях юности и легкой праздности выступает эта вместе реальная и волшебная девушка, у самого моря дожидающаяся своего царевича, которого она так-таки и не дождалась, увидела умирающим. В причудливое целое слиты здесь правда и легенда; они не противоречат одна другой, как не противоречат у Ахматовой ее новгородский элемент и ее привязанность к морю, к самому морю, на берегу которого рождается ее любовь, на берегу которого красуется образ покорителя-рыбака...
И все это выдержано в словах и красках изумительной чистоты и чисто пушкинской простоты. На Ахматовой вообще почиет благодать Пушкина; его традицию продолжает поэтесса, и роднят их заветное для обоих Царское Село, и лебеди царскосельских прудов, и статуи царскосельских парков, до такой степени оживляемые, одушевляемые Ахматовой, что к одной из них, к ее нарядной наготе, она даже ревнует своего желанного, - к той мраморной сопернице своей, про которую она сказала:
И ослепительно стройна,
Поджав незябнущие ноги,
На камне северном она
Сидит и смотрит на дороги...
И вот эта законная наследница Пушкина, уловившая в своих стихах шелест его шагов, полюбила, но серьезного ответа на свою любовь не встретила. Герой украл ее сердце, но "скоро, скоро вернет свою добычу сам", и он смотрит на нее равнодушно или насмешливо, спокойными глазами, "под легким золотом ресниц", и это про него рассказано в стихотворении "Четок" -
. . . . . . . . . . . . . . . .
Ах, кто-то взял на память
Мой белый башмачок.
И дал мне три гвоздики,
Не подымая глаз.
О, милые улики,
Куда мне спрятать вас?
И сердцу горько верить,
Что близок, близок срок,
Что всем он станет мерить
Мой белый башмачок.
Небрежный владелец влюбленного сердца и белого башмачка, этими сокровищами не дорожащий, не останется единственным для Анны Ахматовой; но годы пройдут, а она его не забудет, он для нее - "непоправимо милый", и пусть он теперь "тяжелый и унылый", это не глушит ее чувства...
Все психологические детали этого романа явлены в чарующих стихах "Вечера" и "Четок", "Белой стаи" и "Подорожника", и, чтобы его узнать, надо их (*99) прочесть целиком. Отметим лишь ту из его важных и своеобразных особенностей, что герой его - поэт, а героиня - поэтесса. Похититель сердца, других, "прекрасных рук счастливый пленник", оказывается, "знаменитый современник", его любовную тяжбу с героиней рассудят когда-нибудь потомки, и когда-нибудь дети прочтут в учебниках имя отвергнутой им женщины, - она войдет в его биографию; он не дал ей, сероглазый жених, любви и покоя, зато подарит ее горькою славой. Но биография пересечется здесь с биографией, его стихи встретят ее, потому что и она их пишет, и из стихов в стихи переливается дыхание обоих: "голос твой поет в моих стихах, в твоих стихах мое дыханье веет"...
Сменяются в ней очарования любви с ее разочарованиями, еще отдаешь кому-то и "стихов своих белую стаю, и очей своих синих пожар", но сильнее всего - "богомольная печаль" и чувство отрешенности, как будто уже переступила она земной порог, как будто она - "уже привыкшая к высоким, чистым звонам, уже судимая не по земным законам", как будто происходит уже с нею "посмертное блуждание души".
И может быть, с этими настроениями отреченности и отрешенности связано то, что в личную жизнь поэтессы, как и в личную жизнь каждого из нас, вошла общая печаль, проникла великая русская скорбь. У Анны Ахматовой личное не погибло, но осложнился общественностью ее внутренний мир, и под воздействием событий в проникновенные слова претворились всегда свойственные ей предрасположения патриотизма, органическое чувство родины. Когда траурная тень войны покрыла родную землю, Ахматова, закрыв лицо, умоляла Бога до первой битвы умертвить ее; из памяти ее, "как груз отныне лишний, исчезли тени песен и страстей, - ей, опустевшей, приказал Всевышний стать страшной книгой грозовых вестей". И такою молитвой молится она, ощутившая в себе печаль царя Давида:
Дай мне горькие годы недуга,
Задыханья, бессонницу, жар,
Отыми и ребенка, и друга,
И таинственный песенный дар.
Так молюсь за Твоей литургией
После стольких томительных дней,
Чтобы туча над темной Россией
Стала облаком в славе лучей.
Ей нужно, чтобы Богородицын плат, Богородицын плащ спасительным покровом разостлался над ее несчастной страной. И немало близких ей ушли на войну, ушли - и не вернулись.
Вестей от него не получишь больше,
Не услышишь ты про него.
В объятой пожарами скорбной Польше
Не найдешь могилы его...
(*100) Образ русского воина бледнеет только перед образом России, зримо или незримо, но всегда сопровождающим Анну Ахматову. И когда наступил бесславный конец войны и то бесславное, что началось за ним, из вдохновенных уст поэтессы возникли торжественные стихи:
Когда в тоске самоубийства
Народ гостей немецких ждал
И дух суровый византийства
От русской церкви отлетал, -
Мне голос был. Он звал утешно,
Он говорил: "Иди сюда,
Оставь свой край глухой и грешный.
Оставь Россию навсегда.
Я кровь от рук твоих отмою.
Из сердца выну черный стыд,
Я новым именем покрою
Боль поражений и обид".
Но равнодушно и спокойно
Руками я замкнула слух,
Чтоб этой речью недостойной
Не осквернился скорбный дух.
О нет! Ничем и никогда не осквернился дух нашей прекрасной поэтессы. Чистой вынесла и спасла она свою душу из былой праздности Петербурга и Павловска холмистого, изо всяких соблазнов жеманства и неврастеничности, не покинула ее великая и светлая простота, материнский дар ее простой России...
ЭММА ГЕРШТЕЙН
Секреты Ахматовой
Публикуется по статье: Эмма Герштейн. Поэт поэту - брат. Секреты Ахматовой // "Знамя", 1999, № 4. Электронная версия подготовлена А.В. Волковой - www.slovesnik.ru
(*132)Прошло более тридцати лет со дня кончины Анны Ахматовой. Не стану напоминать, каким изломам подвергался ее долгий литературный путь. Но посмертная судьба казалась многим на редкость благополучной. Все "средства массовой информации" - телевидение, радио, "толстые" и "тонкие" периодические журналы, газеты и, наконец, вышедшие сборники ее стихов не позволяют забывать ее имя широкому потребителю нашей сегодняшней культуры. Эта шумиха, может быть, и вызвала некую антиахматовскую волну, набегающую на ее творчество и образ. Пересмотром репутации Ахматовой заняты критики и главным образом теоретики-филологи. Кто считает, что ее репутация была раздута с самого начала, кто предпочитает изображать ее старость в образе отставной голливудской звезды со всеми присущими подобному типу капризами и причудами.
Такое положение приглашает меня заново подумать о месте Ахматовой в поэзии ХХ века и о влиянии ее выдающейся личности. Я задаю себе вопросы, на которые пока еще не знаю ответа.
От Маяковского к Блоку
Покоиться головой на подушке, упершейся в широкий подоконник открытого окна, можно только летом, когда одинокий тополь во дворе заменяет несуществующую дачу. На Ордынке никого из хозяев нет дома: все Ардовы разъехались, кто куда. А я сижу здесь, рядом с Ахматовой, в пресловутой "каюте" Анны Андреевны.
Ее неспешные слова о Маяковском запомнились мне текстуально с такого места: "...он никогда не воевал, ни в Первую мировую, ни в Гражданскую..." Я говорю: "По-моему, у него не было чувства истории. Одного "Бруклинского моста" и безъязыкой российской улицы мало, чтобы услышать ход времени". Она как будто не возражает, но мне становится не по себе: "Что же мы так честим его? Его, рождавшего новые рифмы и летящие строки о своей тяжелой походке по жизни (Версты улиц взмахами шаг`ов мну / Куда я денусь, этот `ад тая?.. Какому небесному Г`офману / выдумалась ты, прокл`ятая?)". Осторожно я напоминаю о его победительной экспрессии, о заражающей силе его патетики, так часто граничащей с подлинной трагедийностью. Ахматова молчит. Проходит минута-другая, и она произносит куда-то в пространство –
- трагический тенор.
Эти два слова я начертила на своем списке "Поэмы без героя", снятом с авторизованной копии в редакции 1945-1946 года. Мнемоническая запись не оставляла сомнений, что заключительная реплика Анны Андреевны относилась к Маяковскому. В этой уверенности я пребывала пятнадцать лет, пока в 1961 году в рубрике "Из новых книг" "Литературной газеты" не появилось стихотворение, в котором "трагическим тенором эпохи" Ахматова назвала не Маяковского, а Блока.
Мы знали, что и раньше Анна Андреевна часто меняла посвящения, даты и даже характеристики героев в своих стихах, но никогда еще речь не шла о таких крупных фигурах, как Блок и Маяковский. Тут решающую роль играл фактор времени. Насколько мне известно, еще никем не было замечено, что в поздней редакции "Поэмы без героя" подвергся кардинальной переработке сам сюжет, да и жанр этого творения.
В ранних редакциях "Поэмы..." Блок проходит как намек, как один из составля(*133)ющих фон эпохи. Это угадывается в строках Ахматовой, содержащих скрытую полемику. У Блока в стихотворении "На островах" мы читаем: "Две тени, слитых в поцелуе, / Летят у полости саней". Тут мы столкнулись с замечательным отражением двойного видения одного и того же действия. Ахматова заменяет этот образ другим.
Как парадно звенят полозья
И волочится полость козья
Мимо, тени! - он там один.
На стене его твёрдый профиль.
Гавриил или Мефистофель
Твой, красавица, палладин?
Это уже преддверие к упомянутой переработке сюжета. В переделке 1955 года скрытые цитаты из Блока чередуются с прямой опознавательной - по определению В. М. Жирмунского - строфой: "Это он в переполненном зале / Слал ту черную розу в бокале..." У Блока - "Я послал тебе черную розу в бокале / Золотого, как небо, аи" ("В ресторане"). Теперь не названный, но узнаваемый Блок становится поклонником "Коломбины десятых годов", а следовательно, соперником главного героя - молодого поэта-самоубийцы. В этом нас безошибочно убеждают строфы, в которых Ахматова своими поэтическими средствами передает пафос стихотворения Блока "Своими горькими слезами...". Если для него катание на петербургских островах со случайными женщинами почти превращено в мистический ритуал, то Ахматова переадресует чувства героя только одной женщине - героине "Поэмы без героя". Вспомним, как это звучит у Блока:
И стало всё равно, какие
Лобзать уста, ласкать плеча,
В какие улицы глухие
Гнать удалого лихача.
И всё равно, чей вздох, чей шёпот
Быть может, здесь уже не ты,
Лишь скакуна неровный топот
Как бы с далёкой высоты...
Как не узнать в неровном топоте блоковского скакуна "тяжелозвонкого скаканья" Медного Всадника, и как не почувствовать расстояния между "тяжелым топотом" государственника Петра и "рожденного в года глухие" лирического поэта ХХ века? В ахматовской "Поэме..." преображенный в рыцаря одной только женщины, Блок перерастает в больного наследника дел Петра Великого.
Но хронология не поспевает за смыслом исторического мышления Анны Ахматовой. "Шестидесятники" ХХ века, не читавшие еще "Поэмы без героя" целиком, не заметили ее слов ни об эпохе, ни о трагизме судьбы поэта. Они уцепились за определение "тенор", идентифицируя его с образом известного советского певца, окруженного толпой восторженных поклонниц. А Владимир Николаевич Орлов, блоковед и тогдашний главный редактор "Библиотеки поэта", по слухам, намеревался не подавать Ахматовой руки в ответ на ее якобы кощунственный выпад.
Для нее эти строки были результатом зрелых размышлений о Блоке. Она не ожидала такой бурной реакции оскорбленных читателей. Ей это было крайне неприятно. Вскоре я выслушала ее решение: "Я придумала, как я сделаю: я напечатаю цикл из трех моих стихотворений о Блоке", - написанных по разным поводам. Так она и сделала. Цикл носит в печати простое название "Три стихотворения". Это было не творческое решение, а тактическое, и поэтому неудачное, хотя бы потому, что пропала хронологическая последовательность блоковской темы у Ахматовой. Сенсационное стихотворение печатается между двумя написанными в сорок четвертом году, то есть созданными на пятнадцать лет раньше. На бесспорную дату нового стихотворения указывает автограф, где точно названы дата и место написания: (9 сентября 1960 г., Комарово). Между тем, осталось незамеченным исследователями, что в последнем стихотворении с особой силой отражен процесс припоминания, то есть ход внутренней памяти художника:
И в памяти черной пошарив, найдёшь
До самого локтя перчатки,
(*134)И ночь Петербурга, и в сумраке лож
Тот запах и душный, и сладкий,
И ветер с залива, а там, между строк,
Минуя и ахи, и охи,
Тебе улыбнётся презрительно Блок -
Трагический тенор эпохи.
Нетрудно заметить, что в этот цикл Ахматовой не попало еще одно очень известное стихотворение о Блоке - "Я пришла к поэту в гости..." Впоследствии Ахматова всегда ссылалась на эти стихи четырнадцатого года для опровержения раздражавшей ее легенды о ее романе с Блоком. Но в нашем стихотворении тема ее затаенной неразделенной любви к Блоку, на мой взгляд, прямо-таки кричит "между строк".
Могу прибавить к этой теме рассказ верного пожизненного друга Ахматовой - Николая Ивановича Харджиева. В какую-то подходящую минуту Анна Андреевна призналась ему, что в ее жизни было три платонических романа - Блок, Модильяни и Лозинский. Но зачем мне ссылаться на слышанное из третьих, хотя бы и верных, рук, если еще раньше я узнала от самой Анны Андреевны, что она "дрожала как арабский конь", когда "некто", встретив ее с мужем на Царскосельском вокзале, заговорил с Гумилевым. Анна Андреевна рассказывала это в тридцать шестом году, когда она гостила у меня в Москве. Она звонила при мне влиятельному лицу с просьбой о восстановлении сына в университете и от чувства унижения дрожала всем своим гибким телом.
Только в последний год жизни она смогла документально раскрыть инкогнито той давней засекреченной встречи. В шестьдесят пятом году вышли в свет "Записные книжки" Блока, где Александр Александрович называет точную дату этой знаменательной беседы на Царскосельском вокзале - 5 августа 1914 года. Она говорит об этом в своих воспоминаниях о Блоке, но, конечно, опуская ее сокровенный смысл.
Объемная история этого стихотворения осталась непонятой литературоведами-компаративистами. Даже такой авторитетный исследователь, как Виктор Максимович Жирмунский, связывал сенсационную строку Ахматовой с ее же напечатанными воспоминаниями о Блоке. Там передается диалог поэтов перед их выступлениями в благотворительном концерте. Версия Жирмунского была принята во многих комментариях к посмертным изданиям сочинений Ахматовой. Да и сам публикатор - Дм. Евг. Максимов - принял ее. По мнению большинства литературоведов, Ахматова не могла не вспомнить эпизода, прозвучавшего эхом в ее стихотворении о трагическом теноре. Но предложенное Жирмунским толкование трудно принять без возражения. Как большой ученый-филолог, Виктор Максимович был несколько абстрактен, отвлекаясь от подробностей повседневной жизни. Поэтому он самыми общими чертами обрисовал характер довольно редких встреч молодой еще Анны Андреевны с Блоком: "Они происходили на людях в литературных салонах и на литературных вечерах". Но уважаемый мною ученый оставил без внимания особую специфику образа жизни Блока - атмосфера "артистической" была его стихией. Напомню читателю, что жена Блока, Любовь Дмитриевна, была профессиональной актрисой, так же как знаменитая Н. Н. Волохова (блоковская "Незнакомка") и В. П. Веригина, оставившая интересные воспоминания о домашней жизни Блока; в конце жизни его внимание захватила исполнительница роли Кармен Л. А. Дельмас, и, наконец, Блок сам писал и ставил пьесы - он был театральный человек. Для него тенор, мелькавший на сборных концертах, часто предъявлявший претензии их устроителям, был привычной профессиональной фигурой. Именно о таком разговоре Ахматова вспоминала через полвека, беседуя с Дмитрием Евгеньевичем Максимовым. Его записи были напечатаны в "Звезде" только в 1957 году. В них повторен следующий ее обмен репликами с Блоком: "-...Александр Александрович, я не могу читать после Вас. Он - с упреком - в ответ: - Анна Андреевна, мы не тенора". Сравнение это, - толкует Жирмунский, - надолго запечатлевшееся в памяти, было, может быть, подхвачено через много лет в стихотворении 1960 года.
На мой взгляд, научное направление, которому следовал академик Жирмунский, не оставило ему места для характеристики самого свойства памяти художника нового, двадцатого столетия. Ахматова была современницей Пруста, Джойса, Кафки и даже нелюбимого ею Фрейда, и ее память зиждилась на событиях душевной жизни, а не на чисто внешнем воспоминании о случайно сказанном слове.
Поясню свою мысль двумя примерами ее творческой памяти.
(*135)Вскоре после кончины Анны Андреевны я пыталась выявить мои заметки о покойной, то есть наиболее ранящие меня эпизоды самых последних лет ее жизни. Среди них был мой разговор с ней о стихотворении Лермонтова "Журналист, читатель и писатель". Как известно, это произведение подвергалось неоднократно острому историко-литературному толкованию с привлечением имен Пушкина, Белинского, Полевого. Я выдвигала новую версию, считая, что в образе читателя Лермонтов вывел П. А. Вяземского. Ахматова отнеслась к моей "новации" вяло. Я предложила перечесть вместе эти лермонтовские стихи. К моему удивлению, Анна Андреевна небрежно отозвалась обо всей вступительной полемической части этого важного историко-литературного произведения. "Это только экспозиция. А вот что интересно, - оживилась она. - Ведь Лермонтов описывает здесь, как он сам, Михаил Юрьевич, сочиняет стихи". И она попросила меня прочитать про себя фрагмент, начинающийся стихом "Бывают тягостные ночи" и завершающийся "Скажите ж мне, о чем писать"1
"Вот для этого все стихотворение и написано", - убежденно заключила она.
Еще один пример художественной памяти Ахматовой. Это "Сказка о черном кольце", первые две строфы которой были напечатаны еще в 1914 году, а третья, заключительная, написана в 1936. Что послужило стимулом к этому? Там отражена сердцевина личных отношений Анны Андреевны с Борисом Андреевичем Анрепом. Некогда она питала к нему откровенную страсть, но он навсегда уехал из России перед самой революцией. Почему же она об этом вспомнила именно теперь, в 1936 году? Потому что между этим прошлым событием и сочинением заключительной строфы "Сказки..." пролег длительный период насыщенной эмоциональной жизни ее с Н. Н. Пуниным. И именно в тридцать шестом году она внутренне распростилась с Николаем Николаевичем (см. стихотворение "От тебя я сердце скрыла..."). Вот почему заключительная строфа "Сказки..." превзошла своей энергией ее начальные строфы, отчасти легкомысленные и кокетливые.
Такими драгоценными высказываниями Ахматовой испещрены мои первые наброски памятных заметок. Но я еще не догадывалась, что держу в руках ключ к ее творческому методу. Дорога открылась только теперь, и я предложу свою версию развития поэтической работы Анны Ахматовой.
Созревший поэт, Ахматова уже по-новому относилась к своей личной судьбе, а недоразумение с образом "трагического тенора эпохи" вызывало ее сильное раздражение. Так, в ответ на прямой вопрос Л. А. Озерова она отсылала его к своим читателям: "Объясните им, что это не обывательское "душка-тенор", - и после значительной паузы: - У Баха тенор поет Евангелиста..."
Анне Андреевне уже не первый раз приходилось разъяснять любопытствующим, что она имела в виду не расхожий образ знаменитого концертного тенора, а, как я убеждена, глубокий образ тех поэтов, о которых она обмолвилась как-то в раздумье: "Какие они хрупкие!.." Это было сказано про поэтов-самоубийц - современников Ахматовой: Есенине, Маяковском, может быть, Цветаевой. Именно в таком духе, то есть в отрицании уничижительного оттенка в сравнении Блока с трагическим тенором, ответила она на прямой вопрос уважаемой ею собеседницы (см. воспоминания Татьяны Ильиничны Коншиной, опубликованные посмертно в 70-80-х годах).
Ахматова тогда напомнила своей образованной собеседнице об отсутствии в истории вокала такого термина, как "трагический тенор", поэтому в ее устах речь шла о художественном образе исторического значения поэта Блока, а вовсе не об его уничижительной характеристике.
Иосиф Бродский, конечно, ошибался, приписывая рождение этого образа дню первого знакомства Ахматовой со "Страстями по Матфею" Баха, пластинку с записью которых он ей принес. В этот день она получила только дополнительный аргумент против возмущенных читателей, узнав, что партию Евангелиста в "Страстях..." поет (*136)тенор. Доказательством этого может послужить ее поздний рассказ о беседе с Блоком в 13-ом году. В предсмертной "Записной книжке". Отмечая краткость своих напечатанных воспоминаний о Блоке, она выделяет в них только одно место - признание Александра Александровича о Льве Толстом, мешавшем своей грандиозностью его творческой свободе.
Почему?
Почему актриса Наталья Николаевна Волохова, даря свою фотографию выдающемуся артисту Художественного театра Василию Ивановичу Качалову, сделала дарственную надпись исповедального характера? Она взяла строфу из обращенного к ней стихотворения Блока, но не самую эффектную или фатальную, а самую сиротскую. Волохова перенесла ее на первое лицо, то есть говорила от своего имени:
И миру дольнему подвластна,
Меж всех не знаю я одна,
Каким раденьям я причастна,
Какою верой крещена.
Можно предположить, что актриса отдавала дань тогдашней моде, но дату на инскрипте я не запомнила. Я держала эту фотографию в своих руках, когда мне было лет 15-16. Какое значение имеет для документа его календарное происхождение, я еще не знала.
Фотографию Волоховой мне показал в гимназии наш соученик Дима Качалов - сын Василия Ивановича. У нас была компания в пять человек - три мальчика, на один класс старше нас, и две девочки. Вторая была дочерью политических эмигрантов из царской России. В шестнадцатом или семнадцатом году они вернулись в Москву из Швейцарии.
С Вадимом у меня была своя отдельная тема: мы оба уже любили стихи Блока. Нередко после окончания учебных занятий он догонял меня на обратном пути домой. Пройдя вместе один квартал по Знаменке от угла Крестовоздвиженского переулка до Арбатской площади, он сообщал мне главные новости, важные для нас обоих. Однажды объявил взволнованно, что открыл замечательную поэтессу - Анну Ахматову. И тут же прочел "Сжала руки под темной вуалью..." Это стихотворение взволновало и меня. В другой раз он окликнул меня, потрясенный: "Знаешь ли ты, что Блок стал левым эсером?! Он написал какие-то частушки о двенадцати хулиганах и ерничал от их имени в своей новой поэме". Вадим не мог предугадать, что пройдет некоторое время, и актеры эффектно и с большим успехом станут читать с эстрады "Двенадцать".
Не могу пропустить совсем частный эпизод. Мы с Вадимом возвращались из школы под впечатлением спектакля "Горе от ума", поставленного нашими соучениками. Это было яркое зрелище. Чацкого играл старший сын Ивана Михайловича Москвина. Володе было 15-16 лет, на голове его во все стороны торчали непокорные огненно-рыжие пряди волос, а лицо было покрыто темными веснушками. Издали это производило впечатление сплошной экзотической пигментации. Голубоглазый, он был коренаст, среднего роста, но при такой внешности обладал глубоким гибким баритоном и, как нам казалось, подлинным трагедийным талантом. Рая Зеест, воспитанная за границей, очень хорошо играла Наталью Дмитриевну, московскую даму, а в роли горничной блистала великолепная Лена Спендиарова, та самая, которая вскоре прельстила Анатолия Васильевича Луначарского (в пьесе "Маугли" по Киплингу) своей непосредственностью и незаурядным артистическим темпераментом. После этого дебюта она была принята в Камерный театр на роль Жирофля в одной из опереточных постановок А. Я. Таирова, ездила с этой труппой в Париж и Берлин, но впоследствии ее артистическая карьера почему-то заглохла. Вот эта блистательная школьная труппа, с жалостью, смотрела на меня и Вадима, утешая нас, что зато мы умные критики. Вадима это не удовлетворяло, и, догоняя меня, как обычно, в нашем общем квартале, он заметил с горечью: "Какие мы с тобой неталантливые!"
О Вадиме Васильевиче Шверубовиче (став взрослым, он взял родовую фамилию отца) можно было бы очень много рассказывать, но он сам описал свою жизнь, полную событий, пронизанную глубоким патриотическим чувством, преданной любовью к (*137)отцу и его сценической работе. Последнюю половину своей жизни он отдал Студии Художественного театра, где увлеченно преподавал инженерию сцены. Начало же своей самостоятельной жизни он ознаменовал добровольным вступлением в Белую армию. Не мое дело описывать его бурную жизнь, но мне не хочется забывать об одном его рассказе во время встречи с ним, когда мы оба были уже не молоды. Надо сказать, что родители дали ему хорошее воспитание - еще в гимназии он гордился своим знанием нескольких европейских языков и уже усвоенным самостоятельно на уроках Закона Божиего знанием православного Катехизиса. Ближняя родня Шверубовичей, происходившая из духовенства, по его словам, была униатской. Литовское происхождение Вадима сказалось в его внешнем облике. Он был ярко выраженным альбиносом с совершенно белыми прямыми волосами. И вот этот барчук, много знавший, но не умевший обращаться с лошадьми, попал в сводный кавалерийский полк. Можно себе представить, как издевались солдаты над этим незадачливым конюхом. Но его трудное положение длилось недолго. Видимо, в полку разглядели его внутреннее обаяние. Рядовые уланы стали относиться к нему с нежностью и почтением. В чем секрет? А в том, что они окрестили его юродивым. Об этом и был наш поздний разговор на его московской квартире. Вадим говорил о специфике русского сознания, выделяющей из общей народной массы чудаков, юродивых, правдоискателей. Об этом духовном явлении много писали и говорили, но Вадим говорил об этом не как о литературном источнике, а как о пережитом лично. Он и в плену у немцев был, и, по-видимому, в лагере для перемещенных лиц. Там вся его одежда состояла из надетого через голову рогожного мешка с двумя прорезями для голых, увы, рук. (Конечно, о таком своем униженном существовании он мне не рассказывал, я слышала об этом от других, от его поздних друзей.) Не могу забыть его торжествующего тона, когда он описывал мне встречу с кем-то из бывшего гитлеровского начальства. Тот воскликнул с удивлением: "Herr Shverubovich?!" А Вадим, уже опознанный как сын знаменитого артиста Качалова, - выбритый, вымытый, при галстуке и ботинках, - горделиво ответил: "Ya, das bin ich!"
Он хотел дать мне прочитать свои воспоминания о том, как он партизанил в Италии, но я тогда заболела и пришла только на его похороны в 1981 году.
Но вернемся к Волоховой. Я предполагаю, что свою надпись она сделала в ту эпоху, когда Художественный театр намеревался ставить в Москве пьесы Блока, - вначале "Песню судьбы", затем "Розу и крест". В последней играла О. Гзовская, которая очень много общалась с Блоком в работе над своей ролью. Вероятно, тогда же и познакомилась с Качаловым Волохова. Характер обаяния Василия Ивановича, игравшего всегда возвышенных и волевых интеллектуальных героев, был не таков, чтобы перед ним можно было рисоваться. Поэтому я предполагаю, что инскрипт Волоховой действительно выражал внутреннюю сущность прославленной Блоком актрисы.
Была ли она исключением в художественной среде петербургского общества начала века? Может быть, мы найдем ответ на наш вопрос в стихах Анны Ахматовой, где она дает этой среде замечательную характеристику.
Оттого и темно в светлице,
Оттого и друзья мои,
Как вечерние грустные птицы,
О небывшей поют любви.
Особенно поразительна первая строфа этого восьмистишья: свою больную эпоху Ахматова, оказывается, благословляла (1913 г.):
Родилась я ни поздно, ни рано.
Это время блаженно одно.
Только сердцу прожить без обмана
Было Господом не дано.
Странное на первый взгляд противоречие, вернее, соединение двух полярно противоположных точек зрения не было случайным. Вся поэзия Ахматовой развивается в этом ключе. Но здесь его сопровождает чисто личный покаянный мотив.
Гумилев не сразу принял странную тоску Ахматовой. Он критически, а может быть, и искусственно критически отнесся к стихам, где она, в сущности, более подробно говорит о тех, кого уже назвала "вечерними грустными птицами":
(*138)Ведь где-то есть простая жизнь и свет,
Прозрачный, теплый и веселый...
Там с девушкой через забор сосед
Под вечер говорит, и слышат только пчелы
Нежнейшую из всех бесед.
А мы живём торжественно и трудно
И чтим обряды наших горьких встреч,
Когда с налету ветер безрассудный
Чуть начатую обрывает речь, -
Но ни на что не променяем пышный
Гранитный город славы и беды,
Бессолнечные мрачные сады,
Широких рек сияющие льды
И голос Музы еле слышный.
Становится ясным, что Ахматова упорно ищет в своих стихах выражения особого характера отношений между избранными друзьями, то есть того, что мы называем новой манерой жить. Не станем перечислять неоднократных возвращений Анны Ахматовой к этому психологическому явлению всегда в ином сюжетном оформлении. Прежде всего, надо остановиться на разящем противоречии, содержащемся в ее знаменитом стихотворении:
Все расхищено, предано, продано,
Чёрной смерти мелькнуло крыло,
Всё голодной тоскою изглодано,
Отчего же нам стало светло?
Рациональному объяснению эти стихи не поддаются, но мы понимаем, что речь в них идет о некоей специфике петербургской духовной жизни, хронологически совпадающей с основной темой Ахматовой, специфике, которой поэты и философы так называемого "серебряного века" не устают давать объяснения. Путь Ахматовой к заветной цели, как я уже говорила, извилист и требует кропотливого внимания исследователя. Не станем перечислять неоднократных возвращений Анны Андреевны к этому свойству ее психики, остановимся на разящем единстве двух так неожиданно соседствующих явлений. Умея как бы вырезать на дереве призрак смерти, витающий над Петербургом, та же Ахматова чувствует еще неизвестное, но давно ожидаемое чудо.
Это то, что одни критики называли "исторической живописью" Ахматовой (К. Чуковский), другие - ее "чувством времени" или канунов (Б. А. Филиппов), третьи - снижая до ее личной причуды - "бедолюбием" (С. В. Шервинский). Сама Анна Ахматова обмолвилась в одном из своих созданий точными словами, вбиравшими в себя все выше перечисленные приметы "горьких встреч" - "предпесенной тревогой".
Ахматова писала свое стихотворение в 1921 году, но разве не о том же говорил Мандельштам в точно обозначенном году окончания войны (1918):
В ком сердце есть, тот должен слышать, время,
Как твой корабль ко дну идёт...
Кто приказывает поэтам чуять, как "земля плывет", ловить слухом "огромный, неуклюжий, / Скрипучий поворот руля"? ("Прославим, братья, сумерки свободы...")
Духовная близость этих двух поэтов не была, конечно, обусловлена принадлежностью к общей литературной школе акмеизма и тем, что они были почти ровесниками. Но третий акмеист - Гумилев - был старше Ахматовой на три года, а Мандельштама - на все пять. Тем не менее, это все одно поколение.
Не потому ли Гумилев, введенный в восемнадцатом году в Лондоне в тамошний высший литературный круг, все-таки писал в Россию о неповторимости духовной и интеллектуальной атмосферы Петербурга перед Первой мировой войной? Благо, он писал бы об этом только Анне Андреевне, своей жене, - это было бы объяснимо личными эмоциями. Но он, подробно описывая свои встречи, например, с замечательным писателем Честертоном, все-таки убеждал русских друзей и единомышленников, на(*139)пример, Лозинского или Ауслендера, об уникальности внутреннего ритма жизни в родной среде в канун войны.
Это с неоспоримой силой выражено в написанном в том же восемнадцатом году его стихотворении "Стокгольм". Старший по возрасту поэт в унисон с Мандельштамом заявляет с мощной экспрессивной силой о своей неприкаянности в жизни и даже во вселенной:
И понял, что я заблудился навеки
В слепых переходах пространств и времён,
А где-то струятся родимые реки,
К которым мне путь навсегда запрещён.
Для Гумилева это почти предсмертное стихотворение, но в канун войны он не принял ахматовского определения новой жизни в городе на Неве. Он критически, а может быть, и искусственно критически, не забывая о своей роли ментора, отнесся к найденному ею образу "вечерних грустных птиц".
Может быть, он даже испугался и содрогнулся, прочитав в подобных стихах Ахматовой - "огонь зажгут, а все-таки темно..." Он строго одернул Анну Андреевну за "еле слышный голос музы". Нет-нет, протестует он, - голос Музы звучал в нашем Петербурге победоносно.
Ахматова не спорит с ним, она знает, что несет с собой эта пора, она слышит, как, посвистывая перед мольбертом, художник "весело и грустно" жалуется на никогда "не бывшую радость". Этот надтреснутый голос мил ей, потому что их Музы дружны "беспечной и пленительной дружбой, Как девушки, не знавшие любви".
Она умела отдаваться жизни целиком, смотреть из окна мансарды на "снег, Неву и облака" или заглядываться, гуляя, как "на мосту сквозь ржавые перила Просовывая руки в рукавичках, Кормили дети уток"...
"Вот легкий груз, - заканчивала она свои трехчастные "Эпические мотивы", - чтоб в старости, в болезни, Быть может, в нищете - припоминать Закат неистовый и полноту Душевных сил, и прелесть милой жизни".
Вернемся опять к целому хороводу современников Ахматовой. Многие реплики Мандельштама, зафиксированные мною в первых опытах моих воспоминаний, только теперь становятся мне ясными.
Становится понятным, почему, читая при мне Пруста, Мандельштам отозвался не об интересовавшей меня истории любви Свана к Одетте, а ограничился краткой характеристикой всего произведения - "пафос памяти". Как это близко к лейтмотиву "Четок", где понятию памяти уделено много места.
Тема, главенствующая, на мой взгляд, так завуалирована пестротой сопровождающих мотивов, что ее не сразу разглядишь. Она так же запрятана, как и замечательное наблюдение Мандельштама о зависимости поэзии Ахматовой от великой русской психологической прозы.
Эту мысль часто цитируют в историко-литературных штудиях, оставляя в тени ту же мандельштамовскую мысль, выраженную в стихотворении "Вполоборота о, печаль...", обращенном к Ахматовой: "Зловещий голос - горький хмель - Души расковывает недра". Мандельштам писал это в четырнадцатом году, и говорится тут не о влечении Ахматовой к прозе, как ошибочно думала я, а об основном принципе ее творчества. И как я не понимала, сколько таких намеков проскальзывало в ее репликах? Например, когда зашла речь о версификационных способностях Левы, сына Ахматовой, и его феноменальной памяти на стихи, она говорила Лукницкому: "Поэтом он не будет, у него нет фантазии". По поводу добросовестных шеститомных записей Р. Крафта о беседах с композитором Стравинским она говорила, что они теряют из-за того, что выполнены не писателем, а, так сказать, протоколистом. Из-за этого, по ее мнению, многое в гениальном творчестве композитора осталось недоступным для тех, кто не слышал его музыку.
Напомню также наш разговор с ней о стихотворении Лермонтова "Журналист, читатель и писатель", когда она прямо говорила мне, что стихотворение написано для того, чтобы показать, как Лермонтов сам сочиняет стихи. А когда я призналась ей, что меня влечет к документальной прозе, она немедленно выступила в защиту художественного вымысла: "Это - самое главное!" Этим напоминанием мы можем здесь ограничиться, чтобы в следующей главе остановиться на самых ярких примерах ее преобразования внутреннего переживания в художественное произведение.
(*140)Злополучные устрицы
В книге Ахматовой "Четки" напечатано ее стихотворение тринадцатого года, в котором встречается одно удивительное слово. Звучит оно экзотично. Для связки встречается только один часто употребляемый в русском языке звук "и". Остальные звуки в этом слове останавливают внимание читателя редким сочетанием. Четыре согласные и по краям две гласные - "у" и "ы". Не только читатели, но и филологи изолировали его, вынув из контекста стихотворения. Слово это - устрицы. Оно встречается в стихотворении "Вечером".
Свежо и остро пахли морем
На блюде устрицы во льду.
Современные литературоведы нашли много перекличек с этими строками в лирических стихотворениях других поэтов, современников Ахматовой. Не позабыли даже Игоря Северянина, написавшего задолго до Ахматовой, в 1905 году, о запахе вервены, то есть духов, которые напоминали автору встречи с любимой женщиной на морском берегу, где то ли пахло устрицами, то ли их там ели. После выхода "Четок" тот же Игорь Северянин опубликовал какую-то другую редакцию, где опять говорится о вервене и устрицах.
Затем было высказано предположение, что Ахматова написала свои упомянутые строки под влиянием статей и стихов Иннокентия Анненского. Как известно, Анна Андреевна считала Анненского своим учителем. Но, как ни хотели литературоведы установить связь между творчеством Анненского и Ахматовой посредством ее слова "устрицы", это сделано было с большой натугой. К тому же, Анненский этого сакраментального выражения "устрицы" почти не употреблял. Он цитировал фразу из письма Ивана Сергеевича Тургенева, уже безнадежно больного, сравнившего себя не с устрицей, а с моллюском. Кроме того, Анненский где-то говорил с состраданием об устрицах, которых люди едят живьем.
Исследователь и историк поэзии двадцатого века приводил широкий фон творчества Анненского, сопоставляя его с указанным стихотворением Ахматовой. Он находил общие мотивы в знаменитом стихотворении Анненского "Смычок и струны", в материалах из доклада о поэтических формах современной действительности, указывал на общие мотивы в стихотворении Анненского о венецианской лагуне. А в последнем, экспериментальном томе пятитомного собрания сочинений Анны Ахматовой предложена, еще одна аналогия - со стихотворением Маяковского, написанным в 1914 году: "Я увидал на блюде студня / Косые скулы океана". Очевидно, у исследователя возникла мысль, что Маяковский бессознательно вставил эти строки под влиянием стихотворения Ахматовой.
Почему бы, вместо банального ужина, поданного на блюде (см., например, "Попрыгунью" Чехова), не обратить внимания на то, как пресловутые устрицы "свежо и остро" пахли морем, не вспомнить при этом юность живой Ани Горенко в Херсонесе и ее первую поэму "У самого моря" (1914)? И как не понять, что все стихотворение пронизано одним чувством неудовлетворенности настоящим? Впрочем, об этом прекрасно сказали не литературоведы, а поэты.
Владимир Пяст, будучи не только поэтом, но и профессиональным критиком, называет это стихотворение маленькой поэмой, которая достигает значительности целого, замкнутого в себе мира, кажется отдельным маленьким романом. В своей рецензии на книгу "Четки", не минуя анализа искусного метра этого стихотворения, он писал: "Удивительные стихи! Из четырехстопного ямба, который "надоел" еще Пушкину, лира Ахматовой сумела извлечь какой-то новый, неслыханный во всей подлунной метр для этого стихотворения. Солью моря пропитаны эти стихи, и лед в блюдце с устрицами не "рассказан", а так вот звуками "положен", лежит и радуется своей жизни в первых строках стихотворения, и действительно стелется дым, заглушая голоса скрипок румын, - в последних... Небольшой, казалось бы, несущественный эпизод из жизни двух людей. Но он так освещен мастером слова, этот эпизод, что нам ничего знать не надо о предыдущей и последующей жизни героев" (1914).
Футурист Асеев не мог устоять, чтобы в стихах, обращенных к Анне Ахматовой, не воспеть ее верной руки и глухой и легкой речи ("Не враг я тебе, не враг...", 1924).
По свидетельству Харджиева, Маяковский строго выговаривал Асееву за эти стихи - либо Вы футурист, либо Вы акмеист. Эпизод наглядно показывает, как несвободна была в те годы воля поэтов, зависевших не только от политической власти, но и (*141)от собственных провозглашенных программ. Ведь этому выговору предшествовала неожиданная встреча Маяковского и Ахматовой на ленинградской улице, где он почтительно целовал ее руки, приговаривая стыдливо: "Никому не говорите..." Впрочем, мы уже знали по воспоминаниям Лили Юрьевны Брик, что Маяковский часто повторял любимое им стихотворение Ахматовой "Столько просьб у любимой всегда! У разлюбленной просьб не бывает..." Но и это бы нас не убеждало в особой любви Владимира Владимировича к поэзии Ахматовой, если бы не неотправленное письмо Цветаевой к Анне Андреевне.
31 августа 1921 года Марина Ивановна писала про неподтвердившиеся слухи о самоубийстве Ахматовой вслед за казнью Гумилева. Поразителен рассказ Цветаевой об отношении к этому Маяковского: "Скажу Вам, что единственным - с моего ведома - Вашим другом (друг - действие!) среди поэтов оказался Маяковский, с видом убитого быка бродивший по картонажу Кафе Поэтов. Убитый горем - у него, правда, был такой вид. Он же и дал через знакомых телеграмму с запросом о Вас..."
Но самое значительное из того, что нам приходилось читать о поэзии Ахматовой, это замечания Бориса Леонидовича Пастернака в его недоработанной рецензии на ташкентский сборник ее избранных стихов (1942). Говоря об "истинном существе патетической музы" Ахматовой, Пастернак определяет, из чего состоит эта муза: ее "основная земная примета" - это "чистота внимания", "голос чувства в значении действительной интриги", "оригинальный драматизм и повествовательная свежесть прозы" в ее стихах.
Пастернак выделяет среди ряда наилучших стихотворений из "Четок" и "Белой стаи" то самое стихотворение "Вечером" (о злополучных устрицах) и "Небо мелкий дождик сеет..."
Когда Пастернак говорит о голосе чувства в значении действительной интриги, он подразумевает под этим литературное произведение, в основу которого положен подлинный лиризм переживаний Ахматовой, вставленный в самостоятельный сюжет. И все значение поэтической системы Ахматовой заключается в том, что она разрабатывает порожденный ее творческой фантазией сюжет, не имеющий прямой связи с событиями ее личной жизни. Об этом приеме говорят и ее постоянные высказывания, и самый процесс творчества. Война, "состарившая на сто лет" Ахматову и ее специфический петербургский круг, охарактеризованный ею как тип людей, отличавшихся особой манерой жить ("А мы живем торжественно и трудно...").
Увлекшись в своей автобиографической прозе описанием Павловска с его запахами, красками, художественным антуражем, она внезапно, а может, не внезапно, а сознательно себя обрывает: "от этого надо беречь стихи" ("Записные книжки Ахматовой").
Несмотря на частые утверждения Анны Андреевны о ее желании жить в двадцатом веке, а не в прошлом, я не понимала так же, как и другие историки "серебряного века", что Ахматова имела в виду особый ритм современной жизни, роднящий ее творческое лицо с такими авторами, которых она даже не всех успела прочитать в 20-30-е годы (как я уже говорила, это Джойс, театр Ибсена и прочие корифеи искусства ХХ века), не говоря уже о Кафке, ставшем известным позднее.
Как ни странно, Осип Мандельштам, подчас критически отзывавшийся о поэзии Ахматовой, тем не менее, ощущал ее родство именно с новыми писателями. На эту мысль наводит его разговор со мной о стихотворении Блока "Как тяжело ходить среди людей..." (Эмма Герштейн. "Мемуары". СПб., ИМА-Пресс, 1998, с. 30). Ведь некоторые сегодняшние исследователи до сих пор считают, что Осип Эмильевич, как завзятый литературный критик, находил лучшим стихотворением Блока не "Шаги командора", как это известно из его печатного выступления, а только что упомянутое. Он не считал его лучшим, но оно соответствовало его психологическому состоянию и даже тому эпиграфу из Фета, который поставил сам Блок: "Там человек сгорел..." Мандельштам воспринял это блоковское стихотворение не как литературную игру, а как исповедальную лирику большого поэта - "Чтобы по бледным заревам искусства Узнали жизни гибельный пожар!" Стихотворение 1910 года оказалось близким Мандельштаму в 1932-м. Теперь мне стал понятным автобиографический смысл восклицания Осипа Эмильевича: "Вот самое гениальное стихотворение Блока!"
Причастность к новой жизни чувствовали читатели, а не критики. Недаром Федор Сологуб утверждал, что литературные критики вовсе не собирались подымать автора "Вечера", "Четок" и "Белой стаи", а сделали это читатели. Их признание свидетельствовало о том, что они, читатели, тоже уже жили другим внутренним ритмом. После начала Первой мировой войны это стало общим признаком самосознания нового поколения.
(*142)Две "Поэмы без героя"
В планах некоторых издательств числится как заявка моя работа "Две "Поэмы без героя". Она никогда не была напечатана. Почему? Потому что я чувствовала, что в ней не хватает какого-то вывода, резюме. Хотя он был. Но как оказалось впоследствии, он был ошибочным. Я имела возможность наблюдать, в непосредственной близости к автору, как Ахматова меняла текст своей, казалось бы, законченной работы. Этому процессу сопутствовала легенда, что у "Поэмы..." есть какой-то второй шаг, который не отпускает автора на свободу.
Ошибочный же мой вывод заключался в том, что, по моему тогдашнему наблюдению, Ахматова стремилась к хорошей прозе, с каковою целью соблюдала довольно обычные приемы сюжетосложения XIX века. Это бесконечные "внезапно обнаруженные" куски текста, которые "завалялись", это поправки, последовавшие в неимоверном количестве от читателей, вернее, не читателей, а слушателей новых редакций "Поэмы..."
Как последний итог, я могу сказать, что в тех поправках удачной была только одна строфа с ее строками:
А по набережной легендарной
Приближался не календарный -
Настоящий двадцатый век.
Это несомненная удача, но не будем скрывать, что ту же мысль Ахматова выражала в своих записях обычной прозой. Иными словами, была такая ясная мысль, что ХХ век начался с Первой мировой войны.
Но зато в этой моей рукописи "Две "Поэмы без героя" зафиксированы, как я уже сказала, замечания слушателей. Они поражают своей неадекватностью, но тогда я это не совсем понимала.
Ахматова демонстрировала великолепное равнодушие к тому, что скажет о ней критика. Она сочиняла новые стихотворения, безболезненно перенося, по крайней мере внешне, то, что они не доходят до читателя. Внутренняя уверенность, что все ее стихи будут когда-нибудь известны, поддерживала в ней этот дух спокойной независимости. Но с "Поэмой..." дело обстояло иначе. Несмотря на то, что у Ахматовой уже был опыт двух больших вещей - "У самого моря", "Путем всея земли" (сюда же можно причислить ее "Эпические мотивы" или "Северные элегии"), "Поэма без героя" знаменовала для нее резкий переход к новой форме. Ей была постоянно необходима умная, квалифицированная, чуткая, литературная критика, которая пыталась бы установить, какое место занимает эта "Поэма..." в развитии русской поэзии и в эволюции творчества самой Ахматовой.
В нетерпеливом ожидании этого часа Анна Андреевна жадно ловила отдельные отклики на "Поэму...", раздавая знакомым машинописные экземпляры в редакции 1945-1946 годов. Но для того, чтобы была профессиональная критика, нужно, чтобы была книга, а вот этот-то процесс был резко оборван. В августе 1946 года грянуло известное постановление о журналах "Звезда" и "Ленинград", направленное непосредственно против двух писателей - Ахматовой и Зощенко. Тираж уже готового сборника стихов Ахматовой "Нечет" не был отпечатан, набор рассыпан, сохранилось только несколько сигнальных экземпляров, хранившихся в тайне. Но только что вышедший сборник "Из шести книг" цензура не успела изъять: как только он появился в "Книжной лавке писателей" в Ленинграде, выстроилась громадная очередь и книгу в один день раскупили. Анну Ахматову исключили из Союза писателей за то, что она не покаялась, лишили хлебных и продуктовых карточек, ославили на весь Союз. Постановление ЦК изучали в средних и высших школах, на всех политзанятиях в учреждениях и на заводах, во всех городах и селах - "Ни налево, ни направо не глядела, А за мной худая слава шелестела...", как сказала в замечательном позднем четверостишии Ахматова.
В пятидесятых годах Анна Андреевна нередко живала в Москве по четыре месяца подряд. В одно из таких пребываний она спросила меня: "А у Вас есть "Поэма..."?" И я, обмолвившись, смешно ответила: "Есть, но она... зажелтилась". Вскоре Анна Андреевна уехала в Ленинград. А в следующий свой приезд, придя ко мне, сказала: "Дайте-ка ту, которая зажелтилась". - И стала беспощадно вычеркивать строки и слова, вписывая поверх вычеркнутых и на полях новые. Как я ни просила ее оставить этот вариант таким, каким он жил уже десять лет, она была неумолима и с презрением к собственному тексту попросила меня перепечатать новый вариант, значительно добавленный и измененный. Это было, если не ошибаюсь, в 1955 году.
(*143)Происхождение некоторых отдельных замен я отлично помню.
Вот один из примеров.
В 1952 году в санатории Академии наук "Болшево" Анна Андреевна познакомилась с Натальей Ильиничной Игнатовой и ее старшей сестрой Татьяной Ильиничной Коншиной. Обе дочери известного публициста и критика "Русских ведомостей" Ил. И. Игнатова, образованные, прекрасно владеющие европейскими языками, умные, благородные по характеру и нежно привязанные друг к другу, стали на ближайшие годы желанными собеседницами Анны Андреевны. Уже немолодые и больные (Наталья Ильинична в 1956 году умерла от белокровия), они не хотели лишать себя своих излюбленных привычек. По договоренности со знакомым шофером, за доступную плату, они выезжали несколько раз в год в красивейшие места Подмосковья, которые москвички Игнатовы отлично знали. Часто они приглашали на эти прогулки Анну Андреевну, она рассказывала мне о поездках по Рогачевскому шоссе - это блоковские места. Вот почему Ахматова посвятила свое стихотворение "Пора забыть верблюжий этот гам..." Н. И. Игнатовой (его заключительные строки: "И помнит Рогачевское шоссе Разбойный посвист молодого Блока...").
Наталья Ильинична хорошо знала русских символистов, интересовалась музыкой и философией, в частности, в течение длительного времени она разбирала в рукописном отделе Ленинской библиотеки архив издательства "Мусагет", что требовало специальных и глубоких знаний. Но, человек резкого и острого ума, она, по моему мнению, не обладала поэтическим чутьем. И когда Анна Андреевна по своему обыкновению подарила сестрам машинописный экземпляр "Поэмы без героя", это произведение не понравилось Наталье Ильиничне. Она не скрыла от Анны Андреевны своего решительного осуждения строки "Не глядевших на казнь очей". "На казнь нельзя глядеть", - утверждала она. (Это верно, если понимать строку поэта буквально. Хотя были и такие случаи в конце войны, что артисты на фронте выступали рядом с трупами повешенных предателей.) Но ведь это - метафора, пусть не слишком удачная, если брать ее вне контекста, но заменить ее решительно нечем. И по звукописи, и по экспрессии всего этого лирического отступления2, и по глубокому подтексту она стоит на своем месте и дает полное представление о психологическом пейзаже "доисторического" периода биографии Ахматовой - ведь речь идет о казни Гумилева в 1921 году. Но, как уже говорилось, в случае "Поэмы..." Анна Андреевна за неимением критики была чрезвычайно чувствительна к отдельным мнениям. Она заменила эту строку другой: "Не глядевших на смерть очей". Эту поправку я должна была внести во вновь перепечатываемый мною вариант 1959 года, пока Анна Андреевна, вероятно, не заметила, что глядеть на смерть не менее безнравственно, чем на казнь. К тому же это неправдоподобно: со смертью сталкивается каждый. В частности, Ахматова похоронила родную сестру в 1905 году, а в 1916-м - отца. В окончательном варианте эта строка заменена маловыразительным фольклорным клише, выпадающим по звучанию и по смыслу из приведенного лирического отступления - "Наших прежних ясных очей". Интересно, что все замены, сделанные Ахматовой механически, якобы в угоду здравому смыслу, приводили именно к бессмыслице. В самом деле, какие же "ясные очи" у беснующихся греховодников "петербургской повести"? Не забудем, ведь суд совести, которому поэт подверг героиню, относится и к автору: "Не тебя, а себя казню".
Другой пример. На этот раз критика исходила от молодых людей, вероятно, смущенных необходимостью отчитаться перед прославленным поэтом своими впечатлениями от "Поэмы без героя". И кто-то, растерявшись, пролепетал о "вспышках газа": не стояла ли на лестнице газовая плита? Это комическое недоразумение относится к строфе, может быть, и лишней, но все-таки осмысленной:
Это всё наплывает не сразу,
Как одну музыкальную фразу,
Слышу несколько сбивчивых слов
(*144)После... лестницы плоской ступени,
Вспышки газа и в отдалении
Ясный голос: "Я к смерти готов".
И чтобы не искушать современных молодых читателей, Анна Андреевна выкинула эти строки, поставив вместо них совсем другую строфу. Впрочем, это было сделано позже, по ряду новых соображений. Между тем, эти вспышки газа очень важны для связи образов "Поэмы...", т.к. дают на лицах бледно-синий отблеск, напоминающий о близкой смерти. На это есть указание в одной из позднейших записей Ахматовой о "Поэме без героя" (в либретто балета). Обозначена также мысль об обреченности поколения. Ведь это звучит голос Мандельштама - "Я к смерти готов".
Третий пример. Вместо строки в "Решке" "И факел Георг держал" появилось "И Байрон факел держал". Эта замена сделана из-за реакции одной из читательниц-знакомых Ахматовой, англичанки по происхождению. Ее удивила фамильярность тона русской поэтессы, говорящей о великом английском поэте. В Англии автора высмеяли бы за это. Этого неудачного замечания было достаточно, чтобы заменить поэтическую строку, знаменующую братство поэтов, прозаической справкой, годной для комментария. К счастью, впоследствии, оправившись от нанесенной читательницей травмы, Ахматова вернулась к первоначальному варианту.
Больше всего меня огорчил четвертый случай. Кому-то не понравилось упоминание Травиаты в финале "Петербургской повести". И он убеждал Ахматову, что Травиата даже не собственное имя, а нарицательное, обозначающее по-итальянски кокотку. И Ахматова покорно истребляет прекрасное по драматургическому напряжению и интонационной гибкости "Он тебе, он своей Травиате, поклониться пришел. Гляди... ...не в проклятых Мазурских болотах, не на синих Карпатских высотах, Он на твой порог... Поперек. Да простит тебе Бог". Вместо этого, теперь мы узнаем, что самоубийца "мгновения последние тратит, чтобы славить тебя. Гляди..." и т.д. Откровенно говоря, это - бессмыслица. Ведь герой кончает с собой от несчастной любви. Этим он ее возвысил, пропев прощальный гимн в честь ее красоты. Неясный образ убивает впечатление от многозначительного образа "порога".
О причинах перемен в одном из отступлений Анна Андреевна мне ничего не говорила, но так и чувствуется, что кому-то из доморощенных критиков не понравилась "грубость" динамичных, экспрессивных строк:
Может быть, мне было б приятно
Вмять тебя в полотно обратно,
Если бы не такая ночь,
Когда нужно платить по счёту...
И вместо них появилось аморфное и сусальное -
На щеках твоих алые пятна
Шла бы ты в полотно обратно;
Ведь сегодня такая ночь,
Когда нужно платить по счёту...
Опять бессмыслица: выходит, что эта чахоточная героиня ("на щеках твоих алые пятна") постоянно сбегала с портрета, и обеим собеседницам, и автору, и героине - это всегда сходило с рук, но вот в сегодняшнюю исключительную ночь надо сидеть смирно. Таким образом, это отступление приобрело смысл, прямо противоположный заданному первоначально.
И, наконец, уничтожена драматургически необходимая пауза между заключительной строфой первой части ("Это я - твоя старая совесть") и описанием самоубийства влюбленного корнета ("...Да простит тебе Бог"). Вместо нее появилось досадное средостение в виде резонерской строфы, якобы разъясняющей историческое и социальное значение описанной личной драмы:
Сколько гибелей шло к поэту!
Глупый мальчик, он выбрал эту -
Первых он не стерпел обид,
Он не знал - на каком пороге
(*145)Он стоит и какой дороги
Перед ним откроется вид.
Не хочется уточнять, но думаю, что перед бедным корнетом, останься он в живых в 1913 году, открылся бы вид одной из самых печальных российских дорог - на Воркуту. Поэтому новые строки ничего не разъясняют, но убивают ритмическую композицию всей вещи. Я уже упоминала где-то, какую сильную реакцию вызывала у меня заключительная строфа "Петербургской повести" после этой великолепной паузы. Поэтому я была не в силах скрыть от Анны Андреевны, как меня огорчило это добавление пятьдесят пятого года. Она отнеслась к моему замечанию внимательно, но задумчиво возразила, что эта строфа ("Сколько гибелей шло к поэту") была всегда, с самого начала создания "Поэмы...", и только потом была снята в варианте 1945 года. Но вот мы познакомились текстуально с ксерокопиями трех экземпляров раннего ташкентского варианта 1942 года - там нет этой строфы.
И опять тут же назревает нетворческое решение неожиданно возникшей проблемы. В чем же она?
Ахматова считала, что новая поэма должна иметь свою новую форму. И как пример приводила неудачу "Возмездия" Блока из-за того, что он писал ее пушкинским стихом. Свою "Поэму..." она считала написанной новой формой, что делало это произведение образцом поэзии ХХ века. Между тем, молодые литературоведы во главе с опытным филологом В. Н. Топоровым доказывали, что новой, "ахматовской", строфы в "Поэме без героя" нет, что до нее такую строфу изобрел и воплотил в своей книге "Форель разбивает лед" поэт Михаил Алексеевич Кузмин. Происхождение строфы для авторов этой публикации было настолько очевидно, что они приводили текстуальные совпадения ("Если бы не такая ночь, когда нужно платить по счету" - у Кузмина) и повторения Ахматовой.
Это открытие было пережито Анной Андреевной как удар, и она стала менять строфу в своей "Поэме..." Этим она лишила ткань произведения всякой динамики. На мой взгляд, все новейшие изменения были напрасными, потому что метр Кузмина, бессознательно воспроизведенный Ахматовой в первой редакции, отличается от ее творчества интонационно.
Мы находим только один случай метрического совпадения: во "Втором ударе" Кузмина. И даже внешне это нельзя назвать полным совпадением, поскольку автор "Форели" не рифмует третьи строки своих шестистиший3. И чтобы уж совсем "не походить" на Кузмина, Анна Андреевна начала переписывать "Поэму...", насильственно внедряя четвертую строку в свои трехстишья.
Некоторые филологи продолжают изучать последние редакции "Поэмы без героя", игнорируя самые разительные факты полувековой творческой работы Ахматовой. При стремлении Анны Андреевны к циклизации своего поэтического творчества, при принципиальном отказе от проникновения реального быта в свои литературные создания она осталась к концу жизни с ворохом неиспользованных неупорядоченных строк. И в сущности, она не знала, что с ними делать, не имея возможности подарить их новым читателям в обработанной форме.
Неудачу всех последующих редакций поэмы замечали только знатоки или помнящие начальный период ее блистательного творчества. Такие ее друзья и почитатели, как Иосиф Бродский, как новейшие теоретики филологической науки, как влюбленные в современную поэзию высококвалифицированные переводчики русской поэзии, робко замечали о загроможденности последних редакций "Поэмы..." и о явных дефектах композиции. Им неловко было об этом говорить, потому что ни у кого так не разрушали процесс поэтического творчества, как у Ахматовой в течение полувека ее непрекращающейся литературной деятельности.
Говоря об основном принципе поэтической работы Ахматовой, можно было бы привести множество примеров, но мы остановимся лишь на некоторых, самых разительных.
Кто не помнит строк из знаменитого стихотворения Ахматовой на смерть Блока "А Смоленская нынче именинница..." - "И струится пенье панихидное Не печальное нынче, а светлое" с его заключительными строками:
(*146)Принесли мы Смоленской Заступнице,
Принесли Пресвятой Богородице
На руках во гробе серебряном
Наше солнце, в муке погасшее, -
Александра, лебедя чистого.
Из чего это возникло? Вот запись Ахматовой об этом дне в ее записной книжке: "...Мы пошли к Ремизовым передать рукописные книги Скалдина (Ольга и я). Не достучались. Через несколько часов там уже была засада - они накануне бежали за границу. На обратном пути во дворе Фонтанки, 18 встретили Тамару Персиц. Она плакала - умер Блок.
В гробу лежал человек, которого я никогда не видела. Мне сказали, что это Блок. Над ним стоял солдат - старик седой, лысый с безумными глазами. Я спросила: "Кто это?" - "Андрей Белый". Панихида. Ершовы (соседи) рассказывали, что он от боли кричал так, что прохожие останавливались под окнами.
Хоронил его весь город, весь тогдашний Петербург или вернее то, что от него осталось".
Не странно ли, что я до сих пор не замечала коренного признака поэтики Анны Ахматовой? Только теперь, как уже говорилось, мне открывается смысл отзыва Мандельштама о творчестве Марселя Пруста - "пафос памяти".
Сколько раз Анна Андреевна сама применяла такую же характеристику к своему творчеству. Но мы не вняли ее признаниям. Мы предпочитали выяснять, кто же был главным героем любовной лирики Ахматовой? Пунин или Артур Лурье, Анреп или Недоброво, Модильяни или сэр Исайя Берлин, наконец, чем черт не шутит, Павел Лукницкий или Анатолий Найман? А некоторые "прозорливцы" намекают еще и на балерин - Судейкину и Вечеслову. Правда, в "Четках" было сказано: "Я любила ее одну", - но эта одна - вечная, постоянная собеседница поэта и в молодости, и в старости, "Как белое знамя... Как свет маяка..." Это Муза ее - разлучница и утешительница.
Иногда она ведет автора вперед, в другой раз - покидает, отнимая "божий подарок", и тогда мы слышим сетования: "Скажи, скажи, зачем угасла память И так томительно лаская слух, Ты отняла блаженство повторенья?.."
Примеры такого припоминания во множестве рассыпаны в собрании стихотворений Ахматовой. "Повалилась на кровать В сотый раз припоминать, Как за ужином сидела, В очи темные глядела..."; "Там строгая память, такая скупая теперь, Свои терема мне открыла с глубоким поклоном..." Память о счастье, подчас, поэту дороже самого счастья: "Чтоб вечно жили дивные печали, Ты превращен в мои воспоминанья..."
Мы так накормлены рассказами об остроумии Ахматовой, о ее позах, жестах, афоризмах, светских репликах, что недоумеваем: когда же она сочиняла стихи? В бессонные ночи, которые она никогда не описывает, и во время постоянных прогулок, о которых так много сказано в ее стихах и которые сопровождали ее всю жизнь: "Иду по тропинке в поле Вдоль серых сложенных бревен..." (1912); "У наизусть затверженных прогулок Соленый привкус - тоже не беда..." (1941); "Иду между черных приземистых елок, Где вереск на ветер похож, И светится месяца тусклый осколок, Как финский зазубренный нож..." (1956); "И долго перед вечером бродить, Чтоб утомить ненужную тревогу..." (1912).
В пору, когда Осип Эмильевич вплотную занимался критической деятельностью, он выдвинул тезис о зависимости поэзии Ахматовой от психологической прозы XIX века. Но сама Ахматова отказывалась от этой преемственной линии. Ей хотелось раскрыть тайный смысл своих последних стихов, непонятных неподготовленному читателю. Таковой оказалась даже Лидия Корнеевна Чуковская, хотевшая выяснить, о ком идет речь в стихотворении "В Зазеркалье". Оно открывается строками: "Красотка очень молода, но не из нашего столетья. Вдвоем нам не бывать - та, третья, Нас не оставит никогда..." Дальнейшие строки, важные для понимания всего цикла, раскрывают инкогнито этой красотки. Но придирчивую подругу Анны Андреевны такое положение не удовлетворяет, и Ахматова решает раскрыть свой замысел, умело запрятанный в разбросанных деталях: "Это не женщина, а то состояние, в котором они находятся" (запись Чуковской от 17 октября 1963 года).
Это и есть то внутреннее состояние, которое так часто лежит в основе лирики Ахматовой. Углубление в эту тему требует дальнейших исследований, и я надеюсь, они появятся в специальных работах XXI века.
Ссылки:
1
Бывают тягостные ночи;
Без сна я горят и плачут очи,
На сердце - жадная тоска.
Дрожа, холодная рука
Подушку жаркую объемлет,
Невольный страх власы подъемлет,
Болезненный безумный крик
Из груди рвется - и язык
Лепечет громко, без сознанья
Давно забытые названья,
Давно забытые черты.
В сиянье прежней красоты
Рисует память своевольно
В очах любовь, в устах обман.
И веришь снова им невольно,
И как-то весело и больно
Тревожить язвы старых ран -
Тогда пишу.
2
А сейчас бы домой скорее
Камероновой галереей
В ледяной таинственный сад,
Где безмолвствуют водопады,
Где все девять мне будут рады,
Как бывал ты когда-то рад.
Там за островом, там за садом
Разме мы не встретимся взглядом
Не глядевших на казнь очей?
Разве ты мне не скажешь снова
Победившее
смерть
слово
И разгадку жизни моей.
3 Этим наблюдением я обязана Сергею Александровичу Надееву, хорошо знающему кузминскую книгу "Форель разбивает лед".
К. И. ЧУКОВСКИЙ
Ахматова и Маяковский
Публикуется по книге: Хрестоматия критических материалов. Русская литература рубежа XIX - XX веков. М.: Айрис Пресс, Рольф, 1999. Электронная версия подготовлена А.В. Волковой - www.slovesnik.ru
Читая "Белую стаю" Ахматовой, - вторую книгу ее стихов, - я думал: уж не постриглась ли Ахматова в монахини?
У первой книги было только название монашеское: "Четки", а вторая вся до последней страницы пропитана монастырской эстетикой. В облике Ахматовой означилась какая-то жесткая строгость, и, по ее же словам, губы у нее стали "надменные", глаза "пророческие", руки "восковые", "сухие". Я как вижу черный клобук над ее пророческим ликом.
И давно мои уста
Не целуют, а пророчат, -
говорит она своему прежнему милому, напоминая ему о грехе и о Боге. Бог теперь у нее на устах постоянно. В России давно уже не было поэта, который поминал бы имя Господне так часто...
Вся природа у нее оцерковленная. Даже озеро кажется ей похожим на церковь:
И озеро глубокое синело -
Крестителя нерукотворный храм.
Даже в описание зимы она вносит чисто церковные образы: зима, по ее выражению, "белее сводов Смольного собора".
У всякого другого поэта эти метафоры показались бы манерной претензией, но у Ахматовой они до того гармонируют со всем ее монашеским обликом, что выходят живыми и подлинными.
Изображая петербургскую осень, она говорит:
...воздух был совсем не наш,
А как подарок Божий - так чудесен, -
и нет, кажется, такого предмета, которому она не придала бы эпитета: "Божий". (*65) И солнце у нее "Божье", и мир "Божий", и щедрость "Божья", и воинство "Божье", и птицы "Божьи", и даже сирень "Божья". Церковные лица, дела и предметы все чаще появляются у нее на страницах: крестик, крест, икона, образок, литургия, Библия, епитрахиль, крестный ход, престол, солея, Магдалина, плащаница, апостол, святая Евдокия, царь Давид, серафимы, архангелы, ангелы, исповедь, страстная неделя, вербная суббота, Духов день - это теперь у нее постоянно.
Не то чтобы она стала клерикальным поэтом, поющим исключительно о церкви. Нет, о церкви у нее почти ни слова, она всегда говорит о другом, но, говоря о другом, пользуется при всякой возможности крестиками, плащаницами, Библиями. Изображая, например, свою предвесеннюю, предпасхальную радость, она говорит:
А в Библии красный кленовый лист
Заложен на Песни Песней.
Изображая свою печаль, говорит:
Во мне печаль, которой царь Давид
По-царски одарил тысячелетья.
Церковные имена и предметы почти никогда не служат ей главными темами, она лишь мимоходом упоминает о них, но они так пропитали всю ее духовную жизнь, что при их посредстве она лирически выражает самые разнообразные чувства. Церковное служит ей и для описания природы, и для любовных стихов. Любовные стихи в этой книге не часты, но все же они еще не совсем прекратились; в них та же монастырская окраска...
"Белую стаю" характеризует именно отрешенность от мира: "по-новому, спокойно и сурово, живу на диком берегу". В этой книге какая-то посмертная умудренность и тихость преодолевшей земное, отстрадавшей души. Уйдя от прежней "легкости", которую Ахматова называет теперь проклятой, от легкости мыслей и чувств, она точно вся опрозрачнела, превратилась в икону, и часто кажется, что она написана Нестеровым (только более углубленным и вещим), изнеможенная, с огромными глазами, с язвами на руках и ногах, -
Уже привыкшая к высоким, чистым звонам,
Уже судимая не по земным законам...
Вообще ее православие нестеровское: не византийское, удушливо-жирное, а северное, грустное, скудное, сродни болотцам и хилому ельнику. Она последний и единственный поэт православия. Есть в ней что-то старорусское, древнее. Легко представить себе новгородскую женщину XVI или XVII века, которая так же озарила бы всю свою жизнь церковно-православной эстетикой и (*66) смешивала бы поцелуи с акафистами1. Ничего, что Ахматова иногда говорит о Париже, об автомобилях и литературных кафе, это лишь сильнее оттеняет ее подлинную старорусскую душу. В последнее время она говорит обо всем этом как о давно прошедшем видении; так отрекшиеся от мира говорят о своей жизни в миру:
Да, я любила их, те сборища ночные, -
На маленьком столе стаканы ледяные.
Любила, но уже не любит и скоро забудет совсем. Теперь ее высшая услада - молитва. Странно, что никто до сих пор не заметил, как часто ее стихи стали превращаться в молитвы. "И жниц ликующую рать благослови, о Боже!" - молится она в одном стихотворении, а в другом она молится, чтобы Господь уничтожил ее бесславную славу, а в третьем - "чтобы туча над темной Россией стала облаком в славе лучей", а в четвертом - "Господи Боже, прими раба твоего"...
II
Повторяю, если бы в своих книгах она ни разу не помянула о Боге, мы и тогда догадались бы, что она глубоко религиозный поэт. Эта религиозность сказывается не в одних словах, но во всем.
Едва в самых ранних стихах у нее написалось:
Слава тебе, безысходная боль, -
мы поняли, что это прославление боли тоже не случайная черта в ее творчестве. Она не была бы христианнейшим лириком, если бы не славила боль. Вечный русский соблазн самоумаления, смирения, страдальчества, кротости, бедности, манивший Тютчева, Толстого, Достоевского, обаятелен и для нее. В этом она заодно с величайшими выразителями старорусской души. Когда в одном стихотворении ей сказали, что она будет больна, бесприютна, несчастна, она возрадовалась и запела веселую песню:
Верно, слышал святитель из кельи,
Как я пела обратной дорогой
О моем несказанном весельи,
И дивяся, и радуясь много, -
радуясь своей будущей скорби. Счастье и слава человеческие не прельщают ее. Она знает, что "от счастья и славы безнадежно дряхлеют сердца".
(*67) Такое христианское, евангельское, аскетическое настройство души заранее предуказывало ее будущий путь. Уже из ее первой книги было видно, что она поэт сиротства и вдовства, что ее лирика питается чувством необладания, разлуки, утраты. Безголосый соловей, у которого отнята песня; и танцовщица, которую покинул любимый; и женщина, теряющая сына; и та, у которой умер сероглазый король; и та, у которой умер царевич -
Он никогда не придет за мною...
Умер сегодня мой царевич, -
и та, которой сказано в стихах: "вестей от него не получишь больше", и та, которая не может найти дорогой для нее белый дом, хотя ищет его всюду и знает, что он где-то здесь, - все это осиротелые души, теряющие самое милое, и, полюбив эти осиротевшие души, полюбив лирически переживать их сиротские потери, как свои, Ахматова именно из этих сиротских потерь создала свои лучшие песни:
Одной надеждой меньше стало,
Одною песней больше будет.
Эти песни так у нее и зовутся: "песенка о вечере разлук", "песня последней встречи", "песнь прощальной боли".
Быть сирой и слабой, не иметь ни сына, ни любовника, ни белого дома, ни Музы (ибо "Муза ушла по дороге"), такова художественная прихоть Ахматовой. Из всех мук сиротства она особенно облюбовала одну: муку безнадежной любви. Я люблю, но меня не любят; меня любят, но я не люблю -это была главная ее специальность. В этой области с нею еще не сравнялся никто. У нее был величайший талант чувствовать себя разлюбленной, нелюбимой, нежеланной, отверженной. Первые же стихи в ее "Четках" повествовали об этой унизительной боли. Тут новая небывалая тема, внесенная ею в нашу поэзию.
Она первая обнаружила, что быть нелюбимой поэтично, и, полюбив говорить от лица нелюбимых, создала целую вереницу страдающих, почернелых от неразделенной любви, смертельно тоскующих, которые то "бродят как потерянные", то заболевают от горя, то вешаются, то бросаются в воду. Порою они проклинают любимых, как своих врагов и мучителей:
...Ты наглый и злой...
...О, как ты красив, проклятый...
...Ты виновник моего недуга... -
Но все же любят свою боль, упиваются ею, носят ее в себе, как святыню, набожно благословляют ее.
III
Кроме дара музыкально-лирического, у Ахматовой редкостный дар беллетриста. Ее стихи не только песни, но и повести. Возьмите рассказ Мопассана, сожмите его до предельной сгущенности, и вы получите стихотворение Ахматовой. Ее стихи о канатной плясунье, которую покинул любовник, о женщине, бросившейся в замерзающий пруд, о студенте, повесившемся от безнадежной любви, о рыбаке, в которого влюблена продавщица камсы, - все это новеллы Мопассана2, сгущенные в тысячу раз и каким-то чудом преображенные в песню. Я уже говорил, что ее творчество вещное, доверху наполнено вещами. Ее вещи - самые обыкновенные, не аллегории, не символы: юбка, муфта, устрицы, зонтик. Но эти мелкие обыкновенные вещи становятся у нее незабвенными, потому что она властно подчинила их лирике. Что такое, например, перчатка? - а между тем вся Россия запомнила ту перчатку, о которой говорит у Ахматовой отвергнутая женщина, уходя от того, кто оттолкнул ее:
Так беспомощно грудь холодела,
Но шаги мои были легки.
Я на правую руку надела
Перчатку с левой руки.
Замечательно, что среди вещей, изображенных Ахматовой, много построек и статуй. Архитектура и скульптура ей сродни. Часто она сама не столько поет, сколько строит. Многие ее стихотворения -здания...
Есть у Ахматовой нечто такое, что даже выше ее дарования. Это неумолимый аскетический вкус. Пишет она осторожно и скупо, медлительно взвешивая каждое слово, добиваясь той непростой простоты, которая доступна лишь большим мастерам; рядом с нею другие поэты кажутся напыщенными риторами. Я не знаю никого, кто был бы сильнее ее в композиции. Труднейшие задачи сочетания повести с лирикой блистательно разрешены в ее стихах. Ее ритмы многообразны и сложны. О ее пиррихиях и анакрузах можно бы написать статью. Пэонами она умеет пользоваться, как никто, кроме Блока: "затоптанные поля", "степь трогательно зелена", "а смертельные для меня", "на требовательное люблю", "отравительницы любви". Эта затрудненная дикция придает особенное значение словам. Ритмическое дыхание было сперва у нее очень короткое, его хватало лишь на две строки. Теперь она владеет им, как хочет. Прежде ее стихи были чуть-чуть мозаичны, склеены из нескольких кусков. Теперь она преодолела и это...
Какая нужна обостренная чуткость ко всему микроскопически малому, чтобы еле заметное прикосновение руки приобрело столь великую роль! В эротике Ахматовой почти отсутствуют неистовые поцелуи и объятия, все свелось этому еле заметному:
Он снова тронул мои колени
Почти не дрогнувшей рукой.
(*69) Вся поэзия Анны Ахматовой есть поэзия еле заметного, еле слышного, едва уловимого. Кто из других поэтов стал бы писать о своей еле заметной улыбке:
У меня есть улыбка одна:
Так, движенье чуть видное губ.
А она посвятила этому чуть видному движению губ одно из лучших своих восьмистиший. Слова "еле слышный", "чуть слышный", "чуть видный" - суть ее любимые слова.
"Еле слышен тихий разговор", "И голос Музы еще слышный", "И столетие мы лелеем еле слышный шелест шагов"...
Тихие, еле слышные звуки имеют для нее неизреченную сладость. Главное очарование ее лирики не в том, что сказано, а в том, что не сказано. Она мастер умолчаний, намеков, многозначительных пауз. Ее умолчания говорят больше слов. Для изображения всякого, даже огромного чувства она пользуется мельчайшими, почти незаметными, микроскопически малыми образами, которые приобретают у нее на страницах необыкновенную суггестивную3 силу. Читая у нее, например, о какой-то девушке, в косах которой таится "чуть слышный запах табака", мы, по этой еле заметной черте, догадываемся, что девушку целовал нелюбимый, оставивший у нее в волосах табачный запах своих поцелуев, что этот запах вызывает у нее гадливое чувство, что она поругана и безысходно несчастна. Так многоговорящи у Анны Ахматовой еле заметные звуки и запахи.
Ничего кричащего она не выносит. Слово тихий у нее всегда похвала. О возлюбленном у нее говорят:
Тихий, тихий и ласки не просит...
"Тихий сад", "дыханье тихой земли", "тихий день апреля", "ты, тихая, сияешь надо мной" - это у нее на каждом шагу...
И вдруг "в предвечерний тихий час", в эту монастырскую тихость, где "тихо плывут года", где "голос молящего тих", врывается непозволительный, пугающий визг - какие-то грохоты, топоты, вопли:
На улицу тащите рояли!
барабан из окна багром!
Барабан,
рояль раскроя ли,
но чтоб грохот был,
чтобы гром.
(*70) Это ворвался Маяковский, а вместе с ним и гром, и погром:
Орите в ружья!
В пушки басите!
Мы сами себе и Христос и Спаситель!..
Трудно представить себе двух человек, столь непохожих один на другого, как Ахматова и Маяковский. Ахматова вся в тишине, в еле сказанных, еле слышных словах, Маяковский орет, как тысячеголосая площадь. "Сердце - наш барабан", - заявляет он сам, и откройте любую его страницу, вы убедитесь, что это действительно так. Он не только не способен к тишине, он не способен ни к какому разговору. Вечно кричит и неистовствует.
Ахматова благочестивая молитвенница: при каждом слове у нее ангелы, Богородица, Бог. А Маяковский не может пройти мимо Бога, чтобы не кинуться на него с сапожным ножом:
Я тебя, пропахшего ладаном,
раскрою отсюда до Аляски...
Конечно, легко сказать о нем: богохул, скандалист, - но попробуем его полюбить. Вначале это трудно, но попробуем. Особенно трудно тому, кто подобно мне, так благодарно любит поэзию Ахматовой. Уж очень различины эти два человека. Даже странно, что они живут в одну эпоху и ходят по одной земле. В сущности, они два полюса русской поэзии, и никогда еще в русской поэзии не было столь противоположных явлений. Как будто они на разных планетах, отделенные друг от друга веками. Но попробуем полюбить их обоих. Всмотримся в Маяковского, безо всяких пристрастий - внимательно и добросовестно.
IV
Мы только что видели, что Ахматова поэт микроскопических малостей. Чуть слышное, чуть видное, еле заметное - вот материал ее творчества. Похоже, что и вправду она смотрит на мир в микроскоп и видит недоступное нашему глаз. У нее повышенная зоркость к пылинкам.
А Маяковский - поэт-гигантист. Нет такой пылинки, которой он не превратил в Арарат. В своих стихах он оперирует такими громадностями, которые и не мерещились нашим поэтам. Похоже, что он вечно глядит в телескоп. Даже слова он выбирает максимальные: разговорище, волнище, котелище, адище, шеища, шажище, Вавилонище, хвостище.
- Дайте мне, дайте стоверстый язычище, - требует в его пьесе один персонаж, и, кажется, сам Маяковский уже обладает таким язычищем. Все доведено у него до последней чрезмерности, и слова "тысяча", "миллион", "миллиард" (*71) у него самые обыкновенные слова. Если, например, Наполеон прошел по одному-единственному Аркольскому мосту, то Маяковский (по его словам) - прошел "тысячу Аркольских мостов". Если Наполеон посетил пирамиды, то в сердце Маяковского (по его словам) -
есть тысяча тысяч пирамид!..
Такой у него гиперболический стиль. Каждое его стихотворение есть огромная коллекция гипербол, без которых он не может обойтись ни минуты. Другие поэты сказали бы, что у них в сердце огонь: у него же, по его уверениям, в сердце грандиозный пожар, который он не может потушить сорокаведерными бочками слез (так и сказано - бочками слез), - и вот к нему прискакали пожарные и стали заливать его сердце, но поздно: у него уже загорелось лицо, воспламенился рот, раскололся череп, обуглились и рухнули ребра.
Этот пожар произошел от любви. Такова любовь у Маяковского. Пусть Ахматова, изображая любовь, описывает легкие прикосновения руки и чуть заметные движения губ, - Маяковскому нужно стоглазое зарево, стоверстный пожар.
И возможно ли, например, чтобы при таком гигантизме он прямо сказал, что у него, как у всякого другого, взволнованы нервы? Нет, он должен сказать, что его нервы попрыгали на пол и заплясали на полу так отчаянно, что в нижнем этаже посыпалась с потолка штукатурка...
Здесь рядом с гиперболизмом мы видим другой прием: конкретизацию всего отвлеченного. Пожар сердца из метафизического становится настоящим пожаром, таким, для которого существуют пожарные кишки и брандмейстеры. Иносказательно танцующие нервы становятся заправскими танцорами. Этот прием у Маяковского весьма любопытен, но теперь мы говорим о гигантизме. Откуда у Маяковского это жадное стремление к огромности? Почему даже самого себя он изображает многосаженным титаном, перед которым остальная двуногая тварь - мелкота? Как будто и на себя он глядит в телескоп. В его стихах мы постоянно читаем, что он Дон Кихот, Голиаф и что такое рядом с ним Наполеон?
- На цепочке Наполеона поведу, как мопса.
И в соответствии с этим такие же грандиозные жесты:
-Эй, вы! Небо! Снимите шляпу! Я иду... Тебе (солнце) я бросаю вызов...
Найдутся охотники смеяться над этим, но мы попробуем это понять. Наша эпоха революций и войн приучила нас к таким огромным цифрам, что было бы странно, если бы поэты, отражающие нашу эпоху, не восприняли и не ввели в обиход тех тысяч, миллионов, миллиардов, которыми ныне явственно орудует жизнь. Со всех концов на арену истории, вызванные войною, вышли такие несметные полчища людей, вещей, событий, слов, денег, смертей, биографий, что понадобилась новая, совсем другая арифметика, небывалые доселе масштабы. Не потому ли Маяковский поэт грандиозностей, что он так органически чует мировую толпу, чует эти тысячи народов, закопошившиеся на нашей планете, (*72) пишет о них постоянно, постоянно обращается к ним, ни на минуту не забывает о их бытии...
V
Но в чем же существо его творчества?
Он поэт катастроф и конвульсий. Все слова у него сногсшибательные. Чтобы создать поэму, ему нужно сойти с ума. Лишь горячечные и сумасшедшие образы имеют доступ к нему на страницы. Мозг у него "воспаленный", слова - "исступленные", его лицо страшнее "святотатств, убийств и боен". Так говорит он сам. Стоит ему выйти на улицу, улица проваливается, как нос сифилитика, и по улицам скачет обалделый собор, и обезумевший Бог выскакивает из церковной иконы и мчится по уличной слякоти, и шестиэтажные гиганты дома кидаются в бешеный пляс:
Шестиэтажными фавнами ринулись в пляски
публичный дом за публичным домом...
Маяковский поэт движения, динамики, вихря. Для него с 1910 года, с самых первых его стихов, все куда-то несется и скачет. Эта скачка массивных вещей - излюбленный прием у Маяковского. Все его образы стремятся к высшей моторности, к акции. Он положительно не способен изобразить что-нибудь устойчивое, спокойное, тихое...
Как будто специально для него началась война, а потом революция. Без войны и революции ему было никак невозможно. Как же быть поэту катастроф - без катастроф? Весь его литературный организм приспособлен искльючительно для этих сюжетов: как в тифе каждый дюйм - ловец и охотник, а в дождевом черве - землеед, так и в Маяковском нет ни единого свойства, ни одной самомалейшей черты, которые не создали бы из него поэта революций и войн. Именно для этих сюжетов нужен тот гиперболический стиль, тот гигантизм, то тяготение к огромности, которые органически присущи ему. Для таких широких событий, творимых многомиллионными толпами, нужен и масштаб миллионный.
Во-вторых, как мы видели, он поэт грома и грохота, всяческих ревов и визгов, не способный ни к какой тишине. Это тоже в нем черта необходимая. Нельзя же делать революцию шепотом. В нем уже загодя, за несколько лет, были революционные крики, и характерно, что почти на каждой странице у него вырьируются те нечеловеческие нечленораздельные стихийные звуки, которыми так богага революционная улица:
- О-о-о! O-ro-го! И И И И И! У У У У У! А А А А А! Эйе! Эйе!
В-третьих, как мы только что видели, он поэт вихревого движения, катастрофического сотрясения вещей. Это качество в нем тоже нужнейшее. Что делать без этих движений поэту наших катастрофических дней?
(*73) Словом, весь он с ног до головы как бы специально изготовлен природой для воспевания войны и революции.
VI
Ахматова в своих стихах не декламирует. Она просто говорит, еле слышно, безо всяких жестов и поз. Или молится - почти про себя. В той лучезарно-ясной атмосфере, которую создают ее книги, всякая декламация показалась бы неестественной фальшью. Признаюсь, что меня больно укололи два ее александрийские стиха, столь чуждые всему ее творчеству:
Так мертвый говорит, убийцы сон тревожа,
Так ангел смерти ждет у рокового ложа.
Мне показалось, что Ахматова изменила себе, что эти парижские интонации и жесты она, в своем тверском уединении, могла бы предоставить другим.
Я потому заговорил об этих строках, что они у нее исключение. Вообще же ее книгу нужно читать уединенно и тихо: от публичности она много теряет. А в Маяковском каждый вершок - декламатор. Всякое его стихотворение для эстрады. У прежних писателей были читатели, а Маяковский, когда сочиняет стихи, воображает себя перед огромными толпами слушателей. По самому своему складу его стихи суть взывания к толпе...
Маяковский бессознательно - каждой своей строкой - служит этой новой эстетике - уличной:
Улицы - наши кисти,
Площади - наши палитры.
Про свою книгу он пишет, что она напечатана:
ротационкой шагов в булыжном верже4 площадей.
Недаром он играет ноктюрны на водосточной трубе. Он сам говорит, что до его появления улица была безъязыкой, что ей было нечем кричать и разговаривать, что только два слова жило в ней, жирея: "сволочь" и еще какое-то, кажется,- "борщ". Эта уличность сказалась раньше всего в его ритмике. Его стихи, за исключением очень немногих, зиждутся не на тех формальных метрических схемах, которые так чужды современному уху, а на уличных, живых, разговорных. Он создал свои собственные ритмы, те самые, которые мы слышим на (*74) рынке, в трамвае, на митинге, ритмы криков, разговоров, речей, перебранок, агитаторских призывов, ругательств...
Эти уличные разговорные ритмы так же правомочны в поэзии, как и всякие другие, зарегистрированные в учебных руководствах. Многие поэты аристократически гнушаются ими, как в XVIII веке гнушались самобытными ритмами простонародных песен и былин, именуя их подлыми, не допуская их в свою парадную словесность. Маяковский же именно тем и хорош, что он безбоязненно воспроизводит в стихах эти уличные, хлесткие, энергические, вульгарные ритмы, созданные митинговыми речами, выкриками газетчиков, возгласами драк и скандалов...
Многих отталкивает язык Маяковского, те часто неуклюжие неологизмы, которые он в таком количестве вводит в свою поэтическую речь. И действительно, вначале, пока не привыкнешь, его стихотворения почти непонятны, как будто написаны на чужом языке. А если и понятны, то коробят. Ну что такое значит декабрый, имениннить, любеночек, косноязычь, хлебиться, испешеходить, разнебеситься, омиллионить, нудить, талмудить, обезночить? Можно ли так свирепо калечить наш патриархальный язык? Я уже доказывал, что можно. В своей давнишней статье о футуристах я говорил, что это неизбежный закон, что наш язык при всех своих великих достоинствах есть все еще язык деревенский, лесной, степной, медленный, протяжный, ленивый, сильно отставший от того темпа, которым живут города5. Я предсказал тогда, на основании наблюдений над эволюцией английских и американских слов, то неизбежное убыстрение речи, которое впоследствии принесла революция, давшая нам такие слова, как совнархоз, райлеском, домкомбед. Все мои предсказания сбылись, и поэтому я позволю себе с большей уверенностью сказать, что слова иудить, июлить, миллионить и вихрить, равно как и северянинские - окалошить, опроборить, осупружиться, омолнить, вскоре станут полноправны и законны, ибо производство глаголов от имен существительных есть насущная потребность нашей речи, с каждым днем ощущаемая все более настойчиво...
Все эти формы имеют одну цель - экономию художественных средств, достижение максимальной выразительности при минимуме словесных усилий...
К такой же экономии речи Маяковский стремится и в постройке отдельных фраз. Он хочет синтаксически уплотнить свою фразу, выбрасывая предлоги, глаголы и проч. Порою это хорошо, порою плохо, но святотатственного здесь ничего нет. Думаю, что время оправдает и это. С нас же довольно и того, что Ахматова, свято соблюдая классические традиции русского слова, лучше отсечет себе правую руку, чем вступит на этот рискованный путь. Ей не нужно ни иудить, ни павлиниться, чтобы создавать прекрасные стихи. С нее достаточно и существующих слов.
(*74)
VII
Что хорошо у Маяковского, это те колкие и меткие метафоры, которые в таком огромном количестве рассыпаны у него по страницам. От них действительно пышет задорной веселостью улицы, хлесткостью базара, бравой находчивостью площадной перебранки.
В своих сравнениях Маяковский смел и удачлив. Помню, мне очень понравилось, когда я прочитал у него...
Спокоен, как пульс у покойника. - Упал двенадцатый час, как с плахи голова казненного. - Ночь черная, как Азеф. - С неба смотрела какая-то дрянь величественно, как Лев Толстой. - Камни острые, как глаза ораторов. - Чиновница... губы спокойно перелистывает, как кухарка страницы поваренной книги, - и так дальше, и так дальше, и так дальше. К сожалению, нельзя не отметить, что этих как у него слишком много: как, как, как, как. Сперва это нравится, но скоро наскучивает. Нельзя же строить все стихотворения на таких ошеломительных как. Нужны какие-нибудь другие ресурсы. Но в том-то и беда Маяковского, что никаких ресурсов у него порой не случается. Либо ошеломительная гипербола, либо столь же ошеломительная метаформа. Возьмите "Облако в штанах", или поэму "Человек", или поэму "Война и мир", едва ли там отыщется страница, свободная от этих фигур. Порою кажется, что стихи Маяковского, несмотря на буйную пестроту его образов, отражают в себе бедный и однообразный узорчик бедного и однообразного мышления, вечно один и тот же, повторяющийся, словно завиток на обоях. Убожество литературных приемов не свидетельствует ли о психологическом убожестве автора, за элементарностью стиля не скрывается ли элементарность души?
Если прибавить к этому, что почти каждое стихотворение Маяковского построено с тем расчетом, чтобы главный эффект сосредоточивался в двух последних строках, так что две первые строки всегда приносятся в жертву этим двум последним, - бедность и однообразие его литературных приемов станут еще очевиднее. Для того чтобы усилить вторые пары строк, он систематически обескровливает первые...
Он может не только ошеломлять, но и забавлять и печалить. Его поэма "Сто пятьдесят миллионов", хотя тоже вся с начала до конца зиждется на гиперболах и сногсшибательных образах, но и по основному тону, и по структуре стиха является попыткой уйти от этих форм. "Только перешагнув через себя, выпущу новую книгу", - обещал он в предисловии к своим сочинениям. И вот прежний трагический тон сменился в новой поэме размашистым, благодушным, камаринским, лукаво-простецким:
Город в ней стоит
на одном винте
весь электро-динамо-механический.
В поэме сказалось то, что является скрытой, но неизменной основой всех (*76) самых бурных трагедий Маяковского: смех. Маяковский, как и все эксцентрики, комик. Мы видели, что как бы ни был ошеломителен тот или иной его образ, этот образ раньше всего - карикатурно-забавен. Стихия улицы - каламбур, гротеск и буффонада. И ритм здесь новый, Маяковским не опробованный: частушечный анапест борется с разговорными ритмами, иногда сбиваясь на речитатив раешников. Поэт действительно перешагнул через себя...
IX
Похоже, что вся Россия раскололась теперь на Ахматовых и Маяковских. Между этими людьми тысячелетья. И одни ненавидят других.
Ахматова и Маяковский столь же враждебны друг другу, сколь враждебны эпохи, породившие их. Ахматова есть бережливая наследница всех драгоценнейших дореволюционных богатств русской словесной культуры. У нее множество предков: и Пушкин, и Баратынский, и Анненский. В ней та душевная изысканность и прелесть, которые даются человеку веками культурных традиций. А Маяковский в каждой своей строке, в каждой букве есть порождение нынешней эпохи, в нем ее верования, крики, провалы, экстазы. Предков у него никаких. Он сам предок и если чем и силен, то потомками. За нею многовековое великолепное прошлое. Перед ним многовековое великолепное будущее. У нее издревле сбереженная старорусская вера в Бога. Он, как и подобает революционному барду, богохул и кощунник. Для нее высшая святыня - Россия, родина, "наша земля". Он, как и подобает революционному барду, интернационалист, гражданин всей вселенной, равнодушен к "снеговой уродине", родине, а любит всю созданную нами планету, весь мир. Она - уединенная молчальница, вечно в затворе, в тиши:
Как хорошо в моем затворе тесном.
Он - площадной, митинговый, весь в толпе, сам - толпа. И если Ахматова) знает только местоимение ты, обращенное к возлюбленному, и еще другое ты, обращенное к Богу, то Маяковский непрестанно горланит "эй вы", "вы, которые", "вы, вы, вы...", всеми глотками обращается к многомордым оравам и скопам.
Она, как и подобает наследнице высокой и старой культуры, чутка ко всему еле слышанному, к еле уловимым ощущениям и мыслям. Он видит только грандиозности и множества, глухой ко всякому шепоту, шороху, слепой ко всему нестоверстному.
Во всем у нее пушкинская мера. Ее коробит всякая гипербола. Он без гиперболы не может ни минуты. Каждая его буква гипербола.
Словом, тут не случайное различие двух - плохих или хороших поэтов, тут две мировые стихии, два воплощения грандиозных исторических сил, - пусть каждый по-своему решает, к которому из этих полюсов примкнуть, какой отвергнуть и какой любить.
(*77) Я же могу сказать о себе, что, проверив себя до конца, отдав себе ясный отчет во всех своих литературных и нелитературных симпатиях, я, к своему удивлению, одинаково люблю обоих: и Ахматову и Маяковского, для меня они оба свои. Для меня не существует вопроса: Ахматова или Маяковский? Мне мила и та культурная, тихая, старая Русь, которую воплощает Ахматова, и та плебейская, бурная, площадная, барабанно-бравурная, которую воплощает Маяковский. Для меня эти две стихии не исключают, а дополняют одна другую, они обе необходимы равно.
Мне кажется, настало время синтеза этих обеих стихий. Если из русского прошлого могла возникнуть поэзия Ахматовой, значит, оно живо и сейчас, значит, лучшее, духовнейшее в нем сохранилось для искусства незыблемо. Не все же в маяковщине хаос и тьма. Там есть свои боли, молитвы и правды. Этот синтез давно предуказан историей, и чем скорее он осуществится, тем лучше. Вся Россия стосковалась по нем. Порознь этим стихиям уже не быть, они неудержимо стремятся к слиянию. Далее они могут существовать только слившись, иначе каждая из них неизбежно погибнет.
Примечания:
1 Акафист - церковные песнопения, при исполнении которых молящиеся обязательно должны стоять.
2 Ги дe Мопассан (1850-1893) - французский писатель. Мастер короткого рассказа.
3 От слова "суггестивность" - в поэзии активное воздействие на воображение, эмоции, Подсознание читателя посредством отдаленных тематических, образных, ритмических, звуковых ассоциаций.
4 Верже - сорт бумаги высшего качества с водяными знаками в виде продольных и поперечных линий.
5 Как мне уже случалось доказывать в моих статьях "Техника некрасовской лирики" и "История дактилического окончания", эстетика русской речи требовала до самого недавнего времени сильнейшего удлинения, растяжения слов, что, например, в поэзии Некрасова достигалось при помощи целой системы ласкательных и уменьшительных суффиксов. - К.Ч.