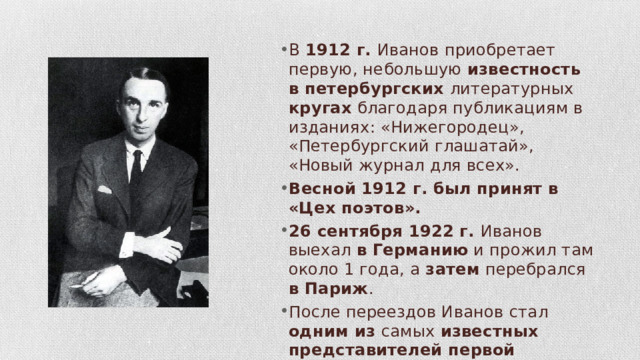Акмеизм как течение Серебряного века русской поэзии
Георгий Владимирович Иванов

Биография
- Родился 29 октября 1894 г. в Ковенской губернии в семье офицера.
- В 1905 г., в возрасте 11 лет Иванов был зачислен в Ярославский кадетский корпус .
- Первая серьезная публикация состоялась в 1910 г. в петербургском еженедельнике «Все новости литературы, искусства, театра, техники и промышленности».
- Большое влияние на него оказывали И. Северянин, Н. Гумилёв, М. Кузмин.
- В декабре 1911 г. вышел его первый сборник под названием «Отплытие на о. Цитеру».
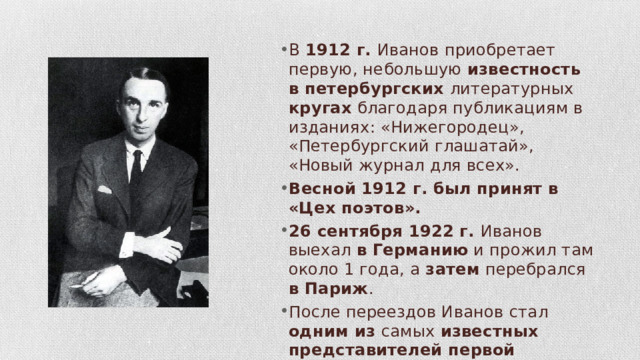
- В 1912 г. Иванов приобретает первую, небольшую известность в петербургских литературных кругах благодаря публикациям в изданиях: «Нижегородец», «Петербургский глашатай», «Новый журнал для всех».
- Весной 1912 г. был принят в «Цех поэтов».
- 26 сентября 1922 г. Иванов выехал в Германию и прожил там около 1 года, а затем перебрался в Париж .
- После переездов Иванов стал одним из самых известных представителей первой эмиграции и сотрудничал со многими журналами как поэт и критик.

Творчество
- Визуальная природа лирики Георгия Иванова намного более для нее важная, чем интеллектуальное начало или подчеркнутая эмоциональность.
- Уже в ранних стихотворениях становится заметным мотив «бессмыслицы земного испытанья».
- Сборник «Розы» доносит типичную для Иванова мысль об эфемерности и ненужности «мировой красоты».
- Его произведения показывают как грубость и примитивизм реальных отношений разрушают последние иллюзии относительно мира как воплощения красоты и добра.

- В стихотворной лирике позднего периода важное место занимает тема омертвения традиционных способов художественного изображения мира.
- Для поэтики последних книг характерно широкое использование метафоры «сна», который становится специфическим припоминанием давно пережитого , когда «прошлое путается, ускользает, меняется».

Оценка творчества
- Вольфганг Казак: «Лирике Иванова свойственна ясность, мысль развивается в полярных противоположениях. Она отмечена возрастающим негативизмом. Часто встречаются у Иванова стихи о поэте и поэзии, художественное обращение к другим поэтам. Сомнение примешивается здесь к стремлению осознать самое существенное в жизни и поэтическом творчестве».
- А. А. Блок: «Автор сам ни в чём не виноват, и я не берусь решить, можно или нельзя издавать книги таких стихов. В пользу издания могу сказать, что книжка Г. Иванова есть памятник нашей страшной эпохи, притом — один из самых ярких, потому что автор — один из самых талантливых среди молодых стихотворцев. Это — книга человека, зарезанного цивилизацией, зарезанного без крови, что ужаснее для меня всех кровавых зрелищ этого века; — проявление злобы, действительно нечеловеческой, с которой никто ничего не поделает, которая нам — возмездие».

«Иду – и думаю о разном…»
Иду – и думаю о разном,
Плету на гроб себе венок,
Что я уже не человек,
И в этом мире безобразном
Благообразно одинок.
А судорога идиота,
Природой созданная зря –
Но слышу вдруг: война, идея,
"Урра!" из пасти патриота,
"Долой!" из глотки бунтаря.
Последний бой, двадцатый век.
И вспоминаю, холодея,
1925 г.

Хорошо, что нет Царя
Хорошо, что нет Царя. Хорошо, что нет России. Хорошо, что Бога нет.
Только желтая заря, Только звезды ледяные, Только миллионы лет.
Хорошо — что никого, Хорошо — что ничего, Так черно и так мертво,
Что мертвее быть не может И чернее не бывать, Что никто нам не поможет И не надо помогать.
1930 г.

Россия счастие
Россия счастие. Россия свет. А, может быть, России вовсе нет.
И над Невой закат не догорал, И Пушкин на снегу не умирал,
Снега, Снега, снега… А ночь темна, И никогда не кончится она.
Россия тишина. Россия прах. А, может быть, Россия — только страх.
И нет ни Петербурга, ни Кремля — Одни снега, снега, поля, поля…
Снега, снега, снега… А ночь долга, И не растают никогда снега.
Веревка, пуля, ледяная тьма И музыка, сводящая с ума.
Веревка, пуля, каторжный рассвет Над тем, чему названья в мире нет.

О, твердость, о, мудрость прекрасная…
О, твердость, о, мудрость прекрасная Родимой страны! Какая уверенность ясная В исходе войны! Не стало ли небо просторнее, Светлей облака? Я знаю: воители горние — За наши войска. Идут с просветленными лицами За родину лечь, — Над ними — небесные рыцари С крылами у плеч. И если устали, ослабли мы, Не видим в ночи, — Скрещаются с вражьими саблями Бесплотных мечи.

Георгий Победоносец
Идущие с песней в бой, Без страха — в свинцовый дождь, Вас Георгий ведет святой, Крылатый и мудрый вождь.
Пылающий меч разит Средь ужаса и огня, И звонок топот копыт Его снегового коня.
Он тоже песню поет, В ней — слава и торжество. И те, кто в битве падет, Услышат песню его.
Услышат в последний час Громовый голос побед. Зрачкам тускнеющих глаз Блеснет немеркнущий свет!