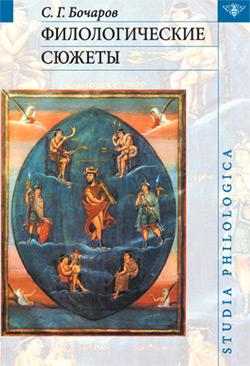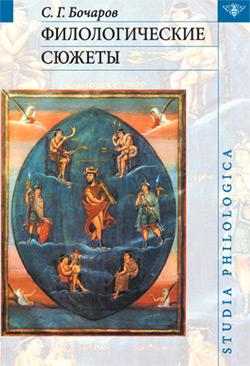
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=180691
«Филологические сюжеты»: Языки славянских культур.; Москва; 2007
ISBN 5‑9551‑0167‑5
Аннотация
Книга служит продолжением предыдущей книги автора – «Сюжеты русской литературы» (1999), и тема её, заявленная в заглавии, формулирует, собственно, ту же задачу с другой стороны, с активной точки зрения филолога. План книги объединяет работы за 40 лет, но наибольшая часть из них написана за последние годы и в прежние книги автора не входила. Тематический спектр широк и пёстр – работы о Пушкине, Гоголе, Достоевском, Боратынском, Тютчеве, Толстом, Леонтьеве, Фете, Чехове, Ходасевиче, Г. Иванове, Прусте, Битове, Петрушевской, а также о «филологах нашего времени» и статьи общетеоретического характера..
От автора
Заглавием книги филолог присвоил себе сюжет, то есть то, что, собственно, принадлежит не ему, а его предмету, литературе. Наша прежняя книга называлась – «Сюжеты русской литературы» (1999). Речь в ней шла о сюжетах не совсем обычных, не вмещающихся в привычный термин поэтики. Речь шла о действиях и событиях, совершавшихся на всем пространстве нашей литературы, в её обширном поле; речь шла о сюжетах большой протяжённости и большого размаха, переходящих от Пушкина к Достоевскому и так далее, в век двадцатый, сюжетах, насквозь просекающих пространство литературы и образующих её ещё мало нами распознанную смысловую сеть. Но для распознания этой сети и вскрытия этих метасюжетов, т. е. для нового скрупулёзно–подробного и по–новому укрупнённого в то же время чтения русской литературы, нужны усилия филолога. Ради такого чтения, нашего национального дела, филолог строит свои филологические сюжеты. Не сюжет произведения, а сюжеты литературы, которые вслед за литературой может построить только филолог, поэтому – филологические сюжеты. Может быть, некоторые статьи в этой книге позволят представить в особенности, что это такое («Холод, стыд и свобода», «О бессмысленная вечность!», «Пустынный сеятель и великий инквизитор»).
Эта книга служит продолжением «Сюжетов русской литературы», формулируя, собственно, ту же задачу с другой стороны, с активной точки зрения филолога. В книге собраны избранные статьи из написанного за сорок лет (с 1965 по 2005), но наибольшая часть их возникла в последние годы и в прежние книги автора не входила. Один из разделов книги назван – «О филологах нашего времени»; «наше время» это время моего поколения, которое было временем интенсивной филологической жизни; автор знал филологов, о которых идёт здесь речь, и к суждениям об их творчестве по существу присоединяются некоторые воспоминания. Состав статей закрывает раздел «откликов» разных лет на прочитанные книги (некоторые рецензии, в том числе короткие газетные, и предисловия), на профессиональные вызовы (журнальные обсуждения) и даже исторические даты («Март 53–го»). Осмелюсь вспомнить здесь, как некогда В. Розанов оправдывался, составляя книгу «Среди художников»: «В книге есть мелочи, которые вообще переиздавать не следовало бы» – включение же их в книгу объяснял «дурным чувством» – желанием сохранить и «крупицы мысли»,1 затерянные на газетных страницах.
7 сентября 2005
Путь Толстого
2
У Льва Толстого был в русской литературе самый долгий век – человеческий и писательский: он родился ещё при Пушкине и умер, пережив Чехова, при Горьком и Блоке. Усадьба Ясная Поляна в Тульской губернии, где 28 августа 1828 г. родился Лев Николаевич, принадлежала его деду – генерал–аншефу ещё екатерининских времен князю Николаю Сергеевичу Волконскому (1753–1821), удалившемуся от дел при Павле и гордо затворившемуся в своём имении; такова же будет в «Войне и мире» фигура старого князя Болконского. Переменив деду только первую букву в фамилии, Толстой представлял себе его в те старые времена, передавая предсмертное воспоминание старого князя о лучших днях его жизни: «Он… закрыл глаза. И ему представился Дунай, светлый полдень, камыши, русский лагерь, и он входит, он, молодой генерал, без одной морщины на лице, бодрый, весёлый, румяный, в росписной шатер Потёмкина, и жгучее чувство зависти к любимцу, столь же сильное, как и тогда, волнует его» («Война и мир», т. 3, ч. 2, III).
Толстой–художник не хотел, чтобы за его героями искали реальных лиц, прототипов, и тем не менее в его авторском сознании они были. Ясная Поляна маячит за Лысыми Горами, и можно было бы сказать, совмещая искусство и жизнь, что родился будущий писатель у Марьи Болконской и Николая Ростова. Этими родственными связями он был как художник приближен не только к 1812 году, но даже и к прошедшему веку. И недаром его любимыми писателями, под впечатлением от которых он в молодости начал свою литературную деятельность, были корифеи европейского просветительства XVIII столетия (в философском плане) и сентиментализма (в плане литературном) – Стерн и Руссо, а влияние Руссо, учившего о возврате испорченного человечества к естественной чистоте сознания и нравов, во многом определило идейную позицию Толстого–проповедника, разоблачителя общественной лжи и государственного насилия. Молодой Толстой следовал за Руссо, когда провозглашал: «Идеал наш сзади, а не впереди. Воспитание портит, а не исправляет людей» – и призывал учиться подлинному искусству у своих учеников в Яснополянской школе, крестьянских детей.
Кончалась же жизнь Толстого среди нараставшей в стране революционной катастрофы, которой он не желал и хотел бы её предотвратить, но которой своей сокрушительной критикой всех общественных установлений немало способствовал. В 1908 г. к его восьмидесятилетию появились в русской печати одновременно две статьи: одна называлась «Лев Толстой, как зеркало русской революции», другая – «Солнце над Россией». Одна принадлежала все мы знаем кому – профессиональному революционеру В. И. Ленину, другая – поэту Александру Блоку. Солнце и зеркало: две метафоры, создававшие два совершенно разных образа Толстого. Были они противоположны по пафосу, две эти статьи, но обе небеспочвенны как отражения разноречивых граней исторической роли величайшего в России тогда человека. Как говорили тогда, два царя в России – Николай II и Лев Толстой, и первый боится второго, а второй первого не боится. Если не зеркалом, то могучим действующим лицом в революции нашей Толстой, помимо воли своей, явился, потому что вместе со всеми видами общественного и государственного зла на протяжении тридцати последних лет своей проповеднически–пророческой деятельности он последовательно разрушал в сознании русского общества авторитет и всех главных скреп, какими держится всякое общество: государства как такового, науки как таковой, «сложного» господского искусства, включая Бетховена и Пушкина, современной медицины, современного брака и существующей церкви.
Но в то же самое время устами поэта Блока (поэтически глубоко Толстому чуждого «декадента») лучшее русское общество перед зреющей катастрофой говорило о художнике Толстом как о самом по себе «гранитном устое» национальной жизни: «Часто приходит в голову: всё ничего, всё еще просто и не страшно сравнительно, пока жив Лев Николаевич Толстой. Ведь гений одним бытиём своим как бы указывает, что есть какие–то твёрдые, гранитные устои: точно на плечах своих держит и радостью своею поит и питает свою страну и свой народ (…) А если закатится солнце, умрёт Толстой, уйдёт последний гений, – что тогда?»
Что стало «тогда» – все мы знаем. Это было общей мыслью и общей надеждой «тогда»: пока жив Толстой… Самое его присутствие в современности словно удерживало разрушительные силы истории, которые в то же время он же к действию, как сказочный чародей, вызывал. Так жизнь Толстого и его искусство пролегли по эпохам русской истории, связали их на больших расстояниях и стали сами по себе выражением решающего её перевала.
Происхождением Толстой принадлежал к родовитой аристократии и, как положено аристократу, не считал себя «литератором». В 1883 г. он говорил одному из неисчислимых своих собеседников: «Тургенев – литератор, Пушкин тоже был им, Гончаров – ещё больше литератор, чем Тургенев; Лермонтов и я – не литераторы». Он не хотел быть профессиональным литератором, живущим от литературы, каким в самом деле был уже Пушкин. Но не одна аристократическая спесь в таком самосознании. Он с юности хотел быть свободно живущим и действующим человеком, не прикреплённым к профессии, хотя бы и такой свободной, как изящная словесность, – и он таким человеком был. И писателем он стал стихийно, непреднамеренно. Юный Толстой – студент Казанского университета, вначале по восточному, потом по юридическому факультету. Студентом он был плохим и курса не кончил; но студенту–юристу надо было писать работу на тему о сравнении «Наказа» Екатерины Великой и «Духа законов» мыслителя французского Просвещения Монтескьё – и эта работа, вспоминал он потом, «открыла мне новую область умственного самостоятельного труда». Это было его приобщение к XVIII столетию и к социальным и нравственным темам будущих размышлений всей его жизни. Одновременно он стал вести дневник и не оставил его до конца своих дней, и это было первой школой – не писательства, о котором он ещё не думал, а непрерывного ежедневного самонаблюдения, школой внутреннего анализа, которую он проходил на себе и перенёс потом, уже в писательстве, на других людей, на каждого человека и в целом на мир. Университет он бросил без сожаления и возвратился в Ясную Поляну, чтобы вести хозяйство и устраивать к лучшему жизнь своих крепостных. Своими руками он сконструировал молотилку и ходил по крестьянским избам, как будет ходить – уже в его рассказе – «личный» (близкий ему и как бы родившийся от него) его герой Дмитрий Нехлюдов в одном из ранних рассказов – «Утро помещика».
Но и в усадьбе ему не сидится, и он почти случайно (сопровождая брата Николая) отправляется в действующую армию на Кавказ. Это 1851 год, Толстому 22 года. На Кавказе он никак не может прибиться к армии и не имеет ясного места и дела, и в основном пребывает праздно в казачьей станице Старогладков–ской, находящейся как бы на линии фронта, эпизодически волонтёром участвуя в небольших операциях. Это – будущие «Набег» и «Казаки», но – будущие. Пока же он в таком неопределённом и необязательном положении, думая начать военную карьеру и не начиная её, проводит три года без малого. Но – на Кавказе он пишет «Детство», первую свою прозу. Повесть послана в Петербург Некрасову в «Современник» – и неожиданно в августе 1852 г. приходит письмо от Некрасова. Повесть принята и напечатана в том же году в этом лучшем российском журнале, и путь Толстого–писателя – начался.
Этот путь начался как продолжение жизненного пути. «Детство» – это собственное детство, с учителем–немцем Карлом Иванычем, прототип которого был в собственном детстве, и с рано потерянной матерью. За «Детством» последуют «Отрочество» и «Юность» – тоже свои. Но в этой автобиографической трилогии, как её называют, героя зовут Николенька Иртеньев, и это уже не просто собственное детство, а детство, отрочество и юность некоторого мальчика, обычного и необычного одновременно, рассказывающего нам не только об авторе, а о себе и о человеке как таковом, а через это и о своей эпохе. Николенька Иртеньев открывает череду особых, личных героев Толстого, которых называют автобиографическими, но лучше называть их «автопсихологическими» (это точное слово ввела в литературоведение, и именно говоря о Толстом, писательница–филолог Лидия Яковлевна Гинзбург): имя Иртеньева будет вновь возрождаться в поздних произведениях наряду с именем Дмитрия Нехлюдова (который пройдёт свой путь у Толстого от «Утра помещика» до «Воскресения»), а также Дмитрием Олениным в «Казаках» и Константином Лёвиным в «Анне Карениной». Толстой оттого и не считает себя «литератором», что на литературу он смотрит как на очень своеобразное продолжение собственной жизни, а эта последняя для него – самый близкий автору и доступный опыт познания внутренней жизни всякого человека, вообще человека, и подобное возведение собственной жизни во всеобщую как бы степень доступно только искусству. Оттого его писательство так близко следует собственной биографии и герой автопсихологический остаётся его постоянной фигурой.
Следование за биографией продолжается и с ней сближается: там же, на Кавказе, после «Детства» написан «Набег» (1852). Это военный очерк об операции, в которой автор недавно участвовал. Но странный очерк, скорее это аналитическая лаборатория. Автор не просто рассказывает, он задается исследованием такого общего понятия нашей жизни, как храбрость. Необычайность аналитического дара нового писателя сразу заметила критика. Повествование графа Толстого, писал П. В. Анненков, «имеет многие существенные качества исследования, не имея ни малейших внешних признаков его и оставаясь, по преимуществу, произведением изящной словесности».
Что такое храбрость? В «Набеге» задан вопрос, и определения этой сущности, готовые истины проверяются на индивидуальных фактах. Почему, отправляясь в дело, люди ведут себя беззаботно? «Что это: решимость ли, привычка ли к опасности, или необдуманность и равнодушие к жизни?» Вот набор общих мест, неспособных что–либо разрешить; внимание рассказчика направляется на живые факты: «Я с любопытством вслушивался в разговоры солдат и офицеров и внимательно всматривался в выражения их физиономий». Живое явление надо вывести из–под ярлыка, термина, слова. Таков и будет магистральный путь Толстого в искусстве – разоблачение общих мест и вскрытие за ними живой душевной действительности.
Но – Толстой не литератор, на какое–то время он теперь военный человек, и сразу после Кавказа он на театре новой войны, международной войны с европейскими государствами, в осаждённом Севастополе 1855 года. «Севастопольские рассказы» пишутся здесь, на месте событий, и в них – и прежде всего в центральном из них – «Севастополь в мае», – Толстой становится самим собой, великим писателем. Здесь продолжается исследование поведения человека на войне, начатое в кавказских рассказах, но продолжается новооткрытыми средствами внутреннего анализа, какие вскоре в статье Н. Г. Чернышевского по поводу этих рассказов («Современник». 1856. № 8) получат навсегда отныне связанное с Толстым выразительное название – «диалектика души». Это – открытие за разделяющими людей во внешней жизни сословными и личными различиями некоей общей для всех стихии внутренней жизни; в анализе состояний Михайлова и Праскухина перед крутящейся бомбой – она сейчас убьёт одного из них – открытие это обнаружилось ярче всего: эпизод, поразивший читателей–современников. Найдена здесь и собственная эпическая позиция автора над персонажами, позволяющая ему открыто видеть душу каждого, найден особый толстовский властный голос автора – «голос уже не постороннего (как в кавказских вещах, где анализ шёл от стоящего несколько в стороне рассказчика), а потустороннего существа», – как сказал об этой новой авторской позиции крупнейший исследователь Толстого Б. М. Эйхенбаум. «Люди как реки, – будет сказано уже старым писателем в „Воскресении“, – вода во всех одинакая и везде одна и та же…», и «каждый носит в себе зачатки всех свойств людских». Для всего дальнейшего творчества найдены в севастопольских рассказах положительные основы.
«Казаками», писавшимися много лет и напечатанными в 1863 г., заканчивается первое литературное толстовское десятилетие. Толстой накануне «Войны и мира» – но он по–прежнему не литератор. Он – мировой посредник в своем Крапивенском уезде после крестьянской реформы, но главное – он педагог в устроенной им у себя в Ясной Поляне школе для крестьянских детей. Это для него и практическая работа, и философское дело: он верит в «великое слово» Руссо о природном совершенстве человека и в ребёнка как «первообраз гармонии» – и в школе для детей он прозревает «модель» (как назвали бы это сегодня) иного, утопического общественного устройства. В эти годы (1859–1862) педагогические занятия и проблемы для него гораздо важнее литературы – и это будет далее у него повторяться: в 70–е годы новый прилив педагогической активности будет перебивать его работу над «Анной Карениной» и мешать ей. Издание сочинений Толстого, хотя бы и такое неполное, как настоящий четырёхтомник, не будет достаточно представительным без этих его интересов – и в 4–м томе читатель найдет парадоксальную по–толстовски статью «Кому у кого учиться писать, крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят?» (1862).
Но – Толстой накануне «Войны и мира». Создание этой книги составит вторую его эпоху и займёт все 60–е годы. Это счастливая вершина творчества Толстого и, быть может, всей русской литературы. Книга о славном событии русской истории, книга великого содержания и единственного даже в нашей литературе художественного богатства. Книга, которую он назвал («без ложной скромности») своей «Илиадой». Единственный не только в нашей, но и во всей европейской литературе нового времени роман, достигающий в самом деле достоинства эпопеи. Книга, прежде всего и больше всего побуждающая и вдохновляющая нас «полюблять жизнь», по слову автора – этого он и хотел от читателей «Войны и мира»; он писал в те же годы, когда создавалась книга: «Цель художника не в том, чтобы неоспоримо разрешить вопрос, а в том, чтобы заставить любить жизнь в бесчисленных, никогда не истощимых всех её проявлениях. Ежели бы мне сказали, что я могу написать роман, которым я неоспоримо установлю кажущееся мне верным воззрение на все социальные вопросы, я бы не посвятил и двух часов труда на такой роман, но ежели бы мне сказали, что то, что я напишу, будут читать теперешние дети лет через 20 и будут над ним плакать и смеяться и полюблять жизнь, я бы посвятил ему всю свою жизнь и все свои силы».
Но уже через несколько лет по окончании книги Толстой говорит о ней с раздражением и уверяет, что такой «дребедени многословной» больше писать не будет. Дальнейший путь Толстого – путь от «Войны и мира», от её избыточного, артистического роскошества к суровой и сдержанной простоте изложения, которой он ещё в яснополянской школе учился «у крестьянских ребят» и к которой он сам обращается в рассказах для крестьянских ребят (вернее, для всех ребят, «от царских до мужицких», – объяснял он в одном письме в начале 1872 г.), – в «Азбуке», книге для чтения, мысль о которой приходит вместе с окончанием «Войны и мира», Толстой добился чего хотел: эти его образцы дошли и до нашего детства и до детства наших детей – коротенькая «Акула» или более сложный, но тоже очень простой «Кавказский пленник». Десятью годами позже, в 80–е годы, уже не детские, а народные рассказы Толстого станут вершиной такого его – простого искусства.
Он будет осуждать свои произведения, «не общедоступные по форме», но не перестанет их создавать. Как всем известно, он оставил нам три романа – и вот, наблюдая за тем, как каждый из них построен, их композицию, их структуру, мы наблюдаем отложившийся в этих структурных формах путь художника. «Война и мир» – это художественный простор, растекающееся вширь бытиё; разнохарактерные образы и мотивы – война и мир, народные движения и домашний быт – представляются такими самодовлеющими, раскинулись на пространстве книги так свободно и вольно, как это уже не повторится далее у Толстого. «Войну и мир» он не хотел называть романом по европейским канонам этого жанра, «Анна Каренина» – это «именно роман, первый в моей жизни». «Анна Каренина» – это архитектура, именно ею здесь гордился Толстой: «…своды сведены так, что нельзя и заметить, где замок… Связь постройки сделана не на фабуле и не на отношениях (знакомстве) лиц, а на внутренней связи», – так он отвечал на недоумение, что в романе видны два сюжета, не имеющие видимой связи, и центральные лица этих сюжетов – Анна и Лёвин – единственный раз, уже ближе к концу романа, встречаются. Однако «внутренняя связь» параллельных сюжетов тем напряжённее и интенсивнее – гораздо более интенсивна, чем экстенсивная организация многоразличных связей «Войны и мира». Сомнения и искания Лёвина обращены на то, от чего происходит – на глубине – трагедия Анны. После вольного простора эпопеи двуцентренный мир второго романа более строго и напряжённо организован.
То же новое напряжение выступает и в характере душевного анализа. Мы воспользуемся одним наблюдением Константина Леонтьева из великолепного его критического этюда «Анализ, стиль и веяние. О романах гр. Л. Н. Толстого» (1890). Леонтьев заметил, что многие психологические наблюдения автора за героями в «Войне и мире» кажутся бесцельными, никуда не ведут, необходимо не связаны с ходом дела, с движением фабулы. И это так: но это здесь создаёт ощущение эпоса, создаёт простор вокруг всякого частного действия. Не то во втором романе: здесь гораздо теснее связаны душевные движения с неминуемым следствием, из него вытекающим. Леонтьев единственный обратил внимание на такую деталь, что Вронский, уезжая от Анны на скачки и садясь в коляску, залюбовался на мгновение переливающимся на солнце роем мошек, «вившихся над потными лошадьми» (ч. 2, XXIV). «Вронский вовсе не мечтатель; он ничуть не расположен долго задумываться о чём–то, рассеиваться чем–то. Он спешит, к тому же, на скачку (…) Признаюсь, что, читая это в первый раз, я подумал, что это одна из тех описательных заметок Толстого, которые ни к чему не ведут, анализ для анализа, заметка для заметки». Но, читая дальше, Леонтьев понял оправданность этой детали и дал ей тонкое объяснение. Только что Анна сказала Вронскому о своей беременности, с которой в их связь входит что–то очень серьёзное; он и счастлив, и растревожен, эта взволнованность входит, рассеивая и размагничивая, в напряжение, уже бывшее в нём перед спортивной борьбой. Необычное состояние это сказывается как в «расположении не совсем вовремя засмотреться на мошек», так и скоро в неловком движении, которым на скачках он переломит спину любимой лошади.
Рассеянность Вронского поведёт к катастрофе на скачках, а последняя – к решающему повороту в отношениях его, Анны и мужа; так миг отвлечения и рассеянности, несвойственного ему обычно эстетического созерцания – внутренней нитью неизбежного хода действия связан с будущим роковым, трагическим ходом событий. Леонтьев прав: анализ в «Анне Карениной» сосредоточеннее, теснее связан с событиями и к ним ведёт. Но и нет уже той свободы, которую в различных обстоятельствах их судьбы сообщала «диалектика души» лицам «Войны и мира». Свободное движение души чревато последствиями, не свободно от них, на место эпоса приходит трагедия.
Третий, поздний роман, «Воскресение», монолитно сосредоточен на единственной линии действия и заключённом в нём моральном уроке. Это не эпопея и не роман–трагедия, это роман идеологический. Соответственно и «душевное дело» Нехлюдова и Катюши изображается лаконично и сухо. Как писал об этом М. М. Бахтин в прекрасной статье 1929 г., «вместо живой душевной действительности даётся сухое осведомление о моральном смысле переживаний Нехлюдова. Автор как бы торопится от живой душевной эмпирики, которая ему теперь не нужна и противна, поскорее перейти к моральным выводам, к формулам и прямо к евангельским текстам».
Поздний Толстой начинается в 1880–е годы. Сам он установил границу своим отказом от литературной собственности на всё написанное им после 1881 г.; это решение, обнародованное в 1891 г., стало истоком семейного разлада и домашней драмы, кончившейся глубокой осенью 1910 г. уходом из дома в никуда, в пространство и в смерть. Поздний Толстой – это перевес проповедничества над «художеством», которое автор меньше ценит и словно его стесняется; это новое толстовское христианство, не только сведённое по–протестантски к Евангелию, но к очищенному Евангелию, освобождённому от чудес и пророчеств и содержащему только моральные заповеди, «религия практическая, – по объяснению самого религиозного реформатора, – не обещающая будущее блаженство, но дающая блаженство на земле» – это дело Толстого приведёт в 1901 г. к определению Священного Синода об отлучении его от общения с Православной Церковью. Но поздний Толстой – это и новая художественность неизвестной ранее силы, потрясшая русскую литературу по–новому.
Ещё когда–то перед «Войной и миром» он записал в дневнике: «Лень писать с подробностями, хотелось бы всё писать огненными чертами». «Смерть Ивана Ильича» в середине 80–х написана огненными чертами. Жизнь была скучная, серая, «как у всех», смерть даёт для оценки жизни огненные черты. Жизнь и смерть обыкновенного человека подводятся под силлогизм: все люди смертны, Кай человек… Но смерть открывает, что я не Кай, не вообще человек. «Разве для Кая был тот запах кожаного полосками мячика, который так любил Ваня? Разве Кай целовал так руку матери и разве для Кая так шуршал шёлк складок платья матери?» Запах кожаного полосками мячика или вкус сырого сморщенного французского чернослива в детстве, «особенный вкус его и обилие слюны, когда доходило до косточки» – в этом и всём подобном не был заключен будущий Иван Ильич, социальный итог, никакие отсюда к нему не тянулись нити, и это было всецело его, а не Кая, личное достояние. Тоже «подробности», каких было множество в «Детстве», с которого начал Толстой, но там они представляли счастливое изобилие, здесь они кричат, протестуют и пишутся огненными чертами.
Старый Толстой уже последнего десятилетия жизни продолжал писать «художественное» и почти его не печатал. «Хаджи Мурата» он писал «от себя потихоньку», как признавался в одном письме. Он вернулся в этой прощальной повести к дням своей кавказской молодости, когда он был рядом с событиями и в конце 1851 года сообщал брату о переходе Хаджи Мурата к русским как о свежей новости. Поэтическим как бы воспоминанием он вернулся и к молодому чувству жизни, и к полнокровности изображения; полнокровностью этой «Хаджи Мурат» отделяется среди поздних произведений. Вернулся он и к эпическому размаху сопряжения полюсов исторической жизни от горного аула до императорского дворца и от него до крестьянской избы – к такому размаху он был склонен в эпоху «Войны и мира». Но всё же это эпос старого Толстого – в компактном как бы сокращении, «конспективная эпопея» (П. В. Палиевский).
«Соловьи, смолкнувшие во время стрельбы, опять защёлкали, сперва один близко, а потом другие на дальнем конце».
Отклик природы на гибель героя, который отстаивал жизнь до последнего, – так с одобрением, не совсем согласным с идеей непротивления, записал Толстой в дневнике при начале работы над повестью. Прочитаем эту великолепную фразу как завершающую на художественном пути Толстого – ведь «Хаджи Мурат» был последним его любимым созданием.
1998
1� В. В. Розанов. Среди художников. СПб., 1914. С. 1. – Здесь и далее в книге разрядкой передаются слова и фрагменты текста, выделенные цитируемыми авторами; все курсивы, в том числе и в цитатах, принадлежат автору книги.
2� Предисловие к 4–томному изданию Льва Толстого в серии «Пушкинская библиотека», предназначенной для российских библиотек. М.:Слово, 1999.