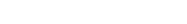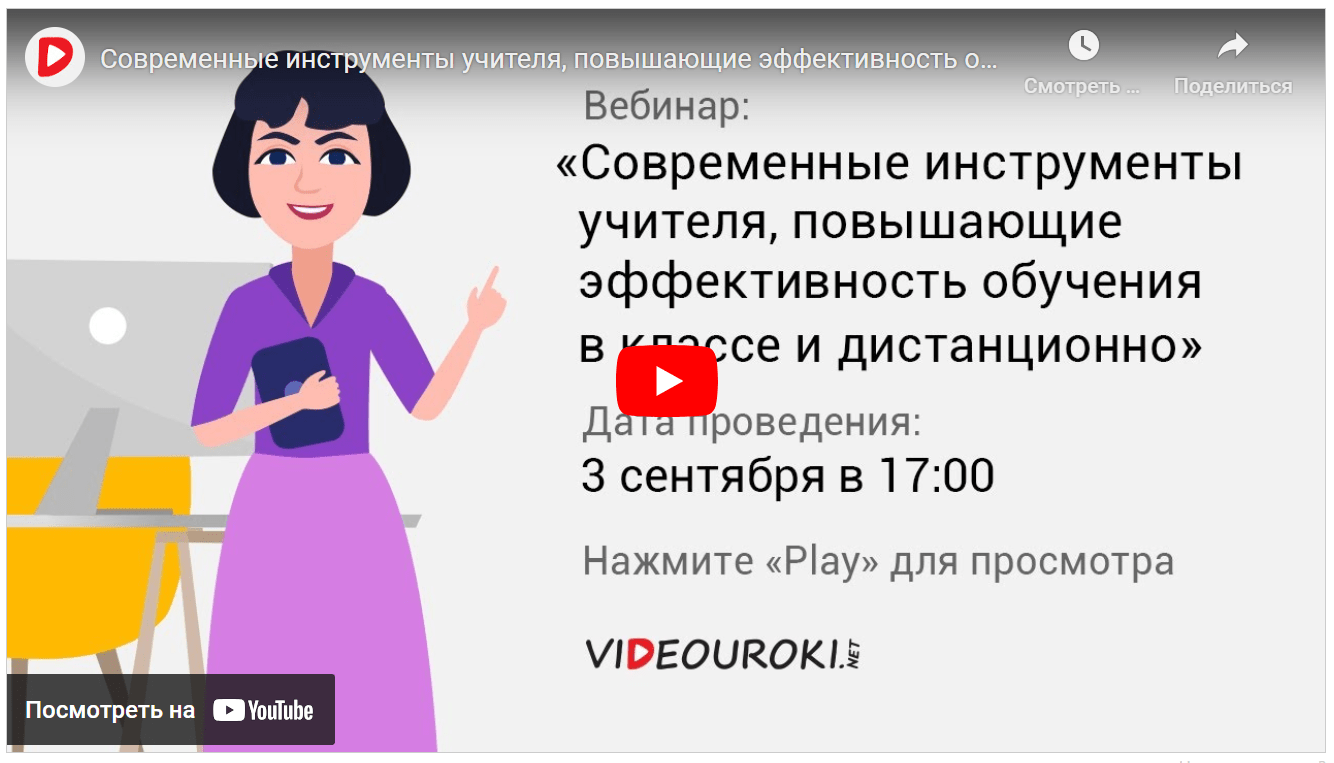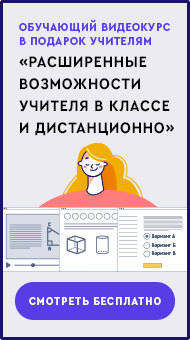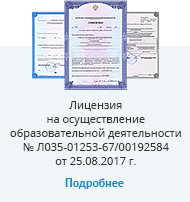Сценарий внеклассного мероприятия «Литературное кафе «Серебряный век»
Цели и задачи:
ввести учащихся в художественный мир поэтов Серебряного века, показать многогранность их таланта.
развивать творческие способности учащихся.
повторить и обобщить изученный материал по теме «Серебряный век».
Оборудование:
Музыкальные композиции, портреты и стихи поэтов Серебряного века. Класс (по возможности) оформляется в соответствии с обстановкой литературно-артистического кафе.
Возраст участников: обучающиеся 10-11 классов
Количество участников: 1-2 класса. Камерный характер мероприятия способствует созданию серьёзного, эмоционального настроя.
Место проведения: читальный зал, концертный зал, кабинет литературы.
Тип урока: литературно-музыкальные вечер
Поэт: Добрый вечер, друзья. Сегодня нам с вами выпала возможность заглянуть в литературное кафе «Серебряный век». В таких кафе собирались истинные ценители поэзии, любители и знатоки чудного, утонченного периода русской литературы, называемого Серебряным веком. Многообразие поэтических школ и направлений, возникших в конце 18 – начале 19 века, вызвало к жизни немало литературных кафе, ставших местом выступлений известных и неизвестных, маститых и начинающих, пишущих, но мало печатающихся поэтов. Наступил, как говорили тогда, «кафейный период поэзии». В кафе можно было и отдохнуть, и развлечься, встретиться со старыми приятелями-коллегами по перу, вступить в серьезный профессиональный диспут, ибо едва ли не каждый завсегдатай московского «Домино» или «Бома», или питерского «Приюта комедиантов» был поэтом, оставившим нам гениальные строки.
Блок: (сидит за столиком, что-то пишет, негромко декламирует):
О жизни, догоревшей в хоре
На тёмном клиросе Твоём.
О Деве с тайной в светлом взоре
Над осиянным алтарём.
О, кажется, я слышу шаги. Это начинают собираться посетители. Анна Ахматова! Я рад Вас видеть! Вы частый гость в этом кафе!
Ахматова: (выходя на сцену):
Да, я любила их, те сборища ночные, -
На маленьком столе стаканы ледяные,
Над черным кофием пахучий, тонкий пар,
Камина красного тяжелый зимний жар.
Веселость едкую литературной шутки
И друга первый взгляд, беспомощный и жуткий…
Блок: Анна Андреевна, как Вы не похожи сейчас на свой альтмановский портрет!
Ахматова: (пожав плечами) Благодарю, Александр Александрович! Надеюсь, что не похожа.
Блок: За что же вы так его не любите?
Ахматова: Этот портрет? Ничего странного! Кому нравится видеть себя зеленой мумией!
Блок: Анна Андреевна, я давно хотел, у вас спросить: почему ваши стихи всегда так безысходны, так полны тоски?
Ахматова: А разве в жизни тоски не достаточно? Сказать откровенно, я никогда не знала, что такое счастливая любовь… (садится за столик)
Блок: Мне кажется, вы лукавите, Анна Андреевна! Вот вдруг вспомнились мне ещё некоторые строки:
А я уже стою в саду иной земли,
Среди кровавых роз
И влажных лилий,
И повествует мне гекзаметром Вергилий
О высшей радости земли.
И оно подписано: Великий синдик Гу. Вы знаете, кто он - сей загадочный поэт!
Гумилев: (выходя на сцену) Гу, Александр, значит, Гумилев, Николай Степанович. Добрый вечер! (подсаживается за столик к Ахматовой). Здравствуйте, Анна Андреевна! Здравствуйте, господа! Прекрасный вечер, не так ли?
Ахматова: Здравствуй, Коля, ты задержался…
Гумилев: У меня ведь сегодня были лекции в Студии с моими курсистками, вашими поклонницами и подражательницами, между прочим! Копируют ваш стиль безоглядно! Я их называю «подахматовки». Знаете, как особый сорт грибов-поганок, растущих под «Чётками». Подахматовки. Вроде мухоморов.
Ахматова: (смеясь, декламирует)
Могла ли Биче словно Дант творить,
Или Лаура жар любви восславить?
Я научила женщин говорить
Но, боже, как их замолчать заставить!
Да, кстати, Александр Александрович, знаете какой забавный случай произошел у нас на той неделе в Царском?!
Гумилев: Его сложно назвать забавным!
Ахматова: А мне кажется, это было очень мило!
Гумилев: Это Осип виноват. Представляешь, Мандельштам подучил нашего Лёвушку выйти в гостиную, где собрались товарищи по Цеху поэтов, и крикнуть: «Мой папа – поэт, а моя мама – истеричка!»
Ахматова: (смеется) Замечательно! Замечательно! Он прав!
Блок: (улыбается): Действительно, забавно. Николай, скажи мне, правду говорят, что ты неделю назад вернулся из Африки?
Гумилев: Представь себе – да! Я даже был в Аддис-Абебе на приёме у императора Эфиопии! Вообще, Африка с детства привлекала меня, я не мог упустить возможность побывать там! Я могу прочитать стихи, которые написал, будучи в путешествии:
Восемь дней от Харрара
я вел караван
Сквозь Черчерские дикие горы
И седых на деревьях
стрелял обезьян,
Засыпал средь корней сикоморы.
На девятую ночь я увидел
с горы —
Этот миг никогда не забуду —
Там внизу,
в отдаленной равнине, костры,
Точно красные звезды, повсюду.
Ахматова: это замечательные стихи, Коля!
Блок: Да, действительно, хороши!
(За сценой раздаётся шум, приглушенные возгласы, перешептывания. На сцену, смущаясь, подталкивая друг друга, выходят курсистки)
1К: Николай Степанович! (дальше говорят быстро, наперебой)
2К: Как хорошо, что вы здесь!
3К:Мы не успели после занятий к вам подойти.
2К: Я хотела бы вам прочитать свои стихи!
1К:И я!
3К: Я исправила всё, что вы сказали, послушаете?
1К: Мы шли мимо и увидели вас через окно!
2К: Здравствуйте, Анна Андреевна! (шепотом остальным): Это же Ахматова!
(молчание)
1К: Я бы хотела…
Гумилев: Довольно! Вы так быстро говорите, что не успеваете дышать! (поворачиваясь к сидящим в кафе) Вот, кстати, это и есть мои курсистки, те самые, что я рассказывал! (курсисткам) Ну, что ж. Раз вы всё равно здесь, порадуйте нас с товарищами своим творчеством….
1К: (выступает вперед, заметно волнуется):
Сердце бьётся медленно, устало,
На порог я села на крыльцо.
Я ему сегодня отослала
Обручальное кольцо.
Гумилев: Обручальное кольцо?! Никак не предполагал, что вы уже замужем. Позвольте узнать – давно?
1К: Нет. Я не замужем, нет!
Гумилёв: (недоумевающе) Как же так? Помилуйте! Кому же вы отослали кольцо? Жениху? Любовнику?
1К: (молчит, смущенная)
Гумилев: (насмешливо): А, я понимаю! Вы просто взяли мужа, как и крыльцо, из Ахматовского реквизита! Ах вы, бедная подахматовка!
1К: (плачет, уходит за кулисы)
2К: (начинает громко и уверенно):
Я туфлю с левой ноги
На правую ногу надела…
Гумилев: (перебивая): Ну и как? Так и доковыляли домой? Или переобулись в ближайшей подворотне?
2К: (молчит, смотрит в пол)
3К: (робко) Можно мне?
Облокотясь на бархат ложи,
Закутанная в шелк и газ,
Она, в изнеможеньи дрожи,
Со сцены не сводила глаз.
На сцене пели, танцевали
Ее любовь, ее судьбу,
Мечты и свечи оплывали,
Бесцельно жизнь неслась в трубу,
Пока блаженный сумрак сцены
Не озарил пожар сердец
И призрак счастья... Но измены
Простить нельзя. Всему конец.
Нравоучительно, как в басне,
Любовь кончается бедой...
- Гори, гори, звезда, и гасни
Над театральной ерундой!
Гумилев: (после некоторого молчания) Хорошо. Это действительно хорошо. Как вас зовут?
3К: (смущенно) Ира. Ирина Одоевцева.
Гумилев: Что ж, Ирина, нет предела совершенству! Я запомнил ваши стихи. Идите, спасибо!
(задумывается). А помнишь ли, Александр, как в декабре 1920 года, в заснеженной Москве, в переполненном зале Политехнического музея проходил «Вечер поэтесс»?
Блок: Помню, Николай! Одна за другой на сцене появлялись представительницы московской богемы, читая свои стихотворения.
Ахматова: И публика заметно скучала, всё было невыносимо однообразно.
Блок: Как вдруг, из темноты студёной ночи, явилась взору притихшего зала женщина в черном, похожем на монашеское платье, в стоптанных валенках, с военной сумкой через плечо. Коротко остриженные волосы делали её лицо вызывающе независимым.
Гумилёв: А вся она дышала каким-то внутренним протестом, вызывающим ответную подобную реакцию у рафинированной части зрителей.
Ахматова: Это была Марина Цветаева! Поэтесса, которую уже стала забывать литературная Москва. Все видели, что революция не вдохновляла её, что она живет отчужденно.
Блок: Поэтому её появление воспринималось как вызов происходящему!
(Появляется Цветаева.)
Цветаева: Удачный литературный дебют, счастливый брак, рождение моей любимой дочери – всё это неожиданно подверглось нападению демонических сил. Империалистическая война, мой муж, Сергей Эфрон, ушёл на фронт. Я предчувствовала перемены, но не понимала: к лучшему они или к худшему, тревога возрастала. Моё духовное одиночество становилось невыносимым. И в мае 1922 года мне с дочерью пришлось покинуть Россию, погибающую в огне революции.
Ахматова: В эмиграции Марина написала множество прекрасных, трагичных стихов.
Гумилев: Прочтите, Марина Ивановна!
Цветаева: Пожалуй, вот, моё любимое… (читает «Тоска по родине!...»)
(пауза)
Цветаева: Но довольно же нам печалиться! Что за шум я слышу возле дверей! Взгляните, товарищи! Скорее, взгляните! Это же Владимир Маяковский! И Давид Бурлюк с ним! Наши товарищи-футуристы!
Врываются Маяковский и Бурлюк (?)
Бурлюк: Товарищи и граждане! Сегодня мы проводим «чистку поэтов»! Завядшие рифмы и мертвые размеры должны уступить место новым органическим формам, вытекающим из суммы новых идей, запросов и чувств. С этой точки зрения не выдерживают критики даже большие мастера художественного слова, которые ушли корнями в старый мир и не принимают того нового, что несет с собой наша эпоха.
Поэт: Долой! Да здравствует Пушкин!
Бурлюк: Молчать! Я объявляю начало чистки! А судить вас доверим Маяковскому!
(Футуристы занимают столик, Ахматова встаёт).
Ахматова:
Слава тебе, безысходная боль!
Умер вчера сероглазый король.
Вечер осенний был душен и ал,
Муж мой, вернувшись, спокойно сказал:
«Знаешь, с охоты его принесли,
Тело у старого дуба нашли.
Жаль королеву. Такой молодой!..
За ночь одну она стала седой».
Трубку свою на камине нашел
И на работу ночную ушел.
Дочку мою я сейчас разбужу,
В серые глазки ее погляжу.
А за окном шелестят тополя:
«Нет на земле твоего короля...»
Маяковский: Обратите внимание на ритмическое сродство этого стихотворения с популярной до революции песенкой об ухаре-купце:
Ехал на ярмарку ухарь-купец,
Ухарь-купец, удалой молодец.
Ахматова: Я и не ожидала, что вы оцените мои стихи! Что вы понимаете в поэзии? Я не хочу здесь оставаться, Николай!
Гумилёв: Да, пожалуй, больше здесь делать нечего! Продолжайте ораторствовать! (уходят)
Поэт: Ну и при чем здесь купец? Давайте следующий!
На сцену через весь зал проходит девушка.
Маяковский: Вы мальчик или девочка?
Девушка: (растерянно) Девочка….
Маяковский: Читайте.
Девушка: О, плакальщики дней минувших,
Пытатели немой судьбы,
Искатели сокровищ потонувших, -
Вы ждете трепетно трубы?
Река всё та ж, но капли разны,
Безмолвны дали, ясен день.
Цвета цветов всегда разнообразны,
И солнца свет сменяет тень.
Маяковский: Кто за то, чтобы запретить размазывать по бумаге подобную слезоточивую муть навсегда?
Поэт: Поддерживаю! Немедленно запретить!
Бурлюк: Тише, товарищи. Следующий? Смелее!
(На сцену поднимается поэт, выдержав эффектную паузу, читает):
Поэт: О, закрой свои бледные ноги.
(Пауза.)
Маяковский: Однако автор этих, с позволения сказать, строк не безнадежен. Предлагаю запретить молодому дарованию печататься в течение трех лет и отправлять его на выручку к Маяковскому. Принято!
Поэт: Стихотворение, которое я только что читал, написано не мной.
Бурлюк: Кем же оно написано?
Поэт: Автор осужденного вами произведения – председатель Союза Поэтов Валерий Брюсов.
Маяковский: Раз эти стихи принадлежат Брюсову, то и наш суровый приговор относится к Валерию Брюсову! Брюсову надлежит не писать, пока не исправится.
Поэт: (спускаясь со сцены) А сам Маяковский почему не читает?
Бурлюк: Владимир, публика просит!
Маяковский:
Через час отсюда в чистый переулок
вытечет по человеку ваш обрюзгший жир,
а я вам открыл столько стихов шкатулок,
я - бесценных слов мот и транжир.
Вот вы, мужчина, у вас в усах капуста
Где-то недокушанных, недоеденных щей;
вот вы, женщина, на вас белила густо,
вы смотрите устрицей из раковин вещей.
Все вы на бабочку поэтиного сердца
взгромоздитесь, грязные, в калошах и без калош.
Толпа озвереет, будет тереться,
ощетинит ножки стоглавая вошь.
А если сегодня мне, грубому гунну,
кривляться перед вами не захочется - и вот
я захохочу и радостно плюну,
плюну в лицо вам
я - бесценных слов транжир и мот.
Поэт: Маяковский, мы с товарищами читали ваши стихи и ничего не поняли!
Маяковский: Надо иметь умных товарищей.
Поэт: Ваши стихи не волнуют, не греют и не заражают.
Маяковский: Товарищи, мои стихи - это не море, не печка и не чума.
Бурлюк: Я вижу в зале Лилю Юрьевну Брик и, кажется, она скучает! Лиля Юрьевна, вам не нравятся стихи Маяковского?
Лиля: Нет, они мне нравятся. (выходя на сцену, садясь за столик) Но больше по душе те стихи, которые Володя написал для меня! Представляете, он написал их, когда мы сидели в одной комнате.
Маяковский: (задумчиво): Иногда намного проще выразить мысли на бумаге, чем вслух…
Лиля: А прочитай нам их прямо сейчас!
Поэт: Поддерживаю!
Лиля: Прочитай, Володя!
Маяковский:
Вместо письма
Дым табачный воздух выел.
Комната -
глава в крученыховском аде.
Вспомни -
за этим окном
впервые
руки твои, исступленный, гладил.
Сегодня сидишь вот,
сердце в железе.
День еще -
выгонишь,
можешь быть, изругав.
В мутной передней долго не влезет
сломанная дрожью рука в рукав.
Выбегу,
тело в улицу брошу я.
Дикий,
обезумлюсь,
отчаяньем иссечась.
Не надо этого,
дорогая,
хорошая,
дай простимся сейчас.
Все равно
любовь моя -
тяжкая гиря ведь -
висит на тебе,
куда ни бежала б.
Дай в последнем крике выреветь
горечь обиженных жалоб.
Если быка трудом уморят -
он уйдет,
разляжется в холодных водах.
Кроме любви твоей,
мне
нету моря,
а у любви твоей и плачем не вымолишь отдых.
Захочет покоя уставший слон -
царственный ляжет в опожаренном песке.
Кроме любви твоей,
мне
нету солнца,
а я и не знаю, где ты и с кем.
Если б так поэта измучила,
он
любимую на деньги б и славу выменял,
а мне
ни один не радостен звон,
кроме звона твоего любимого имени.
И в пролет не брошусь,
и не выпью яда,
и курок не смогу над виском нажать.
Надо мною,
кроме твоего взгляда,
не властно лезвие ни одного ножа.
Завтра забудешь,
что тебя короновал,
что душу цветущую любовью выжег,
и суетных дней взметенный карнавал
растреплет страницы моих книжек...
Слов моих сухие листья ли
заставят остановиться,
жадно дыша?
Дай хоть
последней нежностью выстелить
твой уходящий шаг.
Лиля: Божественно… Впрочем, как и всё, что ты посвятил мне!
Бурлюк: Товарищи, мне кажется, нам пора идти в Политехнический институт, сегодня там будут выбирать короля поэтов! Идемте скорее, опоздаем!
Лиля: Володя, напоследок, скажи товарищам, что же самое важное в нашей новой поэзии?
Маяковский: Самое важное… Писать по-новому. Понимаете? По-новому! А не переписывать, не повторять слова чужого дяди! Обновлять строку, слова выворачивать с корнем, поднимать стих до уровня наших дней. Время у нас такое. Серьезное. Время у нас трудное и прекрасное…
(уходят)
Цветаева: Да, время… Боже, какое время настало… Вот прошла зима, страшнее и позорнее которой ранее никогда не было.
Блок: Но и такой, моя Россия,
Ты всех краев дороже мне!
Цветаева: Вы, Александр Александрович, написал эти строки задолго до нынешних времён, и «такая» - не значит – большевистская. Большевики… Какая злоба в них!
Блок: Святая злоба, Марина Ивановна.
Цветаева: Вчера – объявление от районного Совета Петроградской стороны: большевики взяли в какой-то квартире семь юношей, арестовали, повели ночью на окраину и там расстреляли. И прибавка: «Личности не выяснены».
Блок:
И идут без имени святого
Все двенадцать – вдаль.
Ко всему готовы,
Ничего не жаль…
(Пауза)
Цветаева: Вы не слышали – говорят, Сергей Есенин опять устроил скандал в ресторане на Невском.
Блок: Последнее время всё чаще… Поездка в Америку не пошла ему на пользу.
Есенин: (стоя у входа): Сплетни всё, товарищи! Думать сейчас не о том надо.
Блок: А сплетни ли это?
Есенин: А важно ли это уже? (молчит) Ах, как это мерзко… И травят везде, проклятые. Не печатают. Говорят, «Вы, Сергей Александрович, не соответствуете облику советского поэта!»
А кто соответствует? Маяковский? (усмехается) Видел, что творится на его чтениях. Люди обезумевшие, красные, орут что-то: «Левой! Левой!» Стоит ли перед такими душу свою открывать? Ну да Бог с ними… Хотя, нет! Бог нынче не с ними.
Цветаева: А что вы написали последнее?
Есенин: Последнее? Извольте:
Мне осталась одна забава:
Пальцы в рот и веселый свист.
Прокатилась дурная слава,
Что похабник я и скандалист.
Ах! какая смешная потеря!
Много в жизни смешных потерь.
Стыдно мне, что я в Бога верил.
Горько мне, что не верю теперь.
Золотые, далекие дали!
Все сжигает житейская мреть.
И похабничал я и скандалил
Для того, чтобы ярче гореть.
Дар поэта — ласкать и карябать,
Роковая на нем печать.
Розу белую с черною жабой
Я хотел на земле повенчать.
Пусть не сладились, пусть не сбылись
Эти помыслы розовых дней.
Но коль черти в душе гнездились —
Значит, ангелы жили в ней.
Вот за это веселие мути,
Отправляясь с ней в край иной,
Я хочу при последней минуте
Попросить тех, кто будет со мной,—
Чтоб за все за грехи мои тяжкие,
За неверие в благодать
Положили меня в русской рубашке
Под иконами умирать.
Поэт: (поднимаясь на сцену) Пусть же в нашем зале хотя бы еще немного померцают тени великой эпохи, отсветы великих талантов, о которых мы вспомнили сегодня. Ведь еще не наступил 21-й год, и еще живы Блок и Гумилев, еще находятся в России, страдают с ней, пишут о ней Куприн, Зайцев и другие великие писатели, значит, мы еще немножко в «Серебряном веке».
(поэты уходят)