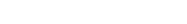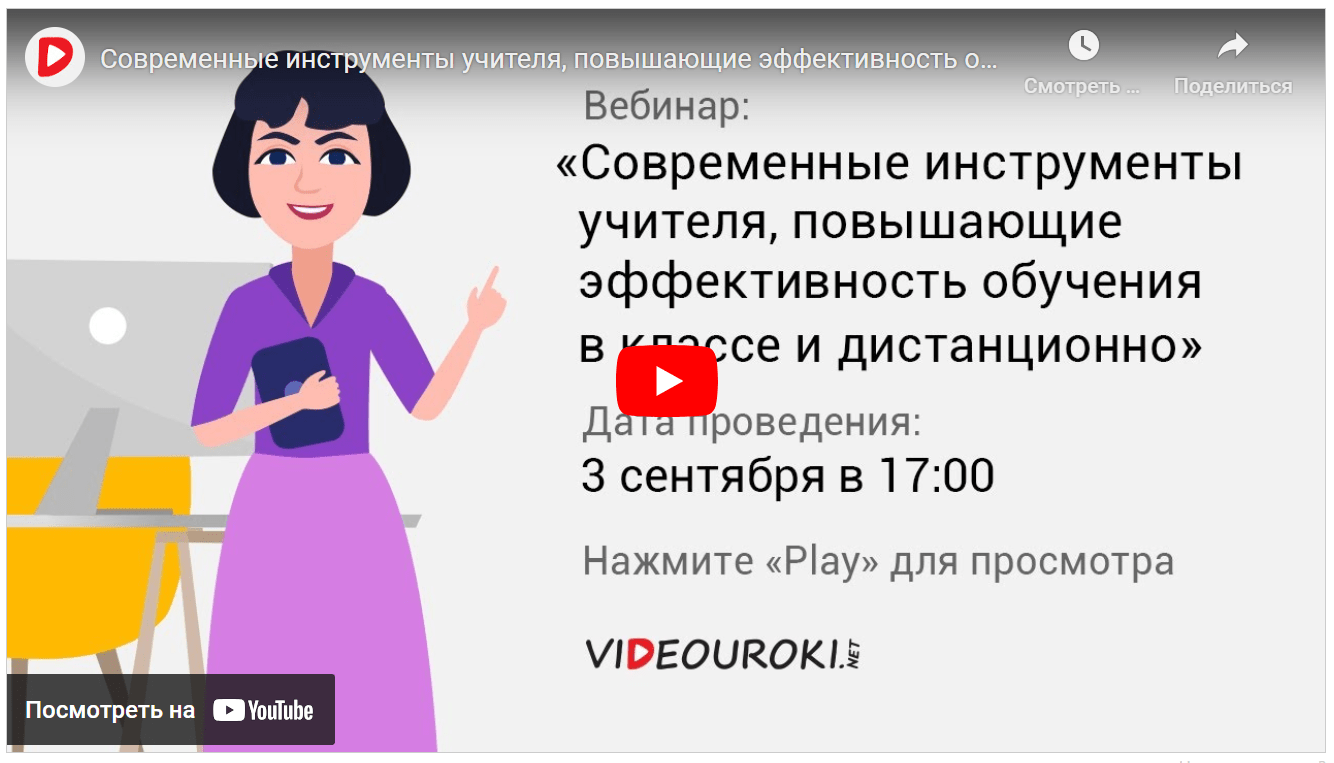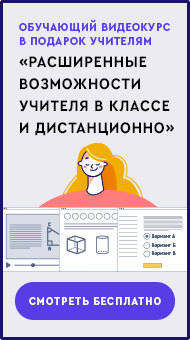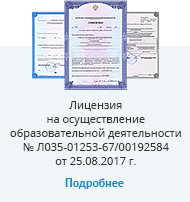СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ
Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно
Скидки до 50 % на комплекты
только до
Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой
Организационный момент
Проверка знаний
Объяснение материала
Закрепление изученного
Итоги урока

ИТОГОВОЕ сочинение 2024-2025 КОРОТКИЕ РАССКАЗЫ – АРГУМЕНТЫ ДЛЯ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ , 11 КЛАСС (с обозначенными ПРОБЛЕМАМИ) Время чтения рассказов от3 до 23 минуты
Просмотр содержимого документа
«ИТОГОВОЕ сочинение 2024-2025 КОРОТКИЕ РАССКАЗЫ – АРГУМЕНТЫ ДЛЯ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ , 11 КЛАСС (с обозначенными ПРОБЛЕМАМИ) Время чтения рассказов от3 до 23 минуты»
РАССКАЗЫ – АРГУМЕНТЫ ДЛЯ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ , 11 КЛАСС
1."ВСЕ МОИ ВРАГИ МЕРТВЫ". Р. БРЭДБЕРИ
ПРОБЛЕМЫ:
- СМЫСЛ ЖИЗНИ
- ОБИДА
- ПРОЩЕНИЕ
- ДРУЖБА, РОЛЬ ДРУЖБЫ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
2."И ГРЯНУЛ ГРОМ" РЭЙ БРЭДБЕРИ
ПРОБЛЕМЫ:
-ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОШЛОГО, НАСТОЯЩЕГО И БУДУЩЕГО
-ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ
-ЦЕНА ОШИБКИ
-ПОСЛЕДСТВИЯ НАУЧНО_ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА
-ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕКА ЗА ЕГО ДЕЙСТВИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ПРИРОДЕ И МИРУ.
3.БУДЕТ ЛАСКОВЫЙ ДОЖДЬ РЭЙ БРЭДБЕРИ
ПРОБЛЕМЫ:
-ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОШЛОГО, НАСТОЯЩЕГО И БУДУЩЕГО
-ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ
-ЦЕНА ОШИБКИ
-ПОСЛЕДСТВИЯ НАУЧНО_ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА
-ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕКА ЗА ЕГО ДЕЙСТВИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ПРИРОДЕ И МИРУ.
4."ОНО". УМБЕРТО ЭКО.
ПРОБЛЕМЫ:
- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧЕНЫХ ЗА СВОИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
- ЦЕЛЬ И СРЕДСТВА
- НЕНАВИСТЬ, ЖЕСТОКОСТЬ
- РАЗРУШИТЕЛЬНОСТЬ ВОЙНЫ
- ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НАУКИ
5.«КУСТ СИРЕНИ» А. И. КУПРИН
ПРОБЛЕМЫ :
- СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ
-ЖЕРТВЕННАЯ ЛЮБОВЬ
-СПОСОБНОСТЬ К ИСТИННОМУ УЧАСТИЮ, СОЧУВСТВИЮ
- СИЛА ДУХА
- СПОСОБНОСТЬ НАЙТИ ВЫХОД В ТРУДНОЙ СИТУАЦИИ
6.«НА ЛЬДИНЕ » Б.ЖИТКОВ
ПРОБЛЕМЫ :
- БЕЗВЫХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
- ОТЧАЯНИЕ, МУЖЕСТВО
-СПАСЕНИЕ
7."ЁЖИК – ИСТОРИЯ О НАПРАСНОЙ СУЕТЕ". Г. ГОРИН.ПРОБЛЕМЫ:
-ИСТИННЫЕ И ЛОЖНЫЕ ЦЕННОСТИ
-ДЕТСТВО
-СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
8."ДРУГ". Л. АНДРЕЕВ
ПРОБЛЕМЫ:
-ДРУЖБА
-ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЖИВОТНЫХ И ЛЮДЕЙ
-ВЕРНОСТЬ
-БЛАГОДАРНОСТЬ
-ЭГОИЗМ
-ОШИБКА
9.ГРУСТНАЯ ИСТОРИЯ СЕМЬИ МУРАВЬЕД. Этгар Керет.
ПРОБЛЕМЫ:
- ТОЛЕРАНТНОСТЬ
- ЖЕСТОКОСТЬ
- КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ЦЕЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ
- ИНТЕЛЛИГЕНТНОСТЬ
- ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО
ПРОБЛЕМЫ:
-САМОПОЖЕРТВОВАНИЕ
-ДРУЖБА
-СМЫСЛ ЖИЗНИ
-СИЛА И СЛАБОСТЬ ЧЕЛОВЕКА
-ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ
-АЛЬТРУИЗМ
11."КНОПКА, КНОПКА". Р. МАТЕСОН.ПРОБЛЕМЫ:
- ЦЕЛИ И СРЕДСТВА
- МОРАЛЬНОЕ И МАТЕРИАЛЬНОЕ
- ВЗАИМОПОНИМАНИЕ
- КОРЫСТЬ
12."ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ШЕСТЕРКА". Б. ВАСИЛЬЕВ.
ПРОБЛЕМЫ:
- БЮРОКРАТИЯ
- ВОСПИТАНИЕ
- ОТНОШЕНИЕ К ЖИВОТНЫМ
- СОПЕРЕЖИВАНИЕ
- ОТНОШЕНИЕ К ВЕТЕРАНАМ
- ДЕТСКАЯ ЖЕСТОКОСТЬ
- ОДИНОЧЕСТВО, СТАРОСТЬ
- ЦЕЛЬ И СРЕДСТВА
- ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ
- УВАЖЕНИЕ
13.ЛАВКА МИРОВ". Р. ШЕКЛИ.
ПРОБЛЕМЫ:
- СМЫСЛ ЖИЗНИ
- РОЛЬ СЕМЬИ
- ЦЕЛЬ И СРЕДСТВА
- ВЛИЯНИЕ ВОЙНЫ НА ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА
- МЕЧТА
- ИСТИННЫЕ И ЛОЖНЫЕ ЦЕННОСТИ
- ЦЕНА СЧАСТЬЯ
- НАДЕЖДА
"ВСЕ МОИ ВРАГИ МЕРТВЫ". Р. БРЭДБЕРИ
ПРОБЛЕМЫ И ТЕМЫ:
- СМЫСЛ ЖИЗНИ
- ОБИДА
- ПРОЩЕНИЕ
- ДРУЖБА, РОЛЬ ДРУЖБЫ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
На седьмой странице был некролог: «Тимоти Салливан. Компьютерный гений. 77 лет. Рак. Заупок. служба неофиц. Похороны в Сакраменто».
— О боже! — вскричал Уолтер Грипп. — Боже, ну вот, все кончено.
— Что кончено? — спросил я.
— Жить больше незачем. Читай, — Уолтер встряхнул газетой.
— Ну и что? — удивился я.
— Все мои враги мертвы.
— Аллилуйя! — засмеялся я. — И долго ты ждал, пока этот сукин сын...
— ...у..к.
— Хорошо, пока этот у. откинет копыта? Так радуйся.
— Радуйся, черта с два. Теперь у меня нет причин, нет причин, чтобы жить.
— А это еще почему?
— Ты не понимаешь. Тим Салливан был настоящим сукиным сыном. Я ненавидел его всей душой, всеми потрохами, всем своим существом.
— Ну и что?
— Да ты, похоже, меня не слушаешь. С его смертью исчез огонь.
Лицо Уолтера побелело.
— Какой еще огонь, черт возьми?!
— Пламя, черт побори, в моей груди, в моей душе, сокровенный огонь. Он горел благодаря ему. Он заставлял меня идти вперед. Я ложился ночью спать счастливый от ненависти. Я просыпался по утрам, радуясь, что завтрак даст мне необходимые силы, необходимые, чтобы убивать и убивать его раз за разом, между обедом и ужином. А теперь он все испортил, он задул это пламя.
— Он нарочно сделал это с тобой? Нарочно умер, чтобы вывести тебя из себя?
— Можно сказать и так.
— Я так и сказал!
— Ладно, пойду в кровать, буду снова бередить свои раны.
— Не будь нюней, сядь, допой свой джин. Что это ты делаешь?
— Не видишь, стягиваю простыню. Может, это моя последняя ночь.
— Отойди от кровати, это глупо.
— Смерть — глупая штука, какой-нибудь инсульт — бах — и меня нет.
— Значит, он сделал это нарочно?
— Не стану валить на него. Просто у меня скверный характер. Позвони в морг, какой там у них ассортимент надгробий. Мне простую плиту, без ангелов. Ты куда?
— На улицу. Воздухом подышать.
— Вернешься, а меня, может, уже и не будет!
— Потерпишь, пока я поговорю с кем-нибудь, кто в здравом уме!
— С кем же это?
— С самим собой!
Я вышел постоять на солнышке.
«Быть такого не может», — думал я.
«Не может? — возразил я себе. — Иди, полюбуйся».
«Погоди. Что делать-то?»
«Не спрашивай меня, — ответило мое второе я. — Умрет он, умрем и мы. Нет работы — нет бабок. Поговорим о чем-нибудь другом. Это что, его записная книжка?»
«Точно».
«Полистай-ка, должен же там быть кто-то живой-здоровый».
«Ладно. Листаю. А, Б, В! Все мертвы!»
«Проверь на Г, Д, Е и Ж!»
«Мертвы!»
Я захлопнул книжку, словно дверь склепа.
Он прав: его друзья, враги... книга мертвых.
«Это же ярко, напиши об этом».
«Боже мой, ярко! Придумай хоть что-нибудь!»
«Погоди. Какие чувства ты испытываешь к нему сейчас? Точно! Вот и зацепка! Возвращаемся!»
Я приоткрыл дверь и просунул голову внутрь.
— Все еще умираешь?
— А ты как думал?
— Вот упрямый осел.
Я вошел в комнату и встал у него над душой.
— Хочешь, чтобы я заткнулся? — спросил Уолтер.
— Ты не осел. Конь с норовом. Подожди, мне надо собраться с мыслями, чтобы вывалить все разом.
— Жду, — произнес Уолтер. — Только давай поскорее, я уже отхожу.
— Если бы. Так вот, слушай!
— Отойди подальше, ты на меня дышишь.
— Ну это же не «рот-в-рот», просто проверка в реальных условиях: так вот, слушай внимательно!
Уолтер удивленно заморгал:
— И это говорит мой старый друг, мой закадычный дружбан?
По лицу его пробежала тень.
— Нет. Никакой я тебе не друг.
— Брось, это же ты, дружище! — широко улыбаясь, проговорил он.
— Раз уж ты собрался помирать, настала пора для исповеди.
— Так ведь это я должен исповедоваться.
— Но сначала я!
Уолтер закрыл глаза и помолчал.
— Выкладывай, — сказал он.
— Помнишь, в шестьдесят девятом была недостача наличных, ты еще тогда подумал, что Сэм Уиллис прихватил их с собой в Мексику?
— Конечно, Сэм, кто же еще.
— Нет, это был я.
— Как так?
— А так, — сказал я. — Моих рук дело. Сэм сбежал с какой-то цыпочкой. А я прикарманил бабки и свалил все на него! Это я!
— Ну, это не такой уж тяжкий грех, — произнес Уолтер. — Я тебя прощаю.
— Подожди, это еще не все.
— Жду, — улыбнувшись, спокойно сказал Уолтер.
— Насчет школьного выпускного в пятьдесят восьмом.
— Да, подпортили мне вечерок. Мне досталась Дика-Энн Фрисби. А я хотел Мэри-Джейн Карузо.
— И ты бы ее получил. Это я рассказал Мэри-Джейн про все твои приключения с бабами, перечислил ей все твои подвиги!
— Ты это сделал? — Уолтер вытаращил на меня глаза. — Так это за тобой она увивалась на выпускном?
— Точно.
Уолтер в упор посмотрел на меня, но потом отвел взгляд.
— Ладно, черт с ним, что было, то давно быльем поросло. У тебя все?
— Не совсем.
— О господи! Это становится интересно. Выкладывай.
Уолтер ткнул кулаком подушку и лег, приподнявшись на локте.
— Потом была Генриетта Джордан.
— Бог мой, Генриетта. Красотка. Потрясающее было лето.
— Благодаря мне оно для тебя закончилось.
— Что?!
— Она ведь бросила тебя, да? Сказала, что ее мать при смерти и ей надо быть подле мамочки.
— Ты что, сбежал с Генриеттой?
— Точно. Пункт следующий: помнишь, я заставил тебя продать в убыток акции «Айронворкс»? На следующей неделе я купил, когда они пошли на повышение.
— Ну, это не страшно, — терпеливо произнес Уолтер.
— Далее, — продолжал я, — Барселона, шестьдесят девятый, я пожаловался на мигрень, отправился спать пораньше и прихватил с собой Кристину Лопес!
— Я частенько на нее заглядывался.
— Ты повышаешь голос.
— Правда?
— Далее, твоя жена! Мы с ней наставили тебе рога.
— Рога ?
— Не раз и не два, а раз сорок тебя сделали!
— Замолчи!
Уолтер в бешенстве вцепился в одеяло.
— Раскрой уши! Пока ты был в Панаме, мы с Эбби оттягивались тут по полной!
— Я бы узнал об этом.
— С каких это пор мужья узнают о таких вещах? Помнишь ее винный тур в Прованс?
— Было дело.
— А вот и нет. Она была в Париже и пила шампанское из моих ботинок для гольфа!
— Из ботинок для гольфа?!
— Париж был нашим гольф-клубом! А мы — чемпионами мира! Потом Марокко!
— Но она там никогда не была!
— Была, очень даже была! Рим! Угадай, кто был ее гидом?! Токио! Стокгольм!
— Но ее родители сами были шведами!
— Я вручал ей Нобелевскую премию. Брюссель, Москва, Шанхай, Бостон, Каир, Осло, Денвер, Дейтон!
— Замолчи, о боже, замолчи! Замолчи!
Я замолчал и, как в старых фильмах, отошел к окну и закурил сигарету.
Мне было слышно, как Уолтер плачет. Я обернулся и увидел, что он сидит, свесив ноги с кровати, и слезы капают с его носа на пол.
— Ты сукин сын! — всхлипнул он.
— Точно.
— У..!
— В самом деле.
— Чудовище!
— Правда?
— Мой лучший друг! Я убью тебя!
— Сначала поймай!
— А потом воскрешу и снова убью!
— Что это ты делаешь?
— Вылезаю из кровати, черт возьми! А ну, иди сюда!
— Нетушки, — я открыл дверь и выглянул наружу. — Пока.
— Я убью тебя, даже если на это уйдут годы!
— Ха ! Послушайте-ка его — годы!
— Даже если на это уйдет целая вечность!
— Вечность! Это круто! Тада-да-дам!
— Стой, черт возьми!
Уолтер, шатаясь, подошел ко мне.
— Сукин сын!
— Точно!
— У...!
— Аллилуйя! С Новым годом!
— Что?
— Прозит! Твое здоровье! Кем я тебе давеча был?
— Другом?
— Да, другом!
Я рассмеялся смехом врача-терапевта.
— Сукин сын! — прокричал Уолтер.
— Он самый, точно, это я!
Я выскочил за дверь и улыбнулся.
— Он самый!
Дверь с грохотом захлопнулась.
"И ГРЯНУЛ ГРОМ" РЭЙ БРЭДБЕРИ
ПРОБЛЕМЫ:
-ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОШЛОГО, НАСТОЯЩЕГО И БУДУЩЕГО
-ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ
-ЦЕНА ОШИБКИ
-ПОСЛЕДСТВИЯ НАУЧНО_ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА
-ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕКА ЗА ЕГО ДЕЙСТВИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ПРИРОДЕ И МИРУ.
Объявление на стене расплылось, словно его затянуло пленкой скользящей теплой воды; Экельс почувствовал, как веки, смыкаясь, на долю секунды прикрыли зрачки, но и в мгновенном мраке горели буквы:
А/О САФАРИ ВО ВРЕМЕНИ
ОРГАНИЗУЕМ САФАРИ В ЛЮБОЙ ГОД ПРОШЛОГО
ВЫ ВЫБИРАЕТЕ ДОБЫЧУ
МЫ ДОСТАВЛЯЕМ ВАС НА МЕСТО
ВЫ УБИВАЕТЕ ЕЕ
В глотке Экельса скопилась теплая слизь; он судорожно глотнул. Мускулы вокруг рта растянули губы в улыбку, когда он медленно поднял руку, в которой покачивался чек на десять тысяч долларов, предназначенный для человека за конторкой.
- Вы гарантируете, что я вернусь из сафари живым?
- Мы ничего не гарантируем, - ответил служащий, - кроме динозавров. - Он повернулся. - Вот мистер Тревис, он будет вашим проводником в Прошлое. Он скажет вам, где и когда стрелять. Если скажет "не стрелять", значит - не стрелять. Не выполните его распоряжения, по возвращении заплатите штраф - еще десять тысяч, кроме того, ждите неприятностей от правительства.
В дальнем конце огромного помещения конторы Экельс видел нечто причудливое и неопределенное, извивающееся и гудящее, переплетение проводов и стальных кожухов, переливающийся яркий ореол - то оранжевый, то серебристый, то голубой. Гул был такой, словно само Время горело на могучем костре, словно все годы, все даты летописей, все дни свалили в одну кучу и подожгли.
Одно прикосновение руки - и тотчас это горение послушно даст задний ход. Экельс помнил каждое слово объявления. Из пепла и праха, из пыли и золы восстанут, будто золотистые саламандры, старые годы, зеленые годы, розы усладят воздух, седые волосы станут черными, исчезнут морщины и складки, все и вся повернет вспять и станет семенем, от смерти ринется к своему истоку, солнца будут всходить на западе и погружаться в зарево востока, луны будут убывать с другого конца, все и вся уподобится цыпленку, прячущемуся в яйцо, кроликам, ныряющим в шляпу фокусника, все и вся познает новую смерть, смерть семени, зеленую смерть, возвращения в пору, предшествующую зачатию. И это будет сделано одним лишь движением руки...
- Черт возьми, - выдохнул Экельс; на его худом лице мелькали блики света от Машины - Настоящая Машина времени! - Он покачал головой. - Подумать только. Закончись выборы вчера иначе, и я сегодня, быть может, пришел бы сюда спасаться бегством. Слава богу, что победил Кейт. В Соединенных Штатах будет хороший президент.
- Вот именно, - отозвался человек за конторкой. - Нам повезло. Если бы выбрали Дойчера, не миновать нам жесточайшей диктатуры. Этот тип против всего на свете - против мира, против веры, против человечности, против разума. Люди звонили нам и справлялись - шутя, конечно, а впрочем... Дескать, если Дойчер будет президентом, нельзя ли перебраться в 1492 год. Да только не наше это дело - побеги устраивать. Мы организуем сафари. Так или иначе, Кейт - президент, и у вас теперь одна забота...
- ...убить моего динозавра, - закончил фразу Экельс.
- Tyrannosaurus rex. Громогласный Ящер, отвратительнейшее чудовище в истории планеты. Подпишите вот это. Что бы с вами ни произошло, мы не отвечаем. У этих динозавров зверский аппетит.
Экельс вспыхнул от возмущения.
- Вы пытаетесь испугать меня?
- По чести говоря, да. Мы вовсе не желаем отправлять в прошлое таких, что при первом же выстреле ударяются в панику. В том году погибло шесть руководителей и дюжина охотников. Мы предоставляем вам случай испытать самое чертовское приключение, о каком только может мечтать настоящий охотник. Путешествие на шестьдесят миллионов лет назад и величайшая добыча всех времен! Вот ваш чек. Порвите его.
Мистер Экельс долго, смотрел на чек. Пальцы его дрожали.
- Ни пуха, ни пера, - сказал человек за конторкой. - Мистер Тревис, займитесь клиентом.
Неся ружья в руках, они молча прошли через комнату к Машине, к серебристому металлу и рокочущему свету.
Сперва день, затем ночь, опять день, опять ночь; потом день - ночь, день - ночь, день. Неделя, месяц, год, десятилетие! 2055 год. 2019, 1999! 1957! Мимо! Машина ревела.
Они надели кислородные шлемы, проверили наушники.
Экельс качался на мягком сиденье - бледный, зубы стиснуты Он ощутил судорожную дрожь в руках, посмотрел вниз и увидел, как его пальцы сжали новое ружье. В машине было еще четверо. Тревис - руководитель сафари, его помощник Лесперанс и два охотника - Биллингс и Кремер. Они сидели, глядя друг на друга, а мимо, точно вспышки молний, проносились годы.
- Это ружье может убить динозавра? - вымолвили губы Экельса.
- Если верно попадешь, - ответил в наушниках Тревис. - У некоторых динозавров два мозга: один в голове, другой ниже по позвоночнику. Таких мы не трогаем. Лучше не злоупотреблять своей счастливой звездой. Первые две пули в глаза, если сумеете, конечно. Ослепили, тогда бейте в мозг.
Машина взвыла. Время было словно кинолента, пущенная обратным ходом. Солнца летели вспять, за ними мчались десятки миллионов лун.
- Господи, - произнес Экельс. - Все охотники, когда-либо жившие на свете, позавидовали бы нам сегодня. Тут тебе сама Африка покажется Иллинойсом.
Машина замедлила ход, вой сменился ровным гулом. Машина остановилась.
Солнце остановилось на небе.
Мгла, окружавшая Машину, рассеялась, они были в древности, глубокой-глубокой древности, три охотника и два руководителя, у каждого на коленях ружье - голубой вороненый ствол.
- Христос еще не родился, - сказал Тревис. - Моисей не ходил еще на гору беседовать с богом. Пирамиды лежат в земле, камни для них еще не обтесаны и не сложены. Помните об этом. Александр, Цезарь, Наполеон, Гитлер - никого из них нет.
Они кивнули.
- Вот, - мистер Тревис указал пальцем, - вот джунгли за шестьдесят миллионов две тысячи пятьдесят пять лет до президента Кейта.
Он показал на металлическую тропу, которая через распаренное болото уходила в зеленые заросли, извиваясь между огромными папоротниками и пальмами.
- А это, - объяснил он, - Тропа, проложенная здесь для охотников Компанией. Она парит над землей на высоте шести дюймов. Не задевает ни одного дерева, ни одного цветка, ни одной травинки. Сделана из антигравитационного металла. Ее назначение - изолировать вас от этого мира прошлого, чтобы вы ничего не коснулись. Держитесь Тропы. Не сходите с нее. Повторяю: не сходите с нее. Ни при каких обстоятельствах! Если свалитесь с нее - штраф. И не стреляйте ничего без нашего разрешения.
- Почему? - спросил Экельс.
Они сидели среди древних зарослей. Ветер нес далекие крики птиц, нес запах смолы и древнего соленого моря, запах влажной травы и кроваво-красных цветов.
- Мы не хотим изменять Будущее. Здесь, в Прошлом, мы незваные гости. Правительство не одобряет наши экскурсии. Приходится платить немалые взятки, чтобы нас не лишили концессии Машина времени - дело щекотливое. Сами того не зная, мы можем убить какое-нибудь важное животное, пичугу, жука, раздавить цветок и уничтожить важное звено в развитии вида.
- Я что-то не понимаю, - сказал Экельс.
- Ну так слушайте, - продолжал Тревис. - Допустим, мы случайно убили здесь мышь. Это значит, что всех будущих потомков этой мыши уже не будет - верно?
- Да.
- Не будет потомков от потомков от всех ее потомков! Значит, неосторожно ступив ногой, вы уничтожаете не одну, и не десяток, и не тысячу, а миллион - миллиард мышей!
- Хорошо, они сдохли, - согласился Экельс. - Ну и что?
- Что? - Тревис презрительно фыркнул. - А как с лисами, для питания которых нужны были именно эти мыши? Не хватит десяти мышей - умрет одна лиса. Десятью лисами меньше - подохнет от голода лев. Одним львом меньше - погибнут всевозможные насекомые и стервятники, сгинет неисчислимое множество форм жизни. И вот итог: через пятьдесят девять миллионов лет пещерный человек, один из дюжины, населяющей весь мир, гонимый голодом, выходит на охоту за кабаном или саблезубым тигром. Но вы, друг мой, раздавив одну мышь, тем самым раздавили всех тигров в этих местах. И пещерный человек умирает от голода. А этот человек, заметьте себе, не просто один человек, нет! Это целый будущий народ. Из его чресел вышло бы десять сыновей. От них произошло бы сто - и так далее, и возникла бы целая цивилизация. Уничтожьте одного человека - и вы уничтожите целое племя, народ, историческую эпоху. Это все равно что убить одного из внуков Адама. Раздавите ногой мышь - это будет равносильно землетрясению, которое исказит облик всей земли, в корне изменит наши судьбы. Гибель одного пещерного человека - смерть миллиарда его потомков, задушенных во чреве. Может быть, Рим не появится на своих семи холмах. Европа навсегда останется глухим лесом, только в Азии расцветет пышная жизнь. Наступите на мышь - и вы сокрушите пирамиды. Наступите на мышь - и вы оставите на Вечности вмятину величиной с Великий Каньон. Не будет королевы Елизаветы, Вашингтон не перейдет Делавер. Соединенные Штаты вообще не появятся. Так что будьте осторожны. Держитесь тропы. Никогда не сходите с нее!
- Понимаю, - сказал Экельс. - Но тогда, выходит, опасно касаться даже травы?
- Совершенно верно. Нельзя предсказать, к чему приведет гибель того или иного растения. Малейшее отклонение сейчас неизмеримо возрастет за шестьдесят миллионов лет. Разумеется, не исключено, что наша теория ошибочна. Быть может, мы не в состоянии повлиять на Время. А если и в состоянии - то очень незначительно. Скажем, мертвая мышь ведет к небольшому отклонению в мире насекомых, дальше - к угнетению вида, еще дальше - к неурожаю, депрессии, голоду, наконец, к изменениям социальным. А может быть, итог будет совсем незаметным - легкое дуновение, шепот, волосок, пылинка в воздухе, такое, что сразу не увидишь. Кто знает? Кто возьмется предугадать? Мы не знаем - только гадаем. И покуда нам не известно совершенно точно, что наши вылазки во Времени для истории - гром или легкий шорох, надо быть чертовски осторожным. Эта Машина, эта Тропа, ваша одежда, вы сами, как вам известно, - все обеззаражено. И назначение этих кислородных шлемов - помешать нам внести в древний воздух наши бактерии.
- Но откуда мы знаем, каких зверей убивать?
- Они помечены красной краской, - ответил Тревис. - Сегодня, перед нашей отправкой, мы послали сюда на Машине Лесперанса. Он побывал как раз в этом времени и проследил за некоторыми животными.
- Изучал их?
- Вот именно, - отозвался Лесперанс. - Я прослеживаю всю их жизнь и отмечаю, какие особи живут долго. Таких очень мало. Сколько раз они спариваются. Редко... Жизнь коротка. Найдя зверя, которого подстерегает смерть под упавшим деревом или в асфальтовом озере, я отмечаю час, минуту, секунду, когда он гибнет. Затем стреляю красящей пулей. Она оставляет на коже красную метку. Когда экспедиция отбывает в Прошлое, я рассчитываю все так, чтобы мы явились минуты за две до того, как животное все равно погибнет. Так что мы убиваем только те особи, у которых нет будущего, которым и без того уже не спариться. Видите, насколько мы осторожны?
- Но если вы утром побывали здесь, - взволнованно заговорил Экельс, - то должны были встретить нас, нашу экспедицию! Как она прошла? Успешно? Все остались живы?
Тревис и Лесперанс переглянулись.
- Это был бы парадокс, - сказал Лесперанс. - Такой путаницы, чтобы человек встретил самого себя, Время не допускает. Если возникает такая опасность. Время делает шаг в сторону. Вроде того, как самолет проваливается в воздушную яму. Вы заметили, как Машину тряхнуло перед самой нашей остановкой? Это мы миновали самих себя по пути обратно в Будущее. Но мы не видели ничего. Поэтому невозможно сказать, удалась ли наша экспедиция, уложили ли мы зверя, вернулись ли мы - вернее, вы, мистер Экельс, - обратно живые.
Экельс бледно улыбнулся.
- Ну, все, - отрезал Тревис. - Встали!
Пора было выходить из Машины.
Джунгли были высокие, и джунгли были широкие, и джунгли были навеки всем миром. Воздух наполняли звуки, словно музыка, словно паруса бились в воздухе - это летели, будто исполинские летучие мыши из кошмара, из бреда, махая огромными, как пещерный свод, серыми крыльями, птеродактили. Экельс, стоя на узкой Тропе, шутя прицелился.
- Эй, бросьте! - скомандовал Тревис. - Даже в шутку не цельтесь, черт бы вас побрал! Вдруг выстрелит...
Экельс покраснел.
- Где же наш Tyrannosaurus rex?
Лесперанс взглянул на свои часы.
- На подходе. Мы встретимся ровно через шестьдесят секунд. И ради бога - не прозевайте красное пятно. Пока не скажем, не стрелять. И не сходите с Тропы. Не сходите с тропы!
Они шли навстречу утреннему ветерку.
- Странно, - пробормотал Экельс. - Перед нами - шестьдесят миллионов лет. Выборы прошли. Кейт стал президентом. Все празднуют победу. А мы - здесь, все эти миллионы лет словно ветром сдуло, их нет. Всего того, что заботило нас на протяжении нашей жизни, еще нет и в помине, даже в проекте.
- Приготовиться! - скомандовал Тревис. - Первый выстрел ваш, Экельс. Биллингс - второй номер. За ним - Кремер.
- Я охотился на тигров, кабанов, буйволов, слонов, но видит бог - это совсем другое дело, - произнес Экельс. - Я дрожу, как мальчишка.
- Тихо, - сказал Тревис.
Все остановились.
Тревис поднял руку.
- Впереди, - прошептал он. - В тумане. Он там. Встречайте Его Королевское Величество.
Безбрежные джунгли были полны щебета, шороха, бормотанья, вздохов.
Вдруг все смолкло, точно кто-то затворил дверь.
Тишина.
Раскат грома.
Из мглы ярдах в ста впереди появился Tyrannosaurus rex.
- Силы небесные, - пролепетал Экельс.
- Тсс!
Оно шло на огромных, лоснящихся, пружинящих, мягко ступающих ногах.
Оно за тридцать футов возвышалось над лесом - великий бог зла, прижавший хрупкие руки часовщика к маслянистой груди рептилии. Ноги - могучие поршни, тысяча фунтов белой кости, оплетенные тугими каналами мышц под блестящей морщинистой кожей, подобной кольчуге грозного воина. Каждое бедро - тонна мяса, слоновой кости и кольчужной стали. А из громадной вздымающейся грудной клетки торчали две тонкие руки, руки с пальцами, которые могли подобрать и исследовать человека, будто игрушку. Извивающаяся змеиная шея легко вздымала к небу тысячекилограммовый каменный монолит головы. Разверстая пасть обнажала частокол зубов-кинжалов. Вращались глаза - страусовые яйца, не выражая ничего, кроме голода. Оно сомкнуло челюсти в зловещем оскале. Оно побежало, и задние ноги смяли кусты и деревья, и когти вспороли сырую землю, оставляя следы шестидюймовой глубины. Оно бежало скользящим балетным шагом, неправдоподобно уверенно и легко для десятитонной махины. Оно настороженно вышло на залитую солнцем прогалину и пощупало воздух своими красивыми чешуйчатыми руками.
- Господи! - Губы Экельса дрожали. - Да оно, если вытянется, луну достать может.
- Тсс! - сердито зашипел Тревис. - Он еще не заметил нас.
- Его нельзя убить. - Экельс произнес это спокойно, словно заранее отметал все возражения. Он взвесил показания очевидцев и вынес окончательное решение. Ружье в его руках было словно пугач. - Идиоты, и что нас сюда принесло... Это же невозможно.
- Молчать! - рявкнул Тревис.
- Кошмар...
- Кру-гом! - скомандовал Тревис. - Спокойно возвращайтесь в Машину. Половина суммы будет вам возвращена.
- Я не ждал, что оно окажется таким огромным, - сказал Экельс. - Одним словом, просчитался. Нет, я участвовать не буду.
- Оно заметило нас!
- Вон красное пятно на груди!
Громогласный Ящер выпрямился. Его бронированная плоть сверкала, словно тысяча зеленых монет. Монеты покрывала жаркая слизь. В слизи копошились мелкие козявки, и все тело переливалось, будто по нему пробегали волны, даже когда чудовище стояло неподвижно. Оно глухо дохнуло. Над поляной повис запах сырого мяса.
- Помогите мне уйти, - сказал Экельс. - Раньше все было иначе. Я всегда знал, что останусь жив. Были надежные проводники, удачные сафари, никакой опасности. На сей раз я просчитался. Это мне не по силам. Признаюсь. Орешек мне не по зубам.
- Не бегите, - сказал Лесперанс. - Повернитесь кругом. Спрячьтесь в Машине.
- Да. - Казалось, Экельс окаменел. Он поглядел на свои ноги, словно пытался заставить их двигаться. Он застонал от бессилия.
- Экельс!
Он сделал шаг - другой, зажмурившись, волоча ноги.
- Не в ту сторону!
Едва он двинулся с места, как чудовище с ужасающим воем ринулось вперед. Сто ярдов оно покрыло за четыре секунды. Ружья взметнулись вверх и дали залп. Из пасти зверя вырвался ураган, обдав людей запахом слизи и крови. Чудовище взревело, его зубы сверкали на солнце.
Не оглядываясь, Экельс слепо шагнул к краю Тропы, сошел с нее и, сам того не сознавая, направился в джунгли; ружье бесполезно болталось в руках. Ступни тонули в зеленом мху, ноги влекли его прочь, он чувствовал себя одиноким и далеким от того, что происходило за его спиной.
Снова затрещали ружья. Выстрелы потонули в громовом реве ящера. Могучий хвост рептилии дернулся, точно кончик бича, и деревья взорвались облаками листьев и веток. Чудовище протянуло вниз свои руки ювелира - погладить людей, разорвать их пополам, раздавить, как ягоды, и сунуть в пасть, в ревущую глотку! Глыбы глаз очутились возле людей. Они увидели свое отражение. Они открыли огонь по металлическим векам и пылающим черным зрачкам.
Словно каменный идол, словно горный обвал, рухнул. Tyrannosaurus rex.
Рыча, он цеплялся за деревья и валил их. Зацепил и смял металлическую Тропу. Люди бросились назад, отступая. Десять тонн холодного мяса, как утес, грохнулись оземь. Ружья дали еще залп. Чудовище ударило бронированным хвостом, щелкнуло змеиными челюстями и затихло. Из горла фонтаном била кровь. Где-то внутри лопнул бурдюк с жидкостью, и зловонный поток захлестнул охотников. Они стояли неподвижно, облитые чем-то блестящим, красным.
Гром смолк.
В джунглях воцарилась тишина. После обвала - зеленый покой. После кошмара - утро.
Биллингс и Кремер сидели на Тропе; им было плохо. Тревис и Лесперанс стояли рядом, держа дымящиеся ружья и чертыхаясь.
Экельс, весь дрожа, лежал ничком в Машине Времени. Каким-то образом он выбрался обратно на Тропу и добрел до Машины.
Подошел Тревис, глянул на Экельса, достал из ящика марлю и вернулся к тем, что сидели на Тропе.
- Оботритесь.
Они стерли со шлемов кровь. И тоже принялись чертыхаться. Чудовище лежало неподвижно. Гора мяса, из недр которой доносилось бульканье, вздохи - это умирали клетки, органы переставали действовать, и соки последний раз текли по своим ходам, все отключалось, навсегда выходя из строя. Точно вы стояли возле разбитого паровоза или закончившего рабочий день парового катка - все клапаны открыты или плотно зажаты. Затрещали кости: вес мышц, ничем не управляемый - мертвый вес, - раздавил тонкие руки, притиснутые к земле. Колыхаясь, оно приняло покойное положение.
Вдруг снова грохот. Высоко над ними сломался исполинский сук. С гулом он обрушился на безжизненное чудовище, как бы окончательно утверждая его гибель.
- Так. - Лесперанс поглядел на часы. - Минута в минуту. Это тот самый сук, который должен был его убить. - Он обратился к двум охотникам. - Фотография трофея вам нужна?
- Что?
- Мы не можем увозить добычу в Будущее. Туша должна лежать здесь, на своем месте, чтобы ею могли питаться насекомые, птицы, бактерии. Равновесие нарушать нельзя. Поэтому добычу оставляют. Но мы можем сфотографировать вас возле нее.
Охотники сделали над собой усилие, пытаясь думать, но сдались, тряся головой.
Они послушно дали отвести себя в Машину. Устало опустились на сиденья. Тупо оглянулись на поверженное чудовище - немой курган. На остывающей броне уже копошились золотистые насекомые, сидели причудливые птицеящеры.
Внезапный шум заставил охотников оцепенеть: на полу Машины, дрожа, сидел Экельс.
- Простите меня, - сказал он.
- Встаньте! - рявкнул Тревис.
Экельс встал.
- Ступайте на Тропу, - скомандовал Тревис. Он поднял ружье. - Вы не вернетесь с Машиной. Вы останетесь здесь!
Лесперанс перехватил руку Тревиса.
- Постой...
- А ты не суйся! - Тревис стряхнул его руку. - Из-за этого подонка мы все чуть не погибли. Но главное даже не это. Нет, черт возьми, ты погляди на его башмаки! Гляди! Он соскочил с Тропы. Понимаешь, чем это нам грозит? Один бог знает, какой штраф нам прилепят! Десятки тысяч долларов! Мы гарантируем, что никто не сойдет с Тропы. Он сошел. Идиот чертов! Я обязан доложить правительству. И нас могут лишить концессии на эти сафари. А какие последствия будут для Времени, для Истории?!
- Успокойся, он набрал на подошвы немного грязи - только и всего.
- Откуда мы можем знать? - крикнул Тревис. - Мы ничего не знаем! Это же все сплошная загадка! Шагом марш, Экельс!
Экельс полез в карман.
- Я заплачу сколько угодно. Сто тысяч долларов! Тревис покосился на чековую книжку и плюнул.
- Ступайте! Чудовище лежит возле Тропы. Суньте ему руки по локоть в пасть. Потом можете вернуться к нам.
- Это несправедливо!
- Зверь мертв, у... несчастный. Пули! Пули не должны оставаться здесь, в Прошлом. Они могут повлиять на развитие. Вот вам нож. Вырежьте их!
Джунгли опять пробудились к жизни и наполнились древними шорохами, птичьими голосами. Экельс медленно повернулся и остановил взгляд на доисторической падали, глыбе кошмаров и ужасов. Наконец, словно лунатик, побрел по Тропе.
Пять минут спустя он, дрожа всем телом, вернулся к Машине, его руки были по локоть красны от крови.
Он протянул вперед обе ладони. На них блестели стальные пули. Потом он упал. Он лежал там, где упал недвижимый.
- Напрасно ты его заставил это делать, - сказал Лесперанс.
- Напрасно! Об этом рано судить. - Тревис толкнул неподвижное тело. - Не помрет. Больше его не потянет за такой добычей. А теперь, - он сделал вялый жест рукой, - включай. Двигаемся домой.
1492. 1776. 1812
Они умыли лицо и руки. Они сняли заскорузлые от крови рубахи, брюки и надели все чистое. Экельс пришел в себя, но сидел молча. Тревис добрых десять минут в упор смотрел на него.
- Не глядите на меня, - вырвалось у Экельса. - Я ничего не сделал.
- Кто знает.
- Я только соскочил с Тропы и вымазал башмаки глиной. Чего вы от меня хотите? Чтобы я вас на коленях умолял?
- Это не исключено. Предупреждаю Вас, Экельс, может еще случиться, что я вас убью. Ружье заряжено.
- Я не виноват. Я ничего не сделал.
1999. 2000. 2055.
Машина остановилась.
- Выходите, - скомандовал Тревис.
Комната была такая же, как прежде. Хотя нет, не совсем такая же. Тот же человек сидел за той же конторкой. Нет, не совсем тот же человек, и конторка не та же.
Тревис быстро обвел помещение взглядом.
- Все в порядке? - буркнул он.
- Конечно. С благополучным возвращением!
Но настороженность не покидала Тревиса. Казалось, он проверяет каждый атом воздуха, придирчиво исследует свет солнца, падающий из высокого окна.
- О'кей, Экельс, выходите. И больше никогда не попадайтесь мне на глаза.
Экельс будто окаменел.
- Ну? - поторопил его Тревис. - Что вы там такое увидели?
Экельс медленно вдыхал воздух - с воздухом что-то произошло, какое-то химическое изменение, настолько незначительное, неуловимое, что лишь слабый голос подсознания говорил Экельсу о перемене. И краски - белая, серая, синяя, оранжевая, на стенах, мебели, в небе за окном - они... они... да: что с ними случилось? А тут еще это ощущение. По коже бегали мурашки. Руки дергались. Всеми порами тела он улавливал нечто странное, чужеродное. Будто где-то кто-то свистнул в свисток, который слышат только собаки. И его тело беззвучно откликнулось. За окном, за стенами этого помещения, за спиной человека (который был не тем человеком) у перегородки (которая была не той перегородкой) - целый мир улиц и людей. Но как отсюда определить, что это за мир теперь, что за люди? Он буквально чувствовал, как они движутся там, за стенами, - словно шахматные фигурки, влекомые сухим ветром...
Зато сразу бросалось в глаза объявление на стене, объявление, которое он уже читал сегодня, когда впервые вошел сюда.
Что-то в нем было не так.
А/О СОФАРИ ВОВРЕМЕНИ
АРГАНИЗУЕМ СОФАРИ ВЛЮБОЙ ГОД ПРОШЛОГО
ВЫ ВЫБЕРАЕТЕ ДАБЫЧУ
МЫ ДАСТАВЛЯЕМ ВАС НАМЕСТО
ВЫ УБЕВАЕТЕ ЕЕ
Экельс почувствовал, что опускается на стул. Он стал лихорадочно скрести грязь на башмаках. Его дрожащая рука подняла липкий ком.
- Нет, не может быть! Из-за такой малости... Нет!
На комке было отливающее зеленью, золотом и чернью пятно - бабочка, очень красивая... мертвая.
- Из-за такой малости! Из-за бабочки! - закричал Экельс.
Она упала на пол - изящное маленькое создание, способное нарушить равновесие, повалились маленькие костяшки домино... большие костяшки... огромные костяшки, соединенные цепью неисчислимых лет, составляющих Время. Мысли Экельса смещались. Не может быть, чтобы она что-то изменила. Мертвая бабочка - и такие последствия? Невозможно!
Его лицо похолодело Непослушными губами он вымолвил:
- Кто... кто вчера победил на выборах?
Человек за конторкой хихикнул.
- Шутите? Будто не знаете! Дойчер, разумеется! Кто же еще? Уж не этот ли хлюпик Кейт? Теперь у власти железный человек! - Служащий опешил. - Что это с вами?
Экельс застонал. Он упал на колени. Дрожащие пальцы протянулись к золотистой бабочке.
- Неужели нельзя, - молил он весь мир, себя, служащего, Машину, - вернуть ее туда, оживить ее? Неужели нельзя начать все сначала? Может быть...
Он лежал неподвижно. Лежал, закрыв глаза, дрожа, и ждал. Он отчетливо слышал тяжелое дыхание Тревиса, слышал, как Тревис поднимает ружье и нажимает курок.
И грянул гром.
БУДЕТ ЛАСКОВЫЙ ДОЖДЬ РЭЙ БРЭДБЕРИ
ПРОБЛЕМЫ:
-ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОШЛОГО, НАСТОЯЩЕГО И БУДУЩЕГО
-ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ
-ЦЕНА ОШИБКИ
-ПОСЛЕДСТВИЯ НАУЧНО_ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА
-ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕКА ЗА ЕГО ДЕЙСТВИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ПРИРОДЕ И МИРУ.
В гостиной говорящие часы настойчиво пели: тик-так, семь часов, семь утра, вставать пора! — словно боясь, что их никто не послушает. Объятый утренней тишиной дом был пуст. Часы продолжали тикать и твердили, твердили свое в пустоту: девять минут восьмого, к завтраку все готово, девять минут восьмого!
На кухне печь сипло вздохнула и исторгла из своего жаркого чрева восемь безупречно поджаренных тостов, четыре глазуньи, шестнадцать ломтиков бекона, две чашки кофе и два стакана холодного молока.
— Сегодня в городе Эллендейле, штат Калифорния, четвертое августа две тысячи двадцать шестого года, — произнес другой голос, с потолка кухни. Он повторил число трижды, чтобы получше запомнили. — Сегодня день рождения мистера Фезерстоуна Годовщина свадьбы Тилиты. Подошел срок страхового взноса, пора платить за воду, газ, свет.
Где то в стенах щелкали реле, перед электрическими глазами скользили ленты памятки.
Восемь одна, тик-так, восемь одна, в школу пора, на работу пора, живо, живо, восемь одна! Но не хлопали двери, и не слышалось мягкой поступи резиновых каблуков по коврам.
На улице шел дождь. Метеокоробка на наружной двери тихо пела: «Дождик, дождик целый день, плащ, галоши ты надень…» Дождь гулко барабанил по крыше пустого дома.
Во дворе зазвонил гараж, поднимая дверь, за которой стояла готовая к выезду автомашина… Минута, другая — дверь опустилась на место.
В восемь тридцать яичница сморщилась, а тосты стали каменными. Алюминиевая лопаточка сбросила их в раковину, оттуда струя горячей воды увлекла их в металлическую горловину, которая все растворяла и отправляла через канализацию в далекое море. Грязные тарелки нырнули в горячую мойку и вынырнули из нее, сверкая сухим блеском.
Девять пятнадцать, — пропели часы, — пора уборкой заняться.
Из нор в стене высыпали крохотные роботы-мыши. Во всех помещениях кишели маленькие суетливые уборщики из металла и резины Они стукались о кресла, вертели своими щетинистыми роликами, ерошили ковровый ворс, тихо высасывая скрытые пылинки. Затем исчезли, словно неведомые пришельцы, юркнули в свои убежища Их розовые электрические глазки потухли. Дом был чист.
Десять часов. Выглянуло солнце, тесня завесу дождя. Дом стоял одиноко среди развалин и пепла. Во всем городе он один уцелел. Ночами разрушенный город излучал радиоактивное сияние, видное на много миль вокруг.
Десять пятнадцать. Распылители в саду извергли золотистые фонтаны, наполнив ласковый утренний воздух волнами сверкающих водяных бусинок. Вода струилась по оконным стеклам, стекала по обугленной западной стене, на которой белая краска начисто выгорела. Вся западная стена была черной, кроме пяти небольших клочков. Вот краска обозначила фигуру мужчины, катящего травяную косилку. А вот, точно на фотографии, женщина нагнулась за цветком. Дальше еще силуэты, выжженные на дереве в одно титаническое мгновение… Мальчишка вскинул вверх руки, над ним застыл контур подброшенного мяча, напротив мальчишки — девочка, ее руки подняты, ловят мяч, который так и не опустился
Только пять пятен краски — мужчина, женщина, дети, мяч. Все остальное тонкий слой древесного угля.
Тихий дождь из распылителя наполнил сад падающими искрами света…
Как надежно оберегал дом свой покой вплоть до этого дня! Как бдительно он спрашивал: «Кто там? Пароль?» И, не получая нужного ответа от одиноких лис и жалобно мяукающих котов, затворял окна и опускал шторы с одержимостью старой девы. Самосохранение, граничащее с психозом, — если у механизмов может быть паранойя.
Этот дом вздрагивал от каждого звука. Стоило воробью задеть окно крылом, как тотчас громко щелкала штора и перепуганная птица летела прочь. Никто даже воробей — не смел прикасаться к дому!
Дом был алтарем с десятью тысячами священнослужителей и прислужников, больших и маленьких, они служили и прислуживали, и хором пели славу. Но боги исчезли, и ритуал продолжался без смысла и без толку.
Двенадцать.
У парадного крыльца заскулил продрогнувший пес.
Дверь сразу узнала собачий голос и отворилась. Пес, некогда здоровенный, сытый, а теперь кожа да кости, весь в парше, вбежал в дом, печатая грязные следы. За ним суетились сердитые мыши — сердитые, что их потревожили, что надо снова убирать!
Ведь стоило малейшей пылинке проникнуть внутрь сквозь щель под дверью, как стенные панели мигом приподнимались, и оттуда выскакивали металлические уборщики. Дерзновенный клочок бумаги, пылинка или волосок исчезали в стенах, пойманные крохотными стальными челюстями. Оттуда по трубам мусор спускался в подвал, в гудящее чрево мусоросжигателя, который злобным Ваалом притаился в темном углу.
Пес побежал наверх, истерически лая перед каждой дверью, пока не понял как это уже давно понял дом, — что никого нет, есть только мертвая тишина.
Он принюхался и поскреб кухонную дверь, потом лег возле нее, продолжая нюхать. Там, за дверью, плита пекла блины, от которых по всему дому шел сытный дух и заманчивый запах кленовой патоки.
Собачья пасть наполнилась пеной, в глазах вспыхнуло пламя. Пес вскочил, заметался, кусая себя за хвост, бешено завертелся и сдох. Почти час пролежал он в гостиной.
Два часа, — пропел голос.
Учуяв наконец едва приметный запах разложения, из нор с жужжанием выпорхнули полчища мышей, легко и стремительно, словно сухие листья, гонимые электрическим веером.
Два пятнадцать.
Пес исчез.
Мусорная печь в подвале внезапно засветилась пламенем, и через дымоход вихрем промчался сноп искр.
Два тридцать пять.
Из стен внутреннего дворика выскочили карточные столы. Игральные карты, мелькая очками, разлетелись по местам. На дубовом прилавке появились коктейли и сэндвичи с яйцом. Заиграла музыка.
Но столы хранили молчание, и никто не брал карт.
В четыре часа столы сложились, словно огромные бабочки, и вновь ушли в стены.
Половина пятого.
Стены детской комнаты засветились.
На них возникли животные: желтые жирафы, голубые львы, розовые антилопы, лиловые пантеры прыгали в хрустальной толще. Стены были стеклянные, восприимчивые к краскам и игре воображения. Скрытые киноленты заскользили по зубцам с бобины на бобину, и стены ожили. Пол детской колыхался, напоминая волнуемое ветром поле, и по нему бегали алюминиевые тараканы и железные сверчки, а в жарком неподвижном воздухе, в остром запахе звериных следов, порхали бабочки из тончайшей розовой ткани! Слышался звук, как от огромного, копошащегося в черной пустоте кузнечных мехов роя пчел: ленивое урчание сытого льва. Слышался цокот копыт окапи и шум освежающего лесного дождя, шуршащего по хрупким стеблям жухлой травы. Вот стены растаяли, растворились в необозримых просторах опаленных солнцем лугов и бездонного жаркого неба. Животные рассеялись по колючим зарослям и водоемам.
Время детской передачи.
Пять часов. Ванна наполнилась прозрачной горячей водой.
Шесть, семь, восемь часов. Блюда с обедом проделали удивительные фокусы, потом что-то щелкнуло в кабинете, и на металлическом штативе возле камина, в котором разгорелось уютное пламя, вдруг возникла курящаяся сигара с шапочкой мягкого серого пепла.
Девять часов. Невидимые провода согрели простыни — здесь было холодно по ночам.
Девять ноль пять. В кабинете с потолка донесся голос:
— Миссис Маклеллан, какое стихотворение хотели бы вы услышать сегодня?
Дом молчал.
Наконец голос сказал:
— Поскольку вы не выразили никакого желания, я выберу что-нибудь наудачу.
Зазвучал тихий музыкальный аккомпанемент.
— Сара Тисдейл. Ваше любимое, если не ошибаюсь…
Будет ласковый дождь, будет запах земли.
Щебет юрких стрижей от зари до зари,
И ночные рулады лягушек в прудах.
И цветение слив в белопенных садах;
Огнегрудый комочек слетит на забор,
И малиновки трель выткет звонкий узор.
И никто, и никто не вспомянет войну
Пережито-забыто, ворошить ни к чему
И ни птица, ни ива слезы не прольет,
Если сгинет с Земли человеческий род
И весна… и Весна встретит новый рассвет
Не заметив, что нас уже нет.
В камине трепетало, угасая, пламя, сигара осыпалась кучкой немого пепла. Между безмолвных стен стояли одно против другого пустые кресла, играла музыка.
В десять часов наступила агония.
Подул ветер. Сломанный сук, падая с дерева, высадил кухонное окно. Бутылка пятновыводителя разбилась вдребезги о плиту. Миг — и вся кухня охвачена огнем!
— Пожар! — послышался крик. Лампы замигали, с потолков, нагнетаемые насосами, хлынули струи воды. Но горючая жидкость растекалась по линолеуму, она просочилась, нырнула под дверь и уже целый хор подхватил:
— Пожар! Пожар! Пожар!
Дом старался выстоять. Двери плотно затворились, но оконные стекла полопались от жара, и ветер раздувал огонь.
Под натиском огня, десятков миллиардов сердитых искр, которые с яростной бесцеремонностью летели из комнаты в комнату и неслись вверх по лестнице, дом начал отступать.
Еще из стен, семеня, выбегали суетливые водяные крысы, выпаливали струи воды и возвращались за новым запасом. И стенные распылители извергали каскады механического дождя. Поздно. Где-то с тяжелым вздохом, передернув плечами, замер насос. Прекратился дождь-огнеборец. Иссякла вода в запасном баке, который много — много дней питал ванны и посудомойки.
Огонь потрескивал, пожирая ступеньку за ступенькой. В верхних комнатах он, словно гурман, смаковал картины Пикассо и Матисса, слизывая маслянистую корочку и бережно скручивая холсты черной стружкой.
Он добрался до кроватей, вот уже скачет по подоконникам, перекрашивает портьеры!
Но тут появилось подкрепление.
Из чердачных люков вниз уставились незрячие лица роботов, изрыгая ртамифорсунками зеленые химикалии.
Огонь попятился: даже слон пятится при виде мертвой змеи. А тут по полу хлестало двадцать змей, умерщвляя огонь холодным чистым ядом зеленой пены.
Но огонь был хитер, он послал языки пламени по наружной стене вверх, на чердак, где стояли насосы. Взрыв! Электронный мозг, управлявший насосами, бронзовой шрапнелью вонзился в балки.
Потом огонь метнулся назад и обошел все чуланы, щупая висящую там одежду.
Дом содрогнулся, стуча дубовыми костями, его оголенный скелет корчился от жара, сеть проводов — его нервы — обнажилась, словно некий хирург содрал с него кожу, чтобы красные вены и капилляры трепетали в раскаленном воздухе. Караул, караул! Пожар! Бегите, спасайтесь! Огонь крошил зеркала, как хрупкий зимний лед. А голоса причитали: «Пожар, пожар, бегите, спасайтесь!» Словно печальная детская песенка, которую в двенадцать голосов, кто громче, кто тише, пели умирающие дети, брошенные в глухом лесу. Но голоса умолкали один за другим по мере того, как лопалась, подобно жареным каштанам, изоляция на проводах. Два, три, четыре, пять голосов заглохли.
В детской комнате пламя объяло джунгли. Рычали голубые львы, скакали пурпурные жирафы. Пантеры метались по кругу, поминутно меняя окраску; десять миллионов животных, спасаясь от огня, бежали к кипящей реке вдали…
Еще десять голосов умерли. В последний миг сквозь гул огневой лавины можно было различить хор других, сбитых с толку голосов, еще объявлялось время, играла музыка, метались по газону телеуправляемые косилки, обезумевший зонт прыгал взад-вперед через порог наружной двери, которая непрерывно то затворялась, то отворялась, — одновременно происходила тысяча вещей, как в часовой мастерской, когда множество часов вразнобой лихорадочно отбивают время: то был безумный хаос, спаянный в некое единство; песни, крики, и последние мыши-мусорщики храбро выскакивали из нор — расчистить, убрать этот ужасный, отвратительный пепел! А один голос с полнейшим пренебрежением к происходящему декламировал стихи в пылающем кабинете, пока не сгорели все пленки, не расплавились провода, не рассыпались все схемы.
И наконец, пламя взорвало дом, и он рухнул пластом, разметав каскады дыма и искр.
На кухне, за мгновение до того, как посыпались головни и горящие балки, плита с сумасшедшей скоростью готовила завтраки: десять десятков яиц, шесть батонов тостов, двести ломтей бекона — и все, все пожирал огонь, понуждая задыхающуюся печь истерически стряпать еще и еще!
Грохот. Чердак провалился в кухню и в гостиную, гостиная — в цокольный этаж, цокольный этаж — в подвал. Холодильники, кресла, ролики с фильмами, кровати, электрические приборы — все рухнуло вниз обугленными скелетами.
Дым и тишина Огромные клубы дыма.
На востоке медленно занимался рассвет. Только одна стена осталась стоять среди развалин Из этой стены говорил последний одинокий голос, солнце уже осветило дымящиеся обломки, а он все твердил:
— СЕГОДНЯ 5 АВГУСТА 2026 ГОДА, СЕГОДНЯ 5 АВГУСТА 2026 ГОДА, сегодня…
"ОНО". УМБЕРТО ЭКО.
ПРОБЛЕМЫ:
- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧЕНЫХ ЗА СВОИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
- ЦЕЛЬ И СРЕДСТВА
- НЕНАВИСТЬ, ЖЕСТОКОСТЬ
- РАЗРУШИТЕЛЬНОСТЬ ВОЙНЫ
- ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НАУКИ
– Как успехи, Профессор? – Генерал с трудом сдерживал нетерпение.
– Какие успехи? – переспросил Профессор Ка, он явно медлил с ответом.
– Целых пять лет вы работаете здесь внизу, и никто вас ни разу не побеспокоил. Мы доверяем вам. Но сколько же можно верить на слово?! Пора предъявить работу.
В голосе генерала слышалась угроза, и Ка устало махнул рукой, потом улыбнулся:
– Вы попали в точку, Генерал. Я намеревался еще подождать. Но вы меня раззадорили. Я сделал Его, – Профессор перешел на шепот, – и, клянусь Солнцем, пора показать Его миру!
Он жестом пригласил Генерала в пещеру. Ка провел гостя в самую глубину, туда, где сквозь узкое отверстие в стене пробивался тонкий луч света. Там на ровном и гладком уступе лежало Оно.
По форме Оно напоминало миндальный орех, имело множество мелких граней и блестело.
– Но ведь это… – Генерал растерялся. – Это камень.
В голубых глазах Профессора, спрятанных под густыми косматыми бровями, мелькнули лукавые искорки:
– Да, – подтвердил он. – Камень. Но не такой, как все. Мы не станем попирать его ногами.
Лучше возьмем его в руку.
– В руку?
– Именно, Генерал. В этом камне сосредоточена великая сила, о которой до сих пор и не смело мечтать человечество, мощь, равная мощи миллиона людей. Смотрите…
Он положил руку на камень; сжал пальцы и крепко обхватил его, затем поднял. Рука плотно обнимала камень, широкая часть лежала на ладони, а острый конец торчал наружу и смотрел то вверх, то вниз, то на Генерала – в зависимости от движений руки Профессора. Профессор сделал резкий выпад, и конец камня прочертил в воздухе траекторию. Профессор рубанул сверху вниз, на пути острия оказалась хрупкая порода уступа и – о чудо! – камень вошел в нее, врезался, сделал трещину. Профессор ударил еще и еще раз – образовалась выемка, потом глубокая воронка, он дробил, крошил породу, превращал ее а порошок.
Генерал следил широко раскрытыми глазами, затаив дыхание.
– Невероятно, – проговорил он, сглатывая слюну.
– Это что, – торжествовал Профессор, – сущие пустяки! Хотя пальцами вы ничего подобного все равно бы не сделали. Теперь смотрите! – Ученый взял большой кокосовый орех, лежавший в углу, шершавый, крепкий – не подступишься! – и протянул его Генералу:
– Ну же, сожмите обеими руками, раздавите его.
– Перестаньте, Ка, – голос Генерала дрогнул. – Вы прекрасно знаете, что это невозможно, никто из нас не способен сделать этого… Только динозавр – ударом лапы, и только динозавр лакомится мякотью и пьет сок…
– Хорошо, а теперь, – Профессор пришел в возбуждение, – а теперь смотрите!
Он взял орех, положил на уступ в только что выбитую выемку, и схватил камень, но по-другому, за острый конец, так, что широкая часть оказалась снаружи. Потом быстро ударил по ореху – казалось, без большого усилия – и разбил его вдребезги. Кокосовое молоко растеклось по уступу, а в углублении остались куски скорлупы с белой сочной мякотью, свежей и аппетитной. Генерал схватил кусок и с жадностью впился в него зубами. Он смотрел на камень, на Ка, на остатки кокосового ореха. Он был ошеломлен.
– Клянусь Солнцем, Ка! Это замечательная вещь. Сила человека возросла в сотни раз, теперь ему не страшен никакой динозавр. Он стал хозяином скалы и деревьев. У него появилась еще одна рука, да что я говорю… сотня рук! Где вы нашли Его.
Ка самодовольно усмехнулся:
– Я не нашел Его. Я Его сделал.
– Сделали? Что вы хотите этим сказать?
– Это значит, что раньше Его не существовало.
– Вы сошли с ума, Ка, – генерал задрожал. – Должно быть, Оно упало с неба; наверное, Его принес гонец Солнца, один из духов воздуха… Как можно сделать то, чего раньше не существовало?!
– Можно! – твердо сказал Ка. – Можно взять камень и бить по нему другим камнем, пока не придашь нужную форму, такую, чтобы рука могла обхватить его. И тогда с помощью этого камня рука сможет сделать множество других камней, больших по размеру и еще более острых. И это сделал я, Генерал.
Крупные капли пота выступили на лбу Генерала.
– Надо показать Его всем, Ка, всей Орде, наши мужчины станут неуязвимыми. Понимаете? Теперь мы можем выйти на медведя: у него когти, а у нас Оно, мы сумеем растерзать зверя раньше, чем он нас, мы сможем оглушить его, убить. Убить змею, расколоть панцирь черепахи, можем убить… Великое Солнце!.. убить… человека!.. – Генерал остановился, пораженный новой мыслью, потом продолжал, и взгляд его стал жестким:
– Теперь, Ка, мы сможем напасть на Орду Коамма, они выше и сильнее нас, но теперь окажутся в нашей власти, и мы уничтожим их всех до единого. Ка! Ка! – он схватил Профессора за плечо и потряс. – Это победа!
Ка смотрел настороженно, он колебался:
– Именно поэтому я не хотел показывать вам мое изобретение. Я понимаю, что сделал ужасное открытие, которое изменит мир. Я осознаю свою ответственность: я открыл источник страшной разрушительной силы. Ничего подобного на Земле еще не знали, поэтому я и не хочу, чтобы другие познакомились с ним. В противном случае война станет самоубийством. Ведь и Орда Коамма тоже скоро научится делать подобные камни, тогда в следующей войне не будет ни победителей, ни побежденных. Этот предмет был задуман как орудие мирного труда, прогресса, но теперь я вижу, что Оно несет с собой смерть. Я Его уничтожу.
Генерал был вне себя:
– Опомнитесь, Ка! Вы не имеете права. Это все глупая щепетильность ученого. Пять лет вы провели взаперти и ничего не знаете о мире. Мы идем к цивилизации, и если Орда Коамма победит, не останется ни мира, ни свободы, ни радости для людей. Наш священный долг овладеть вашим изобретением. Это вовсе не значит, что мы воспользуемся им тотчас же. Важно, чтобы они знали, что Оно у нас есть. Мы продемонстрируем Его на глазах у противника. Потом мы ограничим Его использование, но с того момента, как Оно будет у нас, никто не посмеет на нас напасть.
А пока мы можем копать Им могилы, строить новые пещеры, равнять почву. Достаточно иметь Его, вовсе не обязательно пускать Его в ход. Это оружие страшной силы, оно остановит коаммовцев на много лет.
– Нет-нет-нет, – твердил безутешный Ка, – как только мы овладеем Им, нас уже ничто не остановит. Его надо уничтожить.
– Да вы просто идиот, хоть и приносите пользу! – Генерал побледнел от гнева. – Вы играете на руку нашим врагам, в душе вы прокоаммовец, как и все подобные вам интеллектуалы, как тот аэд, который толковал вчера вечером о союзе всех людей. Вы не веруете в Солнце!
Ка вздрогнул. Он склонил голову, глаза под пушистыми бровями стали совсем маленькими и грустными.
– Я знал, что мы придем к этому. Я не прокоаммовец, и вам это отлично известно. Но согласно пятому правилу из солнечного свода законов, я отказываюсь на вопрос, который мог бы вызвать против меня гнев духов. Думайте, что хотите. Но Оно не выйдет за порог этой пещеры.
– А я говорю – выйдет, и сейчас же, во славу Орды, цивилизации, ради блага народа, ради Мира! – закричал Генерал. Он схватил камень правой рукой, как это только что делал сам Ка, и с силой, с гневом, с ненавистью обрушил его на голову Профессора. Ка рухнул на пол, орошая кровью все вокруг.
Генерал в ужасе смотрел на оружие, которое сжимал в руке. Потом торжествующе улыбнулся, и в улыбке его была жестокость, была беспощадность.
– Первый… – прошептал он.
«КУСТ СИРЕНИ» А. И. КУПРИН
ПРОБЛЕМЫ :
- СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ
-ЖЕРТВЕННАЯ ЛЮБОВЬ
-СПОСОБНОСТЬ К ИСТИННОМУ УЧАСТИЮ, СОЧУВСТВИЮ
- СИЛА ДУХА
- СПОСОБНОСТЬ НАЙТИ ВЫХОД В ТРУДНОЙ СИТУАЦИИ
Николай Евграфович Алмазов едва дождался, пока жена отворила ему двери, и, не снимая пальто, в фуражке прошел в свой кабинет. Жена, как только увидела его насупившееся лицо со сдвинутыми бровями и нервно закушенной нижней губой, в ту же минуту поняла, что произошло очень большое несчастие... Она молча пошла следом за мужем. В кабинете Алмазов простоял с минуту на одном месте, глядя куда-то в угол. Потом он выпустил из рук портфель, который упал на пол и раскрылся, а сам бросился в кресло, злобно хрустнув сложенными вместе пальцами...
Алмазов, молодой небогатый офицер, слушал лекции в Академии генерального штаба и теперь только что вернулся оттуда. Он сегодня представлял профессору последнюю и самую трудную практическую работу — инструментальную съемку местности...
До сих пор все экзамены сошли благополучно, и только одному богу да жене Алмазова было известно, каких страшных трудов они стоили... Начать с того, что самое поступление в академию казалось сначала невозможным. Два года подряд Алмазов торжественно проваливался и только на третий упорным трудом одолел все препятствия. Не будь жены, он, может быть, не найдя в себе достаточно энергии, махнул бы на все рукою. Но Верочка не давала ему падать духом и постоянно поддерживала в нем бодрость... Она приучилась встречать каждую неудачу с ясным, почти веселым лицом. Она отказывала себе во всем необходимом, чтобы создать для мужа хотя и дешевый, но все-таки необходимый для занятого головной работой человека комфорт. Она бывала, по мере необходимости, его переписчицей, чертежницей, чтицей, репетиторшей и памятной книжкой.
Прошло минут пять тяжелого молчания, тоскливо нарушаемого хромым ходом будильника, давно знакомым и надоевшим: раз, два, три-три: два чистых удара, третий с хриплым перебоем. Алмазов сидел, не снимая пальто и шапки и отворотившись в сторону... Вера стояла в двух шагах от него так же молча, с страданием на красивом, нервном лице. Наконец она заговорила первая, с той осторожностью, с которой говорят только женщины у кровати близкого труднобольного человека...
— Коля, ну как же твоя работа?.. Плохо?
Он передернул плечами и не отвечал.
— Коля, забраковали твой план? Ты скажи, все равно ведь вместе обсудим.
Алмазов быстро повернулся к жене и заговорил горячо и раздраженно, как обыкновенно говорят, высказывая долго сдержанную обиду.
— Ну да, ну да, забраковали, если уж тебе так хочется знать. Неужели сама не видишь? Все к черту пошло!.. Всю эту дрянь, — и он злобно ткнул ногой портфель с чертежами, — всю эту дрянь хоть в печку выбрасывай теперь! Вот тебе и академия! Через месяц опять в полк, да еще с позором, с треском. И это из-за какого-то поганого пятна... О, черт!
— Какое пятно, Коля? Я ничего не понимаю.
Она села на ручку кресла и обвила рукой шею Алмазова. Он не сопротивлялся, но продолжал смотреть в угол с обиженным выражением.
— Какое же пятно, Коля? — спросила она еще раз.
— Ах, ну, обыкновенное пятно, зеленой краской. Ты ведь знаешь, я вчера до трех часов не ложился, нужно было окончить. План прекрасно вычерчен и иллюминован. Это все говорят. Ну, засиделся я вчера, устал, руки начали дрожать — и посадил пятно... Да еще густое такое пятно... жирное. Стал подчищать и еще больше размазал. Думал я, думал, что теперь из него сделать, да и решил кучу деревьев на том месте изобразить... Очень удачно вышло, и разобрать нельзя, что пятно было. Приношу нынче профессору. «Так, так, н-да. А откуда у вас здесь, поручик, кусты взялись?» Мне бы нужно было так и рассказать, как все было. Ну, может быть, засмеялся бы только... Впрочем, нет, не рассмеется, — аккуратный такой немец, педант. Я и говорю ему: «Здесь действительно кусты растут». А он говорит: «Нет, я эту местность знаю, как свои пять пальцев, и здесь кустов быть не может». Слово за слово, у нас с ним завязался крупный разговор. А тут еще много наших офицеров было. «Если вы так утверждаете, говорит, что на этой седловине есть кусты, то извольте завтра же ехать туда со мной верхом... Я вам докажу, что вы или небрежно работали, или счертили прямо с трехверстной карты...»
— Но почему же он так уверенно говорит, что там нет кустов?
— Ах, господи, почему? Какие ты, ей-богу, детские вопросы задаешь. Да потому, что он вот уже двадцать лет местность эту знает лучше, чем свою спальню. Самый безобразнейший педант, какие только есть на свете, да еще немец вдобавок... Ну и окажется в конце концов, что я лгу и в препирательство вступаю... Кроме того...
Во все время разговора он вытаскивал из стоявшей перед ним пепельницы горелые спички и ломал их на мелкие кусочки, а когда замолчал, то с озлоблением швырнул их на пол. Видно было, что этому сильному человеку хочется заплакать.
Муж и жена долго сидели в тяжелом раздумье, не произнося ни слова. Но вдруг Верочка энергичным движением вскочила с кресла.
— Слушай, Коля, нам надо сию минуту ехать! Одевайся скорей.
Николай Евграфович весь сморщился, точно от невыносимой физической боли.
— Ах, не говори, Вера, глупостей. Неужели ты думаешь, я поеду оправдываться и извиняться. Это значит над собой прямо приговор подписать. Не делай, пожалуйста, глупостей.
— Нет, не глупости, — возразила Вера, топнув ногой. — Никто тебя не заставляет ехать с извинением... А просто, если там нет таких дурацких кустов, то их надо посадить сейчас же.
— Посадить?.. Кусты?.. — вытаращил глаза Николай Евграфович.
— Да, посадить. Если уж сказал раз неправду, — надо поправлять. Собирайся, дай мне шляпку... Кофточку... Не здесь ищешь, посмотри в шкапу... Зонтик!
Пока Алмазов, пробовавший было возражать, но не выслушанный, отыскивал шляпку и кофточку, Вера быстро выдвигала ящики столов и комодов, вытаскивала корзины и коробочки, раскрывала их и разбрасывала по полу.
— Серьги... Ну, это пустяки... За них ничего не дадут... А вот это кольцо с солитером дорогое... Надо непременно выкупить... Жаль будет, если пропадет. Браслет... тоже дадут очень мало. Старинный и погнутый... Где твой серебряный портсигар, Коля?
Через пять минут все драгоценности были уложены в ридикюль. Вера, уже одетая, последний раз оглядывалась кругом, чтобы удостовериться: не забыто ли что-нибудь дома.
— Едем, — сказала она, наконец, решительно.
— Но куда же мы поедем? — пробовал протестовать Алмазов. — Сейчас темно станет, а до моего участка почти десять верст.
— Глупости... Едем!
Раньше всего Алмазовы заехали в ломбард. Видно было, что оценщик так давно привык к ежедневным зрелищам человеческих несчастий, что они вовсе не трогали его. Он так методично и долго рассматривал привезенные вещи, что Верочка начинала уже выходить из себя. Особенно обидел он ее тем, что попробовал кольцо с брильянтом кислотой и, взвесив, оценил его в три рубля.
— Да ведь это настоящий брильянт,—возмущалась Вера, — он стоит тридцать семь рублей, и то по случаю.
Оценщик с видом усталого равнодушия закрыл глаза.
— Нам это все равно-с, сударыня. Мы камней вовсе не принимаем, — сказал он, бросая на чашечку весов следующую вещь, — мы оцениваем только металлы-с.
Зато старинный и погнутый браслет, совершенно неожиданно для Веры, был оценен очень дорого. В общем, однако, набралось около двадцати трех рублей. Этой суммы было более чем достаточно.
Когда Алмазовы приехали к садовнику, белая петербургская ночь уже разлилась по небу и в воздухе синим молоком. Садовник, чех, маленький старичок в золотых очках, только что садился со своей семьею за ужин. Он был очень изумлен и недоволен поздним появлением заказчиков и их необычной просьбой. Вероятно, он заподозрил какую-нибудь мистификацию и на Верочкины настойчивые просьбы отвечал очень сухо:
— Извините. Но я ночью не могу посылать в такую даль рабочих. Если вам угодно будет завтра утром — то я к вашим услугам.
Тогда оставалось только одно средство: рассказать садовнику подробно всю историю с злополучным пятном, и Верочка так и сделала. Садовник слушал сначала недоверчиво, почти враждебно, но когда Вера дошла до того, как у нее возникла мысль посадить куст, он сделался внимательнее и несколько раз сочувственно улыбался.
— Ну, делать нечего, — согласился садовник, когда Вера кончила рассказывать, — скажите, какие вам можно будет посадить кусты?
Однако изо всех пород, какие были у садовника, ни одна не оказывалась подходящей: волей-неволей пришлось остановиться на кустах сирени.
Напрасно Алмазов уговаривал жену отправиться домой. Она поехала вместе с мужем за город, все время, пока сажали кусты, горячо суетилась и мешала рабочим и только тогда согласилась ехать домой, когда удостоверилась, что дерн около кустов совершенно нельзя отличить от травы, покрывавшей всю седловинку.
На другой день Вера никак не могла усидеть дома и вышла встретить мужа на улицу. Она еще издали, по одной только живой и немного подпрыгивающей походке, узнала, что история с кустами кончилась благополучно... Действительно, Алмазов был весь в пыли и едва держался на ногах от усталости и голода, но лицо его сияло торжеством одержанной победы.
— Хорошо! Прекрасно! — крикнул он еще за десять шагов в ответ на тревожное выражение женина лица. — Представь себе, приехали мы с ним к этим кустам. Уж глядел он на них, глядел, даже листочек сорвал и пожевал. «Что это за дерево?» — спрашивает. Я говорю: «Не знаю, ваше-ство». — «Березка, должно быть?» — говорит. Я отвечаю: «Должно быть, березка, ваше-ство». Тогда он повернулся ко мне и руку даже протянул. «Извините, говорит, меня, поручик. Должно быть, я стареть начинаю, коли забыл про эти кустики». Славный он, профессор, и умница такой. Право, мне жаль, что я его обманул. Один из лучших профессоров у нас. Знания — просто чудовищные. И какая быстрота и точность в оценке местности — удивительно!
Но Вере было мало того, что он рассказал. Она заставляла его еще и еще раз передавать ей в подробностях весь разговор с профессором. Она интересовалась самыми мельчайшими деталями: какое было выражение лица у профессора, каким тоном он говорил про свою старость, что чувствовал при этом сам Коля...
И они шли домой так, как будто бы, кроме них, никого на улице не было: держась за руки и беспрестанно смеясь. Прохожие с недоумением останавливались, чтобы еще раз взглянуть на эту странную парочку...
Николай Евграфович никогда с таким аппетитом не обедал, как в этот день... После обеда, когда Вера принесла Алмазову в кабинет стакан чаю, — муж и жена вдруг одновременно засмеялись и поглядели друг на друга.
— Ты — чему? — спросила Вера.
— А ты чему?
— Нет, ты говори первый, а я потом.
— Да так, глупости. Вспомнилась вся эта история с сиренью. А ты?
— Я тоже, глупости, и тоже — про сирень. Я хотела сказать, что сирень теперь будет навсегда моим любимым цветком...
«НА ЛЬДИНЕ » Б.ЖИТКОВ
ПРОБЛЕМЫ :
- БЕЗВЫХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
- ОТЧАЯНИЕ, МУЖЕСТВО
-СПАСЕНИЕ
Зимой море замёрзло. Рыбаки всем колхозом собрались на лёд ловить рыбу. Взяли сети и поехали на санях по льду. Поехал и рыбак Андрей, а с ним его сынишка Володя. Выехали далеко-далеко. И куда кругом ни глянь, всё лёд и лёд: это так замёрзло море. Андрей с товарищами заехал дальше всех. Наделали во льду дырок и сквозь них стали запускать сети. День был солнечный, всем было весело. Володя помогал выпутывать рыбу из сетей и очень радовался, что много ловилось. Уже большие кучи мороженой рыбы лежали на льду. Володин папа сказал:
— Довольно, пора по домам.
Но все стали просить, чтоб остаться ночевать и с утра снова ловить. Вечером поели, завернулись поплотней в тулупы и легли спать в санях. Володя прижался к отцу, чтоб было теплей, и крепко заснул.
Вдруг ночью отец вскочил и закричал:
— Товарищи, вставайте! Смотрите, ветер какой! Не было бы беды!
Все вскочили, забегали.
— Почему нас качает? — закричал Володя.
А отец крикнул:
— Беда! Нас оторвало и несёт на льдине в море.
Все рыбаки бегали по льдине и кричали:
— Оторвало, оторвало!
А кто-то крикнул:
— Пропали!
Володя заплакал. Днём ветер стал ещё сильней, волны заплёскивали на льдину, а кругом было только море. Володин папа связал из двух шестов мачту, привязал на конце красную рубаху и поставил, как флаг. Все глядели, не видать ли где парохода. От страха никто не хотел ни есть ни пить. А Володя лежал в санях и смотрел в небо: не глянет ли солнышко. И вдруг в прогалине между туч Володя увидел самолёт и закричал:
— Самолёт! Самолёт!
Все стали кричать и махать шапками. С самолёта упал мешок. В нём была еда и записка: «Держитесь! Помощь идёт!» Через час пришёл пароход и перегрузил к себе людей, сани, лошадей и рыбу. Это начальник порта узнал, что на льдине унесло восьмерых рыбаков. Он послал им на помощь пароход и самолёт. Лётчик нашёл рыбаков и по радио сказал капитану парохода, куда идти.
Проблемы:
-ИСТИННЫЕ И ЛОЖНЫЕ ЦЕННОСТИ
-ДЕТСТВО
-СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Папе было сорок лет, Славику — десять, ёжику — и того меньше.
Славик притащил ёжика в шапке, побежал к дивану, на котором лежал папа с раскрытой газетой, и, задыхаясь от счастья, закричал:
— Пап, смотри!
Папа отложил газету и осмотрел ёжика. Ежик был курносый и симпатичный. Кроме того, папа поощрял любовь сына к животным. Кроме того, папа сам любил животных.
— Хороший ёж! — сказал папа. — Симпатяга! Где достал?
— Мне мальчик во дворе дал, — сказал Славик.
— Подарил, значит? — уточнил папа.
— Нет, мы обменялись, — сказал Славик. — Он мне дал ёжика, а я ему билетик.
— Какой еще билетик?
— Лотерейный, — сказал Славик и выпустил ежика на пол. — Папа, ему надо молока дать.
— Погоди с молоком! — строго сказал папа. — Откуда у тебя лотерейный билет?
— Я его купил, — сказал Славик.
— У кого?
— У дяденьки на улице… Он много таких билетов продавал. По тридцать копеек… Ой, папа, ежик под диван полез…
— Погоди ты со своим ежиком! — нервно сказал папа и посадил Славика рядом с собой. — Как же ты отдал мальчику свой лотерейный билет?.. А вдруг этот билет что-нибудь выиграл?
— Он выиграл, — сказал Славик, не переставая наблюдать за ёжиком.
— То есть как это — выиграл? — тихо спросил папа, и его нос покрылся капельками пота. — Что выиграл?
— Холодильник! — сказал Славик и улыбнулся.
— Что такое?! — Папа как-то странно задрожал. — Холодильник?!.. Что ты мелешь?.. Откуда ты это знаешь?!
— Как — откуда? — обиделся Славик. — Я его проверил по газете… Там первые три циферки совпали… и остальные… И серия та же!.. Я уже умею проверять, папа! Я же взрослый!
— Взрослый?! — Папа так зашипел, что ёжик, который вылез из-под дивана, от страха свернулся в клубок. — Взрослый?!.. Меняешь холодильник на ёжика?
— Но я подумал, — испуганно сказал Славик, — я подумал, что холодильник у нас уже есть, а ёжика нет…
— Замолчи! — закричал папа и вскочил с дивана. — Кто?! Кто этот мальчик?! Где он?!
— Он в соседнем доме живет, — сказал Славик и заплакал. — Его Сеня зовут…
— Идём! — снова закричал папа и схватил ёжика голыми руками. — Идем быстро!
— Не пойду, — всхлипывая, сказал Славик. — Не хочу холодильник, хочу ёжика!
— Да пойдем же, оболтус, — захрипел папа. — Только бы вернуть билет, я тебе сотню ёжиков куплю…
— Нет… — ревел Славик. — Не купишь… Сенька и так не хотел меняться, я его еле уговорил…
— Тоже, видно, мыслитель! — ехидно сказал папа. — Ну, быстро!..
Сене было лет восемь. Он стоял посреди двора и со страхом глядел на грозного папу, который в одной руке нес Славика, а в другой — ежа.
— Где? — спросил папа, надвигаясь на Сеню. — Где билет? Уголовник, возьми свою колючку и отдай билет!
— У меня нет билета! — сказал Сеня и задрожал.
— А где он?! — закричал папа. — Что ты с ним сделал, ростовщик? Продал?
— Я из него голубя сделал, — прошептал Сеня и захныкал.
— Не плачь! — сказал папа, стараясь быть спокойным. — Не плачь, мальчик… Значит, ты сделал из него голубя. А где этот голубок?.. Где он?..
— Он на карнизе засел… — сказал Сеня.
— На каком карнизе?
— Вон на том! — и Сеня показал на карниз второго этажа.
Папа снял пальто и полез по водосточной трубе.
Дети снизу с восторгом наблюдали за ним.
Два раза папа срывался, но потом все-таки дополз до карниза и снял маленького желтенького бумажного голубя, который уже слегка размок от воды.
Спустившись на землю и тяжело дыша, папа развернул билетик и увидел, что он выпущен два года тому назад.
— Ты его когда купил? — спросил папа у Славика.
— Ещё во втором классе, — сказал Славик.
— А когда проверял?
— Вчера.
— Это не тот тираж… — устало сказал папа.
— Ну и что же? — сказал Славик. — Зато все циферки сходятся…
Папа молча отошел в сторонку и сел на лавочку.
Сердце бешено стучало у него в груди, перед глазами плыли оранжевые круги… Он тяжело опустил голову.
— Папа, — тихо сказал Славик, подходя к отцу. — Ты не расстраивайся! Сенька говорит, что он все равно отдает нам ёжика…
— Спасибо! — сказал папа. — Спасибо, Сеня…
Он встал и пошел к дому. Ему вдруг стало очень грустно. Он понял, что никогда уж не вернуть того счастливого времени, когда с лёгким сердцем меняют холодильник на ежа.
"ДРУГ". Л. АНДРЕЕВ.
ПРОБЛЕМЫ:
-ДРУЖБА
-ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЖИВОТНЫХ И ЛЮДЕЙ
-ВЕРНОСТЬ
-БЛАГОДАРНОСТЬ
-ЭГОИЗМ
-ОШИБКА
Когда поздний ночью он звонил у своих дверей, первым звуком после колокольчика был звонкий собачий лай, в котором слышались и боязнь чужого и радость, что это идет свой. Потом доносилось шлепанье калош и скрип снимаемого крючка.
Он входил и раздевался в темноте, чувствуя недалеко от себя молчаливую женскую фигуру. А колена его ласково царапали когти собаки, и горячий язык лизал застывшую руку.
— Ну, что? — спрашивал заспанный голос тоном официального участия.
— Ничего. Устал, — коротко отвечал Владимир Михайлович и шел в свою комнату.
За ним, стуча когтями по вощеному полу, шла собака и вспрыгивала на кровать. Когда свет зажженной лампы наполнял комнату, взор Владимира Михайловича встречал упорный взгляд черных глаз собаки. Они говорили: приди же, приласкай меня. И, чтобы сделать это желание более понятным, собака вытягивала передние лапы, клала на них боком голову, а зад ее потешно поднимался, и хвост вертелся, как ручка у шарманки.
— Друг ты мой единственный! — говорил Владимир Михайлович и гладил черную блестящую шерсть. Точно от полноты чувства, собака опрокидывалась на спину, скалила белые зубы и легонько ворчала, радостная и возбужденная. А он вздыхал, ласкал ее и думал, что нет больше на свете никого, кто любил бы его.
Если Владимир Михайлович возвращался рано и не уставал от работы, он садился писать, и тогда собака укладывалась комочком где-нибудь на стуле возле него, изредка открывала один черный глаз и спросонья виляла хвостом. И когда, взволнованный процессом творчества, измученный муками своих героев, задыхающийся от наплыва мыслей и образов, он ходил по комнате и курил папиросу за папиросой, она следила за ним беспокойным взглядом и сильнее виляла хвостом.
— Будем мы с тобой знамениты, Васюк? — спрашивал он собаку, и та утвердительно махала хвостом.
— Будем тогда печенку есть, ладно?
«Ладно», — отвечала собака и сладко потягивалась: она любила печенку.
У Владимира Михайловича часто собирались гости. Тогда его тетка, с которой он жил, добывала у соседей посуду, поила чаем, ставя самовар за самоваром, ходила покупать водку и колбасу и тяжело вздыхала, доставая со дна кармана засаленный рубль. В накуренной комнате звучали громкие голоса.
Спорили, смеялись, говорили смешные и острые вещи, жаловались на свою судьбу и завидовали друг другу; советовали Владимиру Михайловичу бросить литературу и заняться другим, более выгодным делом. Одни говорили, что ему нужно лечиться, другие чокались с ним рюмками и говорили о вреде водки для его здоровья. Он такой больной, постоянно нервничающий. Оттого у него припадки тоски, оттого он ищет в жизни невозможного. Все говорили с ним на «ты», и в голосе их звучало участье, и они дружески звали его с собой ехать за город продолжать попойку. И когда он, веселый, кричащий больше всех и беспричинно смеющийся, уезжал, его провожали две пары глаз: серые глаза тетки, сердитые и упрекающие, и черные, беспокойно ласковые глаза собаки.
Он не помнил, что он делал, когда пил и когда к утру возвращался домой, выпачканный в грязи и мелу и потерявший шляпу. Передавали ему, что во время попойки он оскорблял друзей, а дома обижал тетку, которая плакала и говорила, что не выдержит такой жизни и удавится, и мучил собаку за то, что она не идет к нему ласкаться. Когда же она, испуганная и дрожащая, скалила зубы, то бил ее ремнем. Наступал следующий день; все уже кончали свою дневную работу, а он просыпался больной и страдающий. Сердце неровно колотилось в груди и замирало, наполняя его страхом близкой смерти, руки дрожали. За стеной, в кухне, стучала тетка, и звук ее шагов разносился по пустой и холодной квартире. Она не заговаривала с Владимиром Михайловичем и молча подавала ему воду, суровая, непрощающая. И он молчал, смотрел на потолок в одно давно им замеченное пятнышко и думал, что он сжигает свою жизнь и никогда у него не будет ни славы, ни счастья. Он сознавал себя ничтожным, и слабым, и одиноким до ужаса. Бесконечный мир кишел движущимися людьми, и не было ни одного человека, который пришел бы к нему и разделил его муки, — безумно-горделивые помыслы о славе и убийственное сознание ничтожества. Дрожащей, ошибающейся рукой он хватался за холодный лоб и сжимал веки, но, как ни крепко он их сжимал, слеза просачивалась и скользила по щеке, еще сохранившей запах продажных поцелуев. А когда он опускал руку, она падала на другой лоб, шерстистый и гладкий, и затуманенный слезой взгляд встречал черные, ласковые глаза собаки, и ухо ловило ее тихие вздохи. И он шептал, тронутый, утешенный:
— Друг, друг мой единственный!..
Когда он выздоравливал, к нему приходили друзья и мягко упрекали его, давали советы и говорили о вреде водки. А те из друзей, кого он оскорбил пьяный, переставали кланяться ему. Они понимали, что он не хотел им зла, но они не желали натыкаться на неприятность. Так, в борьбе с самим собой, неизвестностью и одиночеством протекали угарные, чадные ночи и строго карающие светлые дни. И часто в пустой квартире гулко отдавались шаги тетки, и на кровати слышался шепот, похожий на вздох:
— Друг, друг мой единственный!..
И наконец она пришла, эта неуловимая слава, пришла нежданная-негаданная и наполнила светом и жизнью пустую квартиру. Шаги тетки тонули в топоте дружеских ног, призрак одиночества исчез, и замолк тихий шепот. Исчезла и водка, этот зловещий спутник одиноких, и Владимир Михайлович более не оскорблял ни тетки, ни друзей. Радовалась и собака. Еще звончее стал ее лай при поздних встречах, когда он, ее единственный друг, приходил добрый, веселый, смеющийся, и она сама научилась смеяться; верхняя губа ее приподнималась, обнажая белые зубы, и потешными складками морщился нос.
Веселая, шаловливая, она начинала играть, хватала его вещи и делала вид, что хочет унести их, а когда он протягивал руки, чтобы поймать ее, подпускала его на шаг и снова убегала, и черные глаза ее искрились лукавством. Иногда он показывал собаке на тетку и кричал: «куси», и собака с притворным гневом набрасывалась на нее, тормошила ее юбку и, задыхаясь, косилась черным лукавым глазом на друга. Тонкие губы тетки кривились в суровую улыбку, она гладила заигравшуюся собаку по блестящей голове и говорила:
— Умная собака, только вот супу не любит.
А по ночам, когда Владимир Михайлович работал и только дребезжание стекол от уличной езды нарушало тишину, собака чутко дремала возле него и пробуждалась при малейшем его движении.
— Что, брат, печенки хочешь? — спрашивал он.
— Хочу, — утвердительно вилял хвостом Васюк.
— Ну погоди, куплю. Что, хочешь, чтобы приласкал? Некогда, брат, некогда. Спи.
Каждую ночь спрашивал он собаку о печенке, но постоянно забывал купить ее, так как голова его была полна планами новых творений и мыслями о женщине, которую он полюбил. Раз только вспомнил он о печенке; это было вечером, и он проходил мимо мясной лавки, а под руку с ним шла красивая женщина и плотно прижимала свой локоть к его локтю. Он шутливо рассказал ей о своей собаке, хвалил ее ум и понятливость. Немного рисуясь, он передал о том, что были ужасные, тяжелые минуты, когда он считал собаку единственным своим другом, и шутя рассказал о своем обещании купить другу печенки, когда будет счастлив… Он плотнее прижал к себе руку девушки.
— Художник! — смеясь, воскликнула она. — Вы даже камни заставите говорить; а я очень не люблю собак: от них так легко заразиться.
Владимир Михайлович согласился, что от собаки легко можно заразиться, и промолчал о том, что он иногда целовал блестящую черную морду.
Однажды днем Васюк играл больше обыкновенного, а вечером, когда Владимир Михайлович пришел домой, не явился встречать его, и тетка сказала, что собака больна. Владимир Михайлович встревожился и пошел в кухню, где на тоненькой подстилке лежала собака. Нос ее был сухой и горячий, и глаза помутнели. Она пошевелила хвостом и печально посмотрела на друга.
— Что, мальчик, болен? Бедный ты мой!
Хвост слабо шевельнулся, и черные глаза стали влажными.
— Ну, лежи, лежи.
«Надо бы к ветеринару отвезти, а мне завтра некогда. Ну, да так пройдет», — думал Владимир Михайлович и забыл о собаке, мечтая о том счастье, какое может дать ему красивая девушка. Весь следующий день его не было дома, а когда он вернулся, рука его долго шарила, ища звонка, а найдя, долго недоумевала, что делать с этой деревяшкой.
— Ах, да нужно же позвонить, — засмеялся он и запел: — Отворите!
Одиноко звякнул колокольчик, зашлепали калоши, и скрипнул снимаемый крючок. Напевая, Владимир Михайлович прошел в комнату, долго ходил, прежде чем догадался, что ему нужно зажечь лампу, потом разделся, но еще долго держал в руках снятый сапог и смотрел на него так, как будто это была красивая девушка, которая сегодня сказала так просто и сердечно: да, я люблю вас. И, улегшись, он все продолжал видеть ее живое лицо, пока рядом с ним не встала черная, блестящая морда собаки, и острой болью кольнул в сердце вопрос: а где же Васюк? Стало совестно, что он забыл больную собаку, но не особенно: ведь не раз Васюк бывал болен, и ничего же. А завтра можно пригласить ветеринара. Но во всяком случае не нужно думать о собаке и о своей неблагодарности — это ничему не помогает и уменьшает счастье.
Сутра собаке стало худо. Ее мучила рвота, и, воспитанная в правилах строгого приличия, она тяжело поднималась с подстилки и шла на двор, шатаясь, как пьяная. Ее маленькое черное тело лоснилось, как всегда, но голова была бессильно опущена, и посеревшие глаза смотрели печально и удивленно. Сперва Владимир Михайлович сам вместе с теткой раскрывал собаке рот с пожелтевшими деснами и вливал лекарство, но она так мучилась, так страдала, что ему стало тяжело смотреть на нее, и он оставил ее на попечение тетки. Когда же из-за стены доходил до него слабый, беспомощный стон, он закрывал уши руками и удивлялся, до чего он любит эту бедную собаку.
Вечером он ушел. Когда перед тем он заглянул в кухню, тетка стояла на коленях и гладила сухой рукой шелковистую горячую голову. Вытянув ноги, как палки, собака лежала тяжелой и неподвижной, и только наклонившись к самой ее морде, можно было услышать тихие и частые стоны. Глаза ее, совсем посеревшие, устремились на вошедшего, и, когда он осторожно провел по лбу, стоны сделались явственнее и жалобнее.
— Что, брат, плохо дело? Ну, погоди, выздоровеешь, печенки куплю.
— Суп есть заставлю, — шутливо пригрозила тетка.
Собака закрыла глаза, и Владимир Михайлович, ободренный шуткой, торопливо ушел и на улице нанял извозчика, так как боялся опоздать на свидание с Натальей Лаврентьевной.
В эту осеннюю ночь так свеж и чист был воздух, так много звезд сверкало на темном небе. Они падали, оставляя огнистый след, и вспыхивали, и голубым светом озаряли красивое женское лицо, н отражались в темных глазах — точно светляк появлялся на дне черного глубокого колодца. И жадные губы беззвучно целовали и глаза эти, н свежие, как воздух ночи, уста, н холодную щеку.
Ликующие, дрожащие любовью голоса, сплетаясь, шептали о радости и жизни.
Подъезжая к дому, Владимир Михайлович вспомнил о собаке, и грудь его заныла от темного предчувствия. Когда тетка отворила дверь, он спросил:
— Ну, что Васюк?
— Околел. Через час после твоего ухода.
Околевшую собаку уже вынесли и выбросили куда-то, н подстилка была убрана. Но Владимир Михайлович и не хотел видеть трупа: это было бы слишком тяжелое зрелище. Когда он улегся спать и в пустой квартире замолкли все звуки, он заплакал, сдерживая себя. Безмолвно кривились его губы, и слезы набухали под закрытыми веками и быстро скатывались на грудь. Ему было стыдно, что он целовал женщину в тот миг, когда здесь, на полу, одиноко умирал тот, кто был его другом. И он боялся, что подумает тетка о нем, серьезном человеке, услышав, что он плачет о собаке.
С тех пор прошло много времени. Слава ушла от Владимира Михайловича так же, как и пришла — загадочная и жестокая. Он обманул надежды, которые возлагали на него, и все были злы на этот обман и выместили его негодующими речами и холодными насмешками. А потом, точно крышка гроба, опустилось на него мертвое, тяжелое забвение.
Женщина покинула его: она также считала себя обманутой.
Проходили угарные, чадные ночи и беспощадно карающие белые дни, и часто, чаще, чем прежде, гулко раздавались в пустой квартире шаги тетки, а он лежал на своей кровати, смотрел в знакомое пятнышко на потолке и шептал:
— Друг, друг мой единственный…
И бессильно падала на пустое место дрожащая рука.
ГРУСТНАЯ ИСТОРИЯ СЕМЬИ МУРАВЬЕД. Этгар Керет.
ПРОБЛЕМЫ:
- ТОЛЕРАНТНОСТЬ
- ЖЕСТОКОСТЬ
- КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ЦЕЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ
- ИНТЕЛЛИГЕНТНОСТЬ
- ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО
Весь городок был собственно одной длинной улицей. По десятку домов с каждой стороны. Перед каждым домом — деревянный забор. Так что, если взять палку и побежать вдоль, так чтобы конец палки ударял по деревянным планкам, поднимая неимоверный шум, можно было за один раз пробежать весь городок. Именно это все время и делали ребятишки. Если начать бег с левой стороны на север, последний дом на улице, тот дом, чей забор был последний, а потом стоял столб, где надо было перекладывать палку в другую руку, это был дом Хасиды Швайга. Большинство ребятишек предпочитали бежать по левой стороне, потому что по правую сторону жил Нехемия Гирш, который был немного помешанный, и выскакивал иногда на улицу с ружьем, крича, что они «ди туркен» и грозился застрелить их. Но лучше всего было бежать с севера на юг, потому что те кто бежал так, заканчивал свой бег у одного из двух домиков, самых замечательных в городке, и в каждом из них можно было получить угощение. В одном из домов жил Элиягу Офри, с настоящей черной кожей и пружинистыми волосами, а прямо напротив него жила семья Муравьед. Дов и Нехама Муравьед и их сын Ариэль. А Дов Муравьед был не только самый приятный человек в городке — об этом никто не спорил — он был еще и самый особенный человек. Все его тело было покрыто густой блестящей шерстью, у него был удивительный нос и он умел так прекрасно танцевать и рассказывал такие смешные истории.
В пятницу вечером все собирались на том краю улицы. Элиягу Офри выносил жестяную коробку из-под маслин, стучал по ней и гортанно кричал: «Ха… Ха… Ха!», как будто задыхаясь, а Дов Муравьед начинал танцевать. Это было зрелище! Он танцевал каждую пятницу и это никогда не надоедало. Его движения и его шерсть, искрившаяся при свете факелов, и язык, что высовывался у него изо рта и тоже плясал, словно жил отдельной жизнью. Это в самом деле было нечто! Взрослые поднимали детишек на плечи, чтобы тем было видно, и все в такт танцу били в ладоши. После того, как Дов и Офри заканчивали свое представление, Иона Голубь играл на своей скрипке и все танцевали. И Дов Муравьед присоединялся к общему кругу, и прочие с завистью глядели, как он берет в свои огромные руки, покрытые шерстью, ладони тех, кто танцевал с ним рядом.«Как будто бы одеваешь перчатки» — рассказывали те, кто уже удостоился этого почетного отличия. — «Ужасно приятно!»
Иногда Дов и Элиягу Офри устраивали такие вечера посреди недели и все оставались танцевать почти до утра, и дети тоже. В те дни еще не было в городке школы, еще никто не слышал о такой диковине, и никого не волновало, что дети не засыпают допоздна.
Все изменилось в один день, когда в городке появился Александер Манч. Он появился, конечно, неизвестно откуда. Потому что для жителей городка любое место, которое было не в городке, находилось неизвестно где. Все знали, что кроме городка есть в мире еще и Минск, и Рош Пина, и Измир, но никто там не бывал, разве что Нехемия Гирш. Александер Манч прибыл в городок около десяти часов утра, и Эяль Кастерштейн, который именно в это время несся с палкой вдоль заборов от дома Хасиды Швайга на юг, столкнулся с ним и повалил в лужу. Эяль попросил прощения и попытался помочь Манчу встать, но он продолжал сидеть в луже и ругал Эяля и всех других ребятишек, что они хулиганы, и что их место в школе или вообще в тюрьме. Он кричал таким громким голосом, что из своего дома выскочил Нехемия Гирш со своим кремневым ружьем и стал грозить, что если Манч не заткнется, он выстрелит в него из своего верного ружья, из которого он поубивал много мусульман.
Но Манч не только не перестал, он закричал на октаву выше, что не для того он пришел сюда пешком из Берна, чтобы банда воров пристрелила его, как собаку. Гирш, у которого в городке была (и поделом) репутация человека нервного, уже начал сыпать порох на полку своего кремневого ружья. На счастье Манча, его крики услышал Иона Голубь, который спал в тот день допоздна. Иона вырвал из рук Гирша ружье, и даже сумел успокоить Манча и поднять его из лужи. Манча в тот же час доставили к дому Хасиды Швайга, там дали ему сухие штаны и приготовили кофе со сливками.
Узнав, что у городка, куда его забросило, нет не только имени, но и школы, Манч разозлился. Любой культурный человек, объяснил Манч, разозлился бы на его месте, а особенно он, ведь в Берне он был известным преподавателем. Он потребовал от Ионы Голуба сегодня же собрать всех жителей городка на собрания. В тот же вечер — это была пятница — все сошлись на краю городка. Офри оставил свою жестянку из-под маслин дома, а Дов Муравьед не танцевал. Все только стояли молча и слушали Манча, который говорил почти час. Манч сказал, что необходимо немедленно объявить о том, что у городка есть имя, и о том, что в городке открылась школа, во главе которой стоять будет он. Он сказал семь раз слово «культура», три раза — «левантизм» и пять раз — «стыд и позор», а между ними он вставил еще всякие слова и цитаты на разных языках, которых никто не знал. Когда Манч закончил, он пронзил всех сияющим грозным взглядом, сам себе захлопал, еще два раза сказал «культура» и один раз — «для будущих поколений», после чего спустился со сцены. Манч спустился со сцены и гордым шагом пошел к дому Хасиды Швайга, а обсуждение продолжилось без него. На самом деле не было никакого обсуждения, говорили только Гирш и Иона Голубь. Гирш сказал, что турку нельзя показывать, что его боятся и что, по его мнению, можно пристрелить его, как собаку. Иона Голубь, напротив, советовал сделать все, что сказал Манч. Потому что, если не сделать все в точности, как сказал Манч, он вечно будет всем надоедать. В конце проголосовали. Все воздержались, потому что не поняли, что же произошло, кроме Нехемии Гирша, который демонстративно в голосовании не участвовал, и Ионы Голуба, который проголосовал за оба предложения Манча. Назавтра утром официально объявили, что у городка есть название и начали строить школу на месте старого амбара. Манч предложил назвать городок «Прогресс», потому что верил, что это явится символом осуществления общих стремлений, и все с ним согласились, потому что очень хорошо помнили слова Ионы Голуба, сказанные в прошлий вечер. Иона даже приготовил большой плакат с новым названием, чтобы повесить на южном въезде в городок, и пообещал сделать еще один, чтобы повесить на северном въезде. Остальные помогали делать школу, все кроме Гирша, который орлом крутился вокруг старого амбара, держал в руках свое кремневое ружье и пронзал Манча сверкающим враждебным взглядом.
Школу построили за две недели. На время строительства Манч запретил праздники, чтобы жители городка не тратили даром сил, но после пообещал культурное мероприятие. В праздничный вечер, устроенный в честь окончания строительства, Манч запретил Офри стучать по своей жестянки, а Дову Муравьеду — танцевать. Вместо этого он продекламировал три стихотворения Шиллера и одно — Гете, а также сыграл на скрипке Ионы мелодию, под которую трудно было плясать и которую написал какой-то австриец, который уже умер. После чего Манч заставил всех идти спать, потому что завтра должен был быть день работы и учения, первый в прекрасной традиции, которая изменит лицо городка «Прогресс» из конца в конец.
Школа начала работать, и за несколько недель к ней даже привыкли. «Ко всему привыкаешь, даже к углям, тлеющим у тебя в руках»- сказал Нехемия Гирш, которому хорошо врезалось в память время, проведенное им в турецком плену. Он по-прежнему приходил иногда на школьный двор со своим кремневым ружьем… Но в отличие от Гирша многие люди и в самом деле были довольны тем, что появилась школа, потому что дети перестали бегать с палками вдоль заборов и больше не шумели. Манч разделил учебу по дням недели: в воскресенье, понедельник и вторник учили «культуру», в эти дни детей заставляли учить наизусть стихи на языке, которого они не понимали, а среда, четверг и пятница были днями, посвященными «Wiesenschaft». В эти дни учили науку. Грустная история семьи Муравьед началась приблизительно через три месяца после основания школы, в пятницу, последний из дней науки на той неделе.
Пятница была «Днем животных и растений», и Манч посвящал ее каждый раз животному или растению, которые тщательно изучались. В ту пятницу Манч вошел в класс с плакатом, свернутым в трубочку, который он развернул и повесил на доску. Ученики с удивлением смотрели на лицо Дова Муравьеда, улыбающееся на них с плаката. Они не совсем понимали какая связь между Довом и уроком природоведения, но Манч объяснил, он сказал, что сегодня они будут изучать одно низшее животное, млекопитающее, передвигающееся на четырех ногах и питающееся муравьями. Ариэль Муравьед, сидевший на задней парте, встал со своего места и выбежал из класса, потому что слезы лились из его глаз. Приблизительно через час он вернулся со своим отцом. Дов Муравьед вошел в класс, и был он сильно разгневан.
— Манч, я хочу поговорить с тобой! — процедил он сквозь зубы.
— Не сейчас. — Отвечал Манч. — Через час. Когда закончатся занятия.
Дов Муравьед согласно кивнул головой.
— А ты тем временем возвращайся в класс. — Сказал он Ариэлю. И вышел.
Ариэль хотел вернуться на свое место, но Яэль Лейбович не дала ему сесть на скамейку рядом с собой.
— Фу! Я не хочу чтобы ты сидел рядом со мной! — сказала она — Иди во двор и ешь муравьев вместе со своим противным отцом.
Манч заставил ее дать Ариэлю сесть, но она демонстративно отодвинула свой стул от стула Ариэля. Манч объяснил, как муравьеды размножаются, и все насмешливо уставились на Ариэля.
— Так твоя мама становится на четвереньки? — прошептал Ариэлю Офер Цвиэли. — Значит тебя так сделали?
Ребятишки видели из окна отца Ариэля, сидящего на ступеньках, и уставившегося в землю.
— Он, наверное, ищет муравьев, чтобы их съесть. — Сказала Яэль Эялю Кастерштайну. Ариэль молчал и тоже глядел в пол.
Когда урок закончился, дети выбежали из класса. Все они сторонились отца Ариэля, а Офер Цвиэли даже обругал его издалека. Отец Ариэля ничего не сказал, он только подождал, чтобы все дети вышли из класса и тогда вошел поговорить с Манчем.
— Я не понимаю, господин Манч. — Дов Муравьед грустно покачал головой. — Почему вы так поступаете? Почему вы учите детей всей этой лжи обо мне. Почему вы разрушаете жизнь моему сыну.
— Ложь? Какая ложь? — Отвечал Манч пренебрежительным и важным тоном. Он сворачивал в трубочку плакат, который висел на доске. — Речь идет о научно проверенных фактах, которые были собраны лучшими учеными мира.
— Проверенных фактах? — сердито перебил его Дов Муравьед. — О чем ты болтаешь? По-твоему, я хожу на четырех лапах? По-твоему, я ем муравьев? Ты в своем уме?
— Но, господин Муравьед, вы же не станете возражать против фактов. Вы же покрыты шерстью, и язык у вас очень длинный, и кроме того, вас зовут «Муравьед»
— Иону Голубя зовут «Голубь», и при этом ты же не учишь детей, что он летает и гадит сверху им на голову. Это — попросту болтовня, болтовня, которая разрушит жизнь моей семьи, но это тебя совершенно не волнует. Тебя не волнует ничто живое, только твоя дерьмовая наука и все эти твои немецкие поэты, которые померли двести лет назад! — Дов Муравьед кончил говорить. Он несколько раз глубоко вздохнул и вытер глаза тыльной стороной ладони, поросшей шерстью.
— Вы все время меня прерываете — корректно, но злобно процедил сквозь зубы Манч, — и упрямо не хотите осмыслить мои слова. Я не вижу никакого смысла в том, чтобы…
На этот раз Манчу не дал договорить не Дов Муравьед, но детишки, которые прибежали со двора. Отец Ариэля опрометью выскочил наружу. В песочнице суетилась целая куча ребятишек. Дов Муравьед молча смотрел на них несколько секунд, пока Яэль Лейбович, именно на которую упал его взгляд, не заметила его и не закричала: «Берегитесь!» Детишки разбежались. Остался только Ариэль. Он лежал на песке. Его штанишки были наполовину спущены, рубашка порвана. Пока его отец говорил с Манчем, дети повалили его на песок и напихали ему в одежду муравьев.
— Пойдем отсюда. — Дов Муравьед протянул руку Ариэлю и помог ему подняться. Он в последний раз взглянул на школьное здание. В открытую дверь класса он увидел Манча, который завязывал веревочкой свернутый плакат.
— Пойдем домой, сынок. — Он положил руку на плечо Ариэля, — Здесь не с кем говорить.
Они двинулись домой. Завитки шерсти на руке отца приятно щекотали шею Ариэля.
ПРОБЛЕМЫ:
-САМОПОЖЕРТВОВАНИЕ
-ДРУЖБА
-СМЫСЛ ЖИЗНИ
-СИЛА И СЛАБОСТЬ ЧЕЛОВЕКА
-ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ
-АЛЬТРУИЗМ
В небольшом квартале к западу от Вашингтон-сквера улицы перепутались и переломались в короткие полоски, именуемые проездами. Эти проезды образуют странные углы и кривые линии. Одна улица там даже пересекает самое себя раза два. Некоему художнику удалось открыть весьма ценное свойство этой улицы. Предположим, сборщик из магазина со счетом за краски, бумагу и холст повстречает там самого себя, идущего восвояси, не получив ни единого цента по счету!
И вот люди искусства набрели на своеобразный квартал Гринич-Виллидж в поисках окон, выходящих на север, кровель ХVIII столетия, голландских мансард и дешевой квартирной платы. Затем они перевезли туда с Шестой авеню несколько оловянных кружек и одну-две жаровни и основали «колонию».
Студия Сью и Джонси помещалась наверху трехэтажного кирпичного дома. Джонси — уменьшительное от Джоанны. Одна приехала из штата Мэйн, другая из Калифорнии. Они познакомились за табльдотом одного ресторанчика на Вольмой улице и нашли, что их взгляды на искусство, цикорный салат и модные рукава вполне совпадают. В результате и возникла общая студия.
Это было в мае. В ноябре неприветливый чужак, которого доктора именуют Пневмонией, незримо разгуливал по колонии, касаясь то одного, то другого своими ледяными пальцами. По Восточной стороне этот душегуб шагал смело, поражая десятки жертв, но здесь, в лабиринте узких, поросших мохом переулков, он плелся нога за ногу.
Господина Пневмонию никак нельзя было назвать галантным старым джентльменом. Миниатюрная девушка, малокровная от калифорнийских зефиров, едва ли могла считаться достойным противником для дюжего старого тупицы с красными кулачищами и одышкой. Однако он свалил ее с ног, и Джонси лежала неподвижно на крашеной железной кровати, глядя сквозь мелкий переплет голландского окна на глухую стену соседнего кирпичного дома.
Однажды утром озабоченный доктор одним движением косматых седых бровей вызвал Сью в коридор.
— У нее один шанс… ну, скажем, против десяти, — сказал он, стряхивая ртуть в термометре. — И то, если она сама захочет жить. Вся наша фармакопея теряет смысл, когда люди начинают действовать в интересах гробовщика. Ваша маленькая барышня решила, что ей уже не поправиться. О чем она думает?
— Ей… ей хотелось написать красками Неаполитанский залив.
— Красками? Чепуха! Нет ли у нее на душе чего-нибудь такого, о чем действительно стоило бы думать, например, мужчины?
— Мужчины? — переспросила Сью, и ее голос зазвучал резко, как губная гармоника. — Неужели мужчина стоит… Да нет, доктор, ничего подобного нет.
— Ну, тогда она просто ослабла, — решил доктор. — Я сделаю все, что буду в силах сделать как представитель науки. Но когда мой пациент начинает считать кареты в своей похоронной процессии, я скидываю пятьдесят процентов с целебной силы лекарств. Если вы сумеете добиться, чтобы она хоть раз спросила, какого фасона рукава будут носить этой зимой, я вам ручаюсь, что у нее будет один шанс из пяти, вместо одного из десяти.
После того как доктор ушел, Сью выбежала в мастерскую и плакала в японскую бумажную салфеточку до тех пор, пока та не размокла окончательно. Потом она храбро вошла в комнату Джонси с чертежной доской, насвистывая рэгтайм.
Джонси лежала, повернувшись лицом к окну, едва заметная под одеялами. Сью перестала насвистывать, думая, что Джонси уснула.
Она пристроила доску и начала рисунок тушью к журнальному рассказу. Для молодых художников путь в Искусство бывает вымощен иллюстрациями к журнальным рассказам, которыми молодые авторы мостят себе путь в Литературу.
Набрасывая для рассказа фигуру ковбоя из Айдахо в элегантных бриджах и с моноклем в глазу, Сью услышала тихий шепот, повторившийся несколько раз. Она торопливо подошла к кровати. Глаза Джонси были широко открыты. Она смотрела в окно и считала — считала в обратном порядке.
— Двенадцать, — произнесла она, и немного погодя: — одиннадцать, — а потом: — «десять» и «девять», а потом: — «восемь» и «семь» — почти одновременно.
Сью посмотрела в окно. Что там было считать? Был виден только пустой, унылый двор и глухая стена кирпичного дома в двадцати шагах. Старый-старый плющ с узловатым, подгнившим у корней стволом заплел до половины кирпичную стену. Холодное дыхание осени сорвало листья с лозы, и оголенные скелеты ветвей цеплялись за осыпающиеся кирпичи.
— Что там такое, милая? — спросила Сью.
— Шесть, — едва слышно ответила Джонси. — Теперь они облетают гораздо быстрее. Три дня назад их было почти сто. Голова кружилась считать. А теперь это легко. Вот и еще один полетел. Теперь осталось только пять.
— Чего пять, милая? Скажи своей Сьюди.
— Листьев. На плюще. Когда упадет последний лист, я умру. Я это знаю уже три дня. Разве доктор не сказал тебе?
— Первый раз слышу такую глупость! — с великолепным презрением отпарировала Сью. — Какое отношение могут иметь листья на старом плюще к тому, что ты поправишься? А ты еще так любила этот плющ, гадкая девочка! Не будь глупышкой. Да ведь еще сегодня доктор говорил мне, что ты скоро выздоровеешь… позволь, как же это он сказал?.. что у тебя десять шансов против одного. А ведь это не меньше, чем у каждого из нас здесь в Нью-Йорке, когда едешь в трамвае или идешь мимо нового дома. Попробуй съесть немножко бульона и дай твоей Сьюди закончить рисунок, чтобы она могла сбыть его редактору и купить вина для своей больной девочки и свиных котлет для себя.
— Вина тебе покупать больше не надо, — отвечала Джонси, пристально глядя в окно. — Вот и еще один полетел. Нет, бульона я не хочу. Значит, остается всего четыре. Я хочу видеть, как упадет последний лист. Тогда умру и я.
— Джонси, милая, — сказала Сью, наклоняясь над ней, — обещаешь ты мне не открывать глаз и не глядеть в окно, пока я не кончу работать? Я должна сдать иллюстрацию завтра. Мне нужен свет, а то я спустила бы штору.
— Разве ты не можешь рисовать в другой комнате? — холодно спросила Джонси.
— Мне бы хотелось посидеть с тобой, — сказала Сью. — А кроме того, я не желаю, чтобы ты глядела на эти дурацкие листья.
— Скажи мне, когда кончишь, — закрывая глаза, произнесла Джонси, бледная и неподвижная, как поверженная статуя, — потому что мне хочется видеть, как упадет последний лист. Я устала ждать. Я устала думать. Мне хочется освободиться от всего, что меня держит, — лететь, лететь все ниже и ниже, как один из этих бедных, усталых листьев.
— Постарайся уснуть, — сказала Сью. — Мне надо позвать Бермана, я хочу писать с него золотоискателя-отшельника. Я самое большее на минутку. Смотри же, не шевелись, пока я не приду.
Старик Берман был художник, который жил в нижнем этаже под их студией. Ему было уже за шестьдесят, и борода, вся в завитках, как у Моисея Микеланджело, спускалась у него с головы сатира на тело гнома. В искусстве Берман был неудачником. Он все собирался написать шедевр, но даже и не начал его. Уже несколько лет он не писал ничего, кроме вывесок, реклам и тому подобной мазни ради куска хлеба. Он зарабатывал кое-что, позируя молодым художникам, которым профессионалы-натурщики оказывались не по карману. Он пил запоем, но все еще говорил о своем будущем шедевре. А в остальном это был злющий старикашка, который издевался над всякой сентиментальностью и смотрел на себя, как на сторожевого пса, специально приставленного для охраны двух молодых художниц.
Сью застала Бермана, сильно пахнущего можжевеловыми ягодами, в его полутемной каморке нижнего этажа. В одном углу двадцать пять лет стояло на мольберте нетронутое полотно, готовое принять первые штрихи шедевра. Сью рассказала старику про фантазию Джонси и про свои опасения насчет того, как бы она, легкая и хрупкая, как лист, не улетела от них, когда ослабнет ее непрочная связь с миром. Старик Берман, чьи красные глаза очень заметно слезились, раскричался, насмехаясь над такими идиотскими фантазиями.
— Что! — кричал он. — Возможна ли такая глупость — умирать оттого, что листья падают с проклятого плюща! Первый раз слышу. Нет, не желаю позировать для вашего идиота-отшельника. Как вы позволяете ей забивать голову такой чепухой? Ах, бедная маленькая мисс Джонси!
— Она очень больна и слаба, — сказала Сью, — и от лихорадки ей приходят в голову разные болезненные фантазии. Очень хорошо, мистер Берман, — если вы не хотите мне позиров
— Вот настоящая женщина! — закричал Берман. — Кто сказал, что я не хочу позировать? Идем. Я иду с вами. Полчаса я говорю, что хочу позировать. Боже мой! Здесь совсем не место болеть такой хорошей девушке, как мисс Джонси. Когда-нибудь я напишу шедевр, и мы все уедем отсюда. Да, да!
Джонси дремала, когда они поднялись наверх. Сью спустила штору до самого подоконника и сделала Берману знак пройти в другую комнату. Там они подошли к окну и со страхом посмотрели на старый плющ. Потом переглянулись, не говоря ни слова. Шел холодный, упорный дождь пополам со снегом. Берман в старой синей рубашке уселся в позе золотоискателя-отшельника на перевернутый чайник вместо скалы.
На другое утро Сью, проснувшись после короткого сна, увидела, что Джонси не сводит тусклых, широко раскрытых глаз со спущенной зеленой шторы.
— Подними ее, я хочу посмотреть, — шепотом скомандовала Джонси.
Сью устало повиновалась.
И что же? После проливного дождя и резких порывов ветра, не унимавшихся всю ночь, на кирпичной стене еще виднелся один лист плюща — последний! Все еще темнозеленый у стебелька, но тронутый по зубчатым краям желтизной тления и распада, он храбро держался на ветке в двадцати футах над землей.
— Это последний, — сказала Джонси. — Я думала, что он непременно упадет ночью. Я слышала ветер. Он упадет сегодня, тогда умру и я.
— Да бог с тобой! — сказала Сью, склоняясь усталой головой к подушке. — Подумай хоть обо мне, если не хочешь думать о себе! Что будет со мной?
Но Джонси не отвечала. Душа, готовясь отправиться в таинственный, далекий путь, становится чуждой всему на свете. Болезненная фантазия завладевала Джонси все сильнее, по мере того как одна за другой рвались все нити, связывавшие ее с жизнью и людьми.
День прошел, и даже в сумерки они видели, что одинокий лист плюща держится на своем стебельке на фоне кирпичной стены. А потом, с наступлением темноты, опять поднялся северный ветер, и дождь беспрерывно стучал в окна, скатываясь с низкой голландской кровли.
Как только рассвело, беспощадная Джонси велела снова поднять штору.
Лист плюща все еще оставался на месте.
Джонси долго лежала, глядя на него. Потом позвала Сью, которая разогревала для нее куриный бульон на газовой горелке.
— Я была скверной девчонкой, Сьюди, — сказала Джонси. — Должно быть, этот последний лист остался на ветке для того, чтобы показать мне, какая я была гадкая. Грешно желать себе смерти. Теперь ты можешь дать мне немного бульона, а потом молока с портвейном… Хотя нет: принеси мне сначала зеркальце, а потом обложи меня подушками, и я буду сидеть и смотреть, как ты стряпаешь.
Часом позже она сказала:
— Сьюди, надеюсь когда-нибудь написать красками Неаполитанский залив.
Днем пришел доктор, и Сью под каким-то предлогом вышла за ним в прихожую.
— Шансы равные, — сказал доктор, пожимая худенькую, дрожащую руку Сью. — При хорошем уходе вы одержите победу. А теперь я должен навестить еще одного больного, внизу. Его фамилия Берман. Кажется, он художник. Тоже воспаление легких. Он уже старик и очень слаб, а форма болезни тяжелая. Надежды нет никакой, но сегодня его отправят в больницу, там ему будет покойнее.
На другой день доктор сказал Сью:
— Она вне опасности. Вы победили. Теперь питание и уход — и больше ничего не нужно.
В тот же вечер Сью подошла к кровати, где лежала Джонси, с удовольствием довязывая ярко-синий, совершенно бесполезный шарф, и обняла ее одной рукой — вместе с подушкой.
— Мне надо кое-что сказать тебе, белая мышка, — начала она. — Мистер Берман умер сегодня в больнице от воспаления легких. Он болел всего только два дня. Утром первого дня швейцар нашел бедного старика на полу в его комнате. Он был без сознания. Башмаки и вся его одежда промокли насквозь и были холодны, как лед. Никто не мог понять, куда он выходил в такую ужасную ночь. Потом нашли фонарь, который все еще горел, лестницу, сдвинутую с места, несколько брошенных кистей и палитру с желтой и зеленой красками. Посмотри в окно, дорогая, на последний лист плюща. Тебя не удивляло, что он не дрожит и не шевелится от ветра? Да, милая, это и есть шедевр Бермана — он написал его в ту ночь, когда слетел последний лист.
ПРОБЛЕМЫ:
- ЦЕЛИ И СРЕДСТВА
- МОРАЛЬНОЕ И МАТЕРИАЛЬНОЕ
- ВЗАИМОПОНИМАНИЕ
- КОРЫСТЬ
Пакет лежал прямо у двери — картонная коробка, на которой от руки были написаны их фамилия и адрес: «Мистеру и миссис Льюис, 217Е, Тридцать седьмая улица, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, 10016».
Внутри оказалась маленькая деревянная коробка с единственной кнопкой, закрытой стеклянным колпачком. Норма попыталась снять колпачок, но он не поддавался. К днищу коробочки липкой лентой был прикреплён сложенный листок бумаги: «Мистер Стюарт зайдёт к вам в 20.00».
Норма перечитала записку, отложила ее в сторону и, улыбаясь, пошла на кухню готовить салат.
Звонок в дверь раздался ровно в восемь.
— Я открою! — крикнула Норма из кухни. Артур читал в гостиной.
В коридоре стоял невысокий мужчина.
— Миссис Льюис? — вежливо осведомился он. — Я мистер Стюарт.
— Ах, да… — Норма с трудом подавила улыбку. Теперь она была уверена, что это рекламный трюк торговца.
— Разрешите войти? — спросил мистер Стюарт.
— Я сейчас занята. Так что, извините, просто вынесу вам вашу…
— Вы не хотите узнать, что это?
Норма молча повернулась.
— Это может оказаться выгодным…
— В денежном отношении? — вызывающе спросила она. Мистер Стюарт кивнул.
— Именно.
Норма нахмурилась.
— Что вы продаете?
— Я ничего не продаю, — ответил он.
Из гостиной вышел Артур.
— Какое-то недоразумение?
Мистер Стюарт представился.
— А-а, эта штуковина… — Артур кивнул в сторону гостиной и улыбнулся. — Что это вообще такое?
— Я постараюсь объяснить, — сказал мистер Стюарт. — Разрешите войти?
Артур взглянул на Норму.
— Как знаешь, — сказала она.
Он заколебался.
— Ну что ж, заходите.
Они прошли в гостиную. Мистер Стюарт сел в кресло и вытащил из внутреннего кармана пиджака маленький запечатанный конверт.
— Внутри находится ключ к колпачку, закрывающему кнопку, — пояснил он и положил конверт на журнальный столик. — Кнопка соединена со звонком в нашей конторе.
— Зачем? — спросил Артур.
— Если вы нажмете кнопку, — сказал мистер Стюарт, — где-то в мире умрёт незнакомый вам человек, и вы получите пятьдесят тысяч долларов.
Норма уставилась на посетителя широко раскрытыми глазами.
Тот улыбался.
— О чем вы говорите? — недоуменно спросил Артур.
Мистер Стюарт был удивлён.
— Но я только что объяснил.
— Это что, шутка?
— При чем тут шутка? Совершенно серьёзное предложение…
— Кого вы представляете? — перебила Норма.
Мистер Стюарт смутился.
— Боюсь, что я не могу ответить на этот вопрос. Тем не менее заверяю вас, что наша организация очень сильна.
— По-моему, вам лучше уйти, — заявил Артур, поднимаясь.
Мистер Стюарт встал с кресла.
— Пожалуйста.
— И захватите вашу кнопку.
— А может, подумаете день-другой?
Артур взял коробку и конверт и вложил их в руки мистера Стюарта. Потом вышел в прихожую и распахнул дверь.
— Я оставлю свою карточку. — Мистер Стюарт положил на столик возле двери визитную карточку и ушел.
Артур порвал ее пополам и бросил на стол.
— Как по-твоему, что все это значит? — спросила с дивана Норма.
— Мне плевать.
Она попыталась улыбнуться, но не смогла.
— И ни капельки не любопытно?..
Потом Артур стал читать, а Норма вернулась на кухню и закончила мыть посуду.
— Почему ты отказываешься говорить об этом? — спросила Норма.
Не прекращая чистить зубы, Артур поднял глаза и посмотрел на ее отражение в зеркале ванной.
— Разве тебя это не интригует?
— Меня это оскорбляет, — сказал Артур.
— Я понимаю, но… — Норма продолжала накручивать волосы на бигуди, — но ведь и интригует?..
— Ты думаешь, это шутка? — спросила она уже в спальне.
— Если шутка, то дурная.
Норма села на кровать и сбросила тапочки.
— Может быть, это психологи проводят какие-то исследования.
Артур пожал плечами.
— Может быть.
— Ты не хотел бы узнать?
Он покачал головой.
— Но почему?
— Потому что это аморально.
Норма забралась под одеяло. Артур выключил свет и наклонился поцеловать её.
— Спокойной ночи…
Норма сомкнула веки. Пятьдесят тысяч долларов, подумала она.
Утром, выходя из квартиры, Норма заметила на столе кусочки разорванной карточки. Повинуясь внезапному порыву, она кинула их в свою сумочку.
Во время перерыва она склеила карточку скотчем. Там были напечатаны только имя мистера Стюарта и номер телефона.
Ровно в пять она набрала номер.
— Слушаю, — раздался голос мистера Стюарта.
Норма едва не повесила трубку, но сдержала себя.
— Это миссис Льюис.
— Да, миссис Льюис? — Мистер Стюарт, казалось, был доволен.
— Мне любопытно.
— Естественно.
— Разумеется, я не верю ни одному слову.
— О, это чистая правда, — сказал мистер Стюарт.
— Как бы там ни было… — Норма сглотнула. — Когда вы говорили, что кто-то в мире умрёт, что вы имели в виду?
— Именно то, что говорил. Это может оказаться кто угодно. Мы гарантируем лишь, что вы не знаете этого человека. И, безусловно, что вам не придется наблюдать его смерть.
— За пятьдесят тысяч долларов?
— Совершенно верно.
Она насмешливо хмыкнула.
— Чертовщина какая-то…
— Тем не менее таково наше предложение, — сказал мистер Стюарт. — Занести вам прибор?
— Конечно, нет! — Норма с возмущением бросила трубку.
Пакет лежал у двери. Норма увидела его, как только вышла из лифта. Какая наглость! — подумала она. Я просто не возьму его. Она вошла в квартиру и стала готовить обед. Потом вышла за дверь, подхватила пакет и отнесла его на кухню, оставив на столе.
Норма сидела в гостиной, потягивая коктейль и глядя в окно. Немного погодя она пошла па кухню переворачивать котлеты и положила пакет в нижний ящик шкафа. Утром она его выбросит.
— Может быть, забавляется какой-то эксцентричный миллионер, — сказала она.
Артур оторвался от обеда.
— Я тебя не понимаю.
Они ели в молчании. Неожиданно Норма отложила вилку.
— А что, если это всерьёз?
— Ну и что тогда? — Он недоверчиво пожал плечами. — Что бы ты хотела — вернуть это устройство и нажать кнопку? Убить кого-то?
На лице Нормы появилось отвращение.
— Так уж и убить…
— А что же это, по-твоему?
— Но ведь мы даже не знаем этого человека.
Артур был потрясён.
— Ты говоришь серьёзно?
— Ну, а если это какой-нибудь старый китайский крестьянин за десять тысяч миль отсюда? Какой-нибудь больной туземец в Конго?
— А если это какая-нибудь малютка из Пенсильвании? — возразил Артур. — Прелестная девушка с соседней улицы?
— Ты нарочно все усложняешь.
— Какая разница, кто умрёт? — продолжал Артур. — Все равно это убийство.
— Значит, даже если это кто то, кого ты никогда в жизни не видел и не увидишь, — настаивала Норма, — кто то, о чьей смерти ты даже не узнаешь, ты все равно не нажмешь кнопку?
Артур поражённо уставился на нее.
— Ты хочешь сказать, что ты нажмешь?
— Пятьдесят тысяч долларов.
— При чем тут…
— Пятьдесят тысяч долларов, Артур, — перебила Норма. — Мы могли бы позволить себе путешествие в Европу, о котором всегда мечтали.
— Норма, нет.
— Мы могли бы купить тот коттедж…
— Норма, нет. — Его лицо побелело. — Ради бога, перестань.
Норма пожала плечами.
— Как угодно.
Она поднялась раньше, чем обычно, чтобы приготовить на завтрак Артуру блины, яйца и бекон.
— По какому поводу? — с улыбкой спросил Артур.
— Без всякого повода. — Норма обиделась. — Просто так.
— Отлично. Мне очень приятно.
Она наполнила его чашку.
— Хотела показать тебе, что я не эгоистка.
— А я разве говорил это?
— Ну, — она неопределённо махнула рукой, — вчера вечером…
Артур молчал.
— Наш разговор о кнопке, — напомнила Норма. — Я думаю, что ты неправильно меня понял.
— В каком отношении? — спросил он настороженным голосом.
— Ты решил, — она снова сделала жест рукой, — что я думаю только о себе…
— А-а…
— Так вот, нет. Когда я говорила о Европе, о коттедже…
— Норма, почему это тебя так волнует?
— Я всего лишь пытаюсь объяснить, — она судорожно вздохнула, — что думала о нас. Чтобы мы поездили по Европе. Чтобы мы купили коттедж. Чтобы у нас была лучше квартира, лучше мебель, лучше одежда. Чтобы мы, наконец, позволили себе ребёнка, между прочим.
— У нас будет ребёнок.
— Когда?
Он посмотрел на нее с тревогой.
— Норма…
— Когда?
— Ты что, серьёзно? — Он опешил. — Серьезно утверждаешь…
— Я утверждаю, что это какие-то исследования! — оборвала она. — Что они хотят выяснить, как поступит средний человек при таких обстоятельствах! Что они просто говорят, что кто-то умрёт, чтобы изучить нашу реакцию! Ты ведь не считаешь, что они действительно кого-нибудь убьют?!
Артур не ответил; его руки дрожали. Через некоторое время он поднялся и ушел.
Норма осталась за столом, отрешённо глядя в кофе. Мелькнула мысль: «Я опоздаю на работу…» Она пожала плечами. Ну и что? Она вообще должна быть дома, а не торчать в конторе…
Убирая посуду, она вдруг остановилась, вытерла руки и достала из нижнего ящика пакет. Норма положила коробочку на стол, вынула из конверта ключ и удалила колпачок. Долгое время она сидела, глядя на кнопку. Как странно… ну что в ней особенного?
Норма вытянула руку и нажала на кнопку. Ради нас, раздражённо подумала она.
Что теперь происходит? На миг ее захлестнула волна ужаса.
Волна быстро схлынула. Норма презрительно усмехнулась. Нелепо — так много уделять внимания ерунде.
Она швырнула коробочку, колпачок и ключ в мусорную корзину и пошла одеваться.
Она жарила на ужин отбивные, когда зазвонил телефон. Она поставила стакан с водкой-мартини и взяла трубку.
— Алло?
— Миссис Льюис?
— Да.
— Вас беспокоят из больницы «Легокс хилл».
Норма слушала будто в полусне. В толкучке Артур упал с платформы прямо под поезд метро. Несчастный случай.
Повесив трубку, она вспомнила, что Артур застраховал свою жизнь на двадцать пять тысяч долларов, с двойной компенсацией при…
Нет. С трудом поднявшись на ноги, Норма побрела на кухню и достала из корзины коробочку с кнопкой. Никаких гвоздей или шурупов… Вообще непонятно, как она была собрана.
Внезапно Норма стала колотить ею о край раковины, ударяя все сильнее и сильнее, пока дерево не треснуло. Внутри ничего не оказалось — ни транзисторов, ни проводов… Коробка была пуста.
Норма вздрогнула, когда зазвонил телефон. На подкашивающихся ногах она прошла в гостиную и взяла трубку.
Раздался голос мистера Стюарта.
— Вы говорили, что я не буду знать того, кто умрёт!
— Моя дорогая миссис Льюис, — сказал мистер Стюарт. — Неужели вы в самом деле думаете, что знали своего мужа?
"ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ШЕСТЕРКА". Б. ВАСИЛЬЕВ.
ПРОБЛЕМЫ: - БЮРОКРАТИЯ
- ВОСПИТАНИЕ
- ОТНОШЕНИЕ К ЖИВОТНЫМ
- СОПЕРЕЖИВАНИЕ
- ОТНОШЕНИЕ К ВЕТЕРАНАМ
- ДЕТСКАЯ ЖЕСТОКОСТЬ
- ОДИНОЧЕСТВО, СТАРОСТЬ
- ЦЕЛЬ И СРЕДСТВА
- ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ
- УВАЖЕНИЕ
Kони мчались в густом сумраке. Ветви хлестали по лицам всадников, с лошадиных морд капала пена, и свежий нешоссейный ветер туго надувал рубашки. И никакие автомашины, никакие скутера, никакие мотоциклы не шли сейчас ни в какое сравнение с этой ночной скачкой без дорог.
— Хелло, Вэл!
— Хелло, Стас!
Пришпорь, Роки, своего скакуна! Погоня, погоня, погоня! У тебя заряжен винчестер, Дэн? Вперед, вперед, только вперед! Вперед, Вит, вперед, Эдди! Приготовь кольт и вонзи шпоры в бока: мы должны уйти от шерифа!
Что может быть лучше топота копыт и бешеной скачки в никуда? И что из того, что худым мальчишеским задам больно биться о костлявые хребты неоседланных лошадей? Что из того, что лошадиный галоп тяжел и неуверен? Что из того, что лошадиные сердца выламывают ребра, из пересохших глоток рвется надсадный хрип, а пена стала розовой от крови? Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?
— Стой! Да стой же, мустанг, тпру!.. Ребята, отсюда — через овраг. Дырка за читалкой, и мы — дома.
— Ты молодец, Роки.
— Да, клевое дельце.
— А что делать с лошадьми?
— Завтра еще покатаемся.
— Завтра — конец смены, Эдди.
— Ну так что? Автобусы наверняка придут после обеда!
Автобусы из города пришли за второй лагерной сменой после завтрака. Водители торопили со сборами, демонстративно сигналя. Вожатые отрядов нервничали, ругались, пересчитывали детей. И с огромным облегчением вздохнули, когда автобусы, рявкнув клаксонами, тронулись в путь.
— Прекрасная смена, — отметила начальник лагеря Кира Сергеевна. — Теперь можно и отдохнуть. Как там у нас с шашлыками?
Кира Сергеевна не говорила, а отмечала, не улыбалась, а выражала одобрение, не ругала, а воспитывала. Она была опытным руководителем: умела подбирать работников, сносно кормить детей и избегать неприятностей. И всегда боролась. Боролась за первое место, за лучшую самодеятельность, за наглядную агитацию, за чистоту лагеря, чистоту помыслов и чистоту тел. Она была устремлена на борьбу, как обломок кирпича в нацеленной рогатке, и, кроме борьбы, ни о чем не желала думать: это был смысл всей ее жизни, ее реальный, лично ощутимый вклад в общенародное дело. Она не щадила ни себя, ни людей, требовала и убеждала, настаивала и утверждала и высшей наградой считала право отчитаться на бюро райкома как лучший руководитель пионерского лагеря минувшего сезона. Трижды она добивалась этой чести и не без оснований полагала, что и этот год не обманет ее надежд. И оценка «прекрасная смена» означала, что дети ничего не сломали, ничего не натворили, ничего не испортили, не разбежались и не подцепили заболеваний, из-за которых могли бы снизиться показатели ее лагеря. И она тут же выбросила из головы эту «прекрасную смену», потому что прибыла новая, третья смена и ее лагерь вступил в последний круг испытаний.
Через неделю после начала этого завершающего этапа в лагерь приехала милиция. Кира Сергеевна проверяла пищеблок, когда доложили. И это было настолько невероятно, настолько дико и нелепо применительно к ее лагерю, что Кира Сергеевна рассердилась.
— Наверняка из-за каких-то пустяков, — говорила она по пути в собственный кабинет. — А потом будут целый год упоминать, что наш лагерь посещала милиция. Вот так, мимоходом беспокоят людей, сеют слухи, кладут пятно.
— Да, да, — преданно поддакивала старшая пионервожатая с бюстом, самой природой предназначенным для наград, а пока носившим алый галстук параллельно земле. — Вы абсолютно правы, абсолютно. Врываться в детское учреждение…
— Пригласите физрука, — распорядилась Кира Сергеевна. — На всякий случай.
Покачивая галстуком, «бюст» бросился исполнять, а Кира Сергеевна остановилась перед собственным кабинетом, сочиняя отповедь в адрес бестактных блюстителей порядка. Подготовив тезисы, оправила идеально закрытое, напоминающее форму темное платье и решительно распахнула дверь.
— В чем дело, товарищи? — строго начала она. — Без телефонного предупреждения врываетесь в детское учреждение…
— Извините.
У окна стоял милицейский лейтенант настолько юного вида, что Кира Сергеевна не удивилась бы, увидев его в составе первого звена старшего отряда. Лейтенант неуверенно поклонился, глянув при этом на диван. Кира Сергеевна посмотрела туда же и с недоумением обнаружила маленького, худого, облезлого старичка в синтетической, застегнутой на все пуговицы рубашке. Тяжелый орден Отечественной войны выглядел на этой рубашке столь нелепо, что Кира Сергеевна зажмурилась и потрясла головой в надежде все же увидеть на старике пиджак, а не только мятые штаны да легкую рубаху с увесистым боевым орденом. Но и при вторичном взгляде ничего в старике не изменилось, и начальник лагеря поспешно уселась в собственное кресло, дабы обрести вдруг утраченное равновесие духа.
— Вы — Кира Сергеевна? — спросил лейтенант. — Я участковый инспектор, решил познакомиться. Конечно, раньше следовало, да все откладывал, а теперь…
Лейтенант старательно и негромко излагал причины своего появления, а Кира Сергеевна, слыша его, улавливала лишь отдельные слова: заслуженный фронтовик, списанное имущество, воспитание, лошади, дети. Она смотрела на старого инвалида с орденом на рубашке, не понимая, зачем он тут, и чувствовала, что старик этот, в упор глядя беспрестанно моргающими глазками, не видит ее точно так же, как она сама не слышит милиционера. И это раздражало ее, выбивало из колеи, а потому пугало. И она боялась сейчас не чего-то определенного — не милиции, не старика, не новостей, — а того, что испугалась. Страх нарастал от сознания, что он возник, и Кира Сергеевна растерялась и даже хотела спросить, что это за старик, зачем он здесь и почему так смотрит. Но эти вопросы прозвучали бы слишком по-женски, и Кира Сергеевна тут же задавила робко трепыхнувшиеся в ней слова. И с облегчением расслабилась, когда в кабинет вошли старшая пионервожатая и физрук.
— Повторите, — строго сказала она, заставив себя отвести глаза от свисающего с нейлоновой рубашки ордена. — Самую суть, коротко и доступно.
Лейтенант смешался. Достал платок, вытер лоб, повертел форменную фуражку.
— Собственно говоря, инвалид войны, — растерянно сказал он.
Кира Сергеевна сразу почувствовала эту растерянность, этот ч у ж о й страх, и ее собственная боязнь, ее собственная растерянность тут же исчезли без следа. Все отныне встало на место, и разговором теперь управляла она.
— Скудно выражаете мысли.
Милиционер посмотрел на нее, усмехнулся.
— Сейчас богаче изложу. У почетного колхозного пенсионера, героя войны Петра Дементьевича Прокудова угнали шестерых лошадей. И по всем данным, угнали пионеры вашего лагеря.
Он замолчал, и молчали все. Новость была ошарашивающей, грозила нешуточными осложнениями, даже неприятностями, и руководители лагеря думали сейчас, как бы увернуться, отвести обвинение, доказать чужую ошибку.
— Конечно, кони теперь без надобности, — вдруг забормотал старик, при каждом слове двигая большими ступнями. — Машины теперь по шаше, по воздуху и по телевизору. Конечно, отвыкли. Раньше вон мальчонка собственный кусок недоедал — коню нес. Он твой хлебушко хрумкает, а у тебя в животе урчит. С голодухи. А как же? Все есть хотят. Это машины не хотят, а кони хотят. А где же возьмут? Что дашь, то и едят.
Лейтенант невозмутимо выслушал это бормотание, но женщинам стало не по себе — даже физрук заметил. А был он человеком веселым, твердо знал, что дважды два — четыре, а потому и сохранял в здоровом теле здоровый дух. И всегда рвался защищать женщин.
— Чего мелешь-то, старина? — добродушно улыбнувшись, сказал он. — «Шаше», «шаше»! Говорить бы сперва выучился.
— Он контуженый, — глядя в сторону, тихо пояснил лейтенант.
— А мы не медкомиссия, товарищ лейтенант. Мы — детский оздоровительный комплекс, — внушительно сказал физрук. — Почему считаете, что наши ребята угнали лошадей? У нас современные дети, интересуются спортом, электроникой, машинами, а совсем не вашими одрами.
— Шестеро к деду ходили неоднократно. Называли друг друга иностранными именами, которые я записал со слов колхозных ребят… — Лейтенант достал блокнот, полистал. — Роки, Вел, Эдди, Ден. Есть такие?
— В первый раз… — внушительно начал физрук.
— Есть, — тихо прервала вожатая, начав буйно краснеть. — Игорек, Валера, Андрей, Дениска. Это же великолепная шестерка наша, Кира Сергеевна.
— Этого быть не может, — твердо определила начальница.
— Конечно, бред! — тотчас подхватил физрук, адресуясь непосредственно к колхозному пенсионеру. — С похмелюги, отец, поблазилось? Так с нас где сядешь, там и слезешь, понял?
— Перестаньте кричать на него, — негромко сказал лейтенант.
— Поди, пропил коняг, а на нас отыграться хочешь? Я тебя сразу раскусил!
Старик вдруг затрясся, засучил ногами. Милиционер бросился к нему, не очень вежливо оттолкнув при этом вожатую.
— Где у вас уборная? Уборная где, спрашиваю, спазмы у него.
— В коридоре, — сказала Кира Сергеевна. — Возьмите ключ, это мой личный туалет.
Лейтенант взял ключ, помог старику подняться.
На диване, где сидел инвалид, осталось мокрое пятно. Старик дрожал, мелко переставлял ноги и повторял:
— Дай три рубля на помин, и господь с ними. Дай три рубля на помин…
— Не дам! — сурово отрезал милиционер, и оба вышли.
— Он алкоголик, — брезгливо сказала вожатая, старательно повернувшись спиной к мокрому пятну на диване. — Конечно, прежде был герой, никто не умаляет, но теперь… — Она сокрушенно вздохнула. — Теперь алкоголик.
— А ребята и вправду лошадей брали, — тихо признался физрук. — Мне перед отъездом Валера сообщил. Что-то он еще тогда про лошадей говорил, да отозвали меня. Шашлыки готовить.
— Может быть, признаемся? — ледяным тоном поинтересовалась Кира Сергеевна. — Провалим соревнование, потеряем знамя. — Подчиненные примолкли, и она сочла необходимым пояснить: — Поймите, иное дело, если мальчики украли бы общественную собственность, но они же не украли ее, не так ли? Они покатались и отпустили, следовательно, это всего лишь шалость. Обычная мальчишеская шалость, наша общая недоработка, а пятно с коллектива не смоешь. И прощай знамя.
— Ясно, Кира Сергеевна, — вздохнул физрук. — И не докажешь, что не верблюд.
— Надо объяснить им, что это за ребята, — сказала вожатая. — Вы же недаром называли их великолепной шестеркой, Кира Сергеевна.
— Хорошая мысль. Достаньте отзывы, протоколы, Почетные грамоты. Быстренько систематизируйте.
Когда лейтенант вместе с притихшим инвалидом вернулись в кабинет, письменный стол ломился от раскрытых папок, Почетных грамот, графиков и схем.
— Извините деда, — виновато сказал лейтенант. — Контузия у него тяжелая.
— Ничего, — великодушно улыбнулась Кира Сергеевна. — Мы тут обменялись пока. И считаем, что вы, товарищи, просто не в курсе, какие у нас ребята. Можно смело сказать: они — надежда двадцать первого века. И, в частности, те, которые по абсолютному недоразумению попали в ваш позорный список, товарищ лейтенант.
Кира Сергеевна сделала паузу, дабы работник милиции и непонятно для чего привезенный им инвалид с так раздражающим ее орденом могли полностью уяснить, что главное — в прекрасном будущем, а не в тех досадных исключениях, которые пока еще кое-где встречаются у отдельных граждан. Но лейтенант терпеливо ждал, что последует далее, а старик, усевшись, вновь вперил тоскливый взор свой куда-то сквозь начальницу, сквозь стены и, кажется, сквозь само время. Это было неприятно, и Кира Сергеевна позволила себе пошутить:
— Бывают, знаете, пятна и на мраморе. Но ведь благородный мрамор остается благородным мрамором и тогда, когда на него падает тень. Сейчас мы покажем вам, товарищи, на кого пытаются бросить тень. — Она зашуршала бумагами, разложенными на столе. — Вот например… Например, Валера. Прекрасные математические данные, неоднократный победитель математических олимпиад. Здесь копии его Почетных грамот, можете ознакомиться. Далее, скажем, Славик…
— Второй Карпов! — решительно перебил физрук. — Блестящая глубина анализа, и в результате — первый разряд. Надежда области, а возможно, и всего Союза — говорю вам как специалист.
— А Игорек? — робко вставила вожатая. — Поразительное техническое чутье. Поразительное! Его показывали даже по телевизору.
— А наш изумительный полиглот Дениска? — подхватила Кира Сергеевна, невольно заражаясь восторженностью подчиненных. — Он уже овладел тремя языками. Вы сколькими языками владеете, товарищ милиционер?
Лейтенант серьезно поглядел на начальницу, скромно кашлянул в кулак и тихо спросил:
— А ты сколькими «языками» овладел, дед? За шестого орден-то дали, так вроде?
Старик задумчиво кивнул, и весомый орден качнулся на впалой груди, отразив позолотой солнечный лучик. И опять наступила неуютная пауза, и Кира Сергеевна уточнила, чтобы прервать ее:
— Товарищ фронтовик вам дедом приходится?
— Он всем дедом приходится, — как-то нехотя пояснил лейтенант. — Старики да дети — всем родня: этому меня бабка еще в зыбке учила.
— Странно вы как-то объясняете, — строго заметила Кира Сергеевна. — Мы понимаем, кто сидит перед нами, не беспокойтесь. Никто не забыт, и ничто не забыто.
— Мы каждую смену проводим торжественную линейку у обелиска павшим, — поспешно пояснила вожатая. — Возлагаем цветы.
— Мероприятие, значит, такое?
— Да, мероприятие! — резко сказал физрук, решив опять защищать женщин. — Не понимаю, почему вы иронизируете над средствами воспитания патриотизма.
— Я, это… Я не иронизирую. — Лейтенант говорил негромко и очень спокойно, и поэтому все в комнате злились. Кроме старого фронтовика. — Цветы, салюты — это все правильно, конечно, только я не о том. Вот вы о мраморе говорили. Мрамор — это хорошо. Чисто всегда. И цветы класть удобно. А что вот с таким дедом делать, которого еще в мрамор не одели? Который за собой ухаживать не может, который в штаны, я извиняюсь, конечно… да к водке тянется, хоть ты связывай его! Чем он тех хуже, которые под мрамором? Тем, что помереть не успел?
— Простите, товарищ, даже странно слышать. А льготы инвалидам войны? А почет? Государство заботится…
— Вы, что ли, государство? Я же не о государстве, я о ваших пионерах говорю. И о вас.
— И все-таки! — Кира Сергеевна выразительно постучала по столу карандашом. — И все-таки я настаиваю, чтобы вы изменили формулировку.
— Что изменил? — переспросил участковый.
— Формулировку. Как неправильную, вредную и даже аполитичную, если смотреть в корень.
— Даже? — переспросил милиционер и опять неприятно усмехнулся.
— Не понимаю, чего усмехаетесь? — пожал плечами физрук. — Доказательства есть? Нету. А у нас — есть. Получается, что клевету поддерживаете, а это знаете чем пахнет?
— Плохо пахнет, — согласился лейтенант. — Скоро почувствуете.
Он говорил с горечью, без всяких угроз и намеков, но тем, кому он это говорил, слышалась не горечь, а скрытые угрозы. Им представлялось, что участковый темнит, что-то сознательно недоговаривает, и поэтому они опять замолчали, лихорадочно соображая, какие козыри выкинет противник и чем эти козыри следует бить.
— Конь, он как человек, — неожиданно вклинился старик и опять задвигал ногами. — Он только не говорит, он только понимает. Он меня спас, Кучум звать. Статный такой Кучум, гнедой. Счас, счас.
Инвалид встал и начал суетливо расстегивать пуговицы рубашки. Тяжелый орден, обвиснув, раскачивался на скользкой ткани, а дед, бормоча «счас, счас», все еще возился с пуговицами.
— Он что, раздевается? — шепотом спросила старшая пионервожатая. — Скажите, чтоб перестал.
— Он вам второй орден покажет, — сказал лейтенант. — На спине.
Не совладав со всеми пуговицами, старик стащил рубашку через голову и, не снимая с рук, повернулся. На худой, костлявой спине его под левым плечом был виден бурый полукруглый шрам.
— Это зубы его, зубы, — все еще стоя к ним спиной, говорил дед. — Кучума, значит. Контузило меня на переправе, так в воду оба и упали. Я, это, соображения не имел, а Кучум — вот. Зубами за гимнастерку да вместе с мясом, чтоб покрепше. И выволок. И упал сам. Осколком у него ребра выломало, и кишки за ним волочились.
— Какая гадость, — сказала вожатая, став пунцовой, как галстук. — Кира Сергеевна, что же это такое? Это же издевательство какое-то, Кира Сергеевна.
— Одевайся, дед, — вздохнул лейтенант, и опять никто не почувствовал его боли и заботы: все своей боли боялись. — Простудишься, так тебя никакой Кучум больше не вытащит.
— Ах, коник был, ах, коник! — Старик надел рубаху и повернулся, застегиваясь. — Мало живут они, вот беда. Все никак до добра дожить не могут. Не успевают.
Бормоча, он заталкивал рубаху в мятые штаны, улыбался, а по морщинистому, покрытому седой щетиной лицу текли слезы. Желтые, безостановочные, лошадиные какие-то.
— Одевайся, дедушка, — тихо сказал милиционер. — Дай я тебе пуговку застегну.
Он стал помогать, а инвалид благодарно уткнулся ему в плечо. Потерся и вздохнул, будто старая, усталая лошадь, так и не дожившая до добра.
— Ах, Коля, Коля, дал бы ты мне три рубля…
— Родственник! — вдруг торжествующе выкрикнула Кира Сергеевна и резко хлопнула ладонью по столу. — Скрывали, путали, а сами привели юродствующего родственника. С какой целью? Под фонарем ищете, — чтобы виноватого обелить?
— Конечно же это ваш собственный дед! — тотчас же подхватил физрук. — Это ж видно. Невооруженным глазом, как говорится.
— Мой дед в братской под Харьковом лежит, — сказал участковый. — А это не мой, это колхозный дедушка. А кони, которых ваша великолепная шестерка угнала, то его были кони. Колхоз их, коней этих, ему, Прокудову Петру Дементьевичу, передал.
— Насчет «угнали», как вы употребили, доказать еще придется, — внушительно отметила Кира Сергеевна. — Я не позволю чернить вверенный мне детский коллектив. Можете официально заводить «дело», можете, а сейчас немедленно покиньте мой кабинет. Я подчиняюсь непосредственно области и буду разговаривать не с вами и не с этим колхозным дедом, а с соответствующими компетентными товарищами.
— Вот, значит, и познакомились, — невесело усмехнулся лейтенант. Надел фуражку, помог старику подняться. — Пойдем, дед, пойдем.
— Дал бы три рубля…
— Не дам! — отрезал участковый и обернулся к начальнице. — Не беспокойтесь, не будет никакого дела. Кони были списаны с колхозного баланса, и иск предъявлять некому. Ничейные были кони.
— Ах, кони, коники, — завздыхал старик. — Теперь машины ласкают, а коней бьют. И никак им теперь не дожить до жизни своей.
— Позвольте, — Кира Сергеевна растерялась едва ли не впервые в своей начальнической практике, поскольку поступок собеседника не укладывался ни в какие рамки. — Если нет никакого «дела», так зачем же… — Она медленно встала, вырастая над собственным столом. — Как вы смели? Это недостойное подозрение, это… У меня нет слов, но я так не оставлю. Я немедленно поставлю в известность вашего начальника, слышите? Немедленно.
— Ставьте в известность, — согласился лейтенант. — А потом пошлите кого-нибудь конские трупы зарыть. Они за оврагом, в роще.
— Ах, кони, коники! — опять заныл старик, и слезы капали на нейлоновую рубашку.
— Они, значит, что… умерли? — шепотом спросила вожатая.
— Пали, — строго поправил лейтенант, глядя в доселе такие безмятежные глаза. — От голода и жажды. Ваши ребята, накатавшись, их к деревьям привязали, а сами уехали. По домам. Кони все объели, до чего дотянуться смогли: листву, кусты, кору древесную. А привязаны были высоко и коротко, так что и пасть им не удалось: висят там на уздечках. — Он достал из кармана несколько фотографий, положил на стол. — Туристы мне завезли. А я — вам. На память.
Женщины и физрук с ужасом смотрели на оскаленные, задранные к небу мертвые лошадиные морды с застывшими в глазницах слезами. Корявый дрожащий палец влез в поле их зрения, ласково провел по фотографиям.
— Вот он, Сивый. Старый меринок был, хворый, а глянь, только справа все обглодал. А почему? А потому, что слева Пулька была привязана, древняя такая кобылка. Так он ей оставлял. Кони, они жалеть умеют…
— Пойдем, дед! — звенящим голосом выкрикнул лейтенант. — Что ты им объясняешь?!
Хлопнула дверь, затихло старческое бормотанье, скрип милицейских сапог, а они все еще никак не могли оторвать глаз от облепленных мухами лошадиных морд с навеки застывшими глазами. И только когда крупная слеза, сорвавшись с ресниц, ударилась о глянцевую бумагу, Кира Сергеевна очнулась.
— Этих, — она потыкала в фотографии, — спрятать… то есть закопать поскорее, нечего зря детей травмировать. — Порылась в сумочке, достала десятку, протянула, не глядя, физруку. — Инвалиду передайте, он помянуть хотел, уважить надо. Только чтоб милиционер не заметил, а то… И намекните помягче, чтоб не болтал понапрасну.
— Не беспокойтесь, Кира Сергеевна, — заверил физрук и поспешно вышел.
— Я тоже пойду, — не поднимая головы, сказала вожатая. — Можно?
— Да, конечно, конечно.
Кира Сергеевна дождалась, когда затихнут шаги, прошла в личный туалет, заперлась там, изорвала фотографии, бросила клочки в унитаз и с огромным облегчением спустила воду.
А почетный пенсионер колхоза Петр Дементьевич Прокудов, бывший разведчик кавкорпуса генерала Белова, тем же вечером умер. Он купил две бутылки водки и выпил их в зимней конюшне, где до сей поры так замечательно пахло лошадьми.
ЛАВКА МИРОВ". Р. ШЕКЛИ.
ПРОБЛЕМЫ:
- СМЫСЛ ЖИЗНИ
- РОЛЬ СЕМЬИ
- ЦЕЛЬ И СРЕДСТВА
- ВЛИЯНИЕ ВОЙНЫ НА ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА
- МЕЧТА
- ИСТИННЫЕ И ЛОЖНЫЕ ЦЕННОСТИ
- ЦЕНА СЧАСТЬЯ
- НАДЕЖДА
Добравшись до конца длинной, доходившей до плеч гряды серого щебня, Уэйн очутился перед Лавкой миров. Он сразу узнал ее по описаниям друзей. Это была маленькая лачуга, сооруженная из поломанных досок, листа оцинкованного железа, остатков автомобильного кузова и потрескавшихся кирпичей. Снаружи все это было неровно вымазано бледно-голубой краской.
Уэйн оглянулся на длинную каменистую тропку, чтобы убедиться, что за ним никто не следит. При мысли о собственной дерзости его бросило в жар. Он крепче зажал в руках сверток, открыл дверь и быстро прошел внутрь.
- Доброе утро, - сказал хозяин.
Он тоже был именно таким, каким его описывали: высокий старик с хитро прищуренными глазами и угрюмым ртом. Звали его Томпкинс. Он восседал в древней качалке, на спинке которой примостился сине-зеленый попугай. В лавке были еще стул и стол. На столе лежал заржавленный шприц.
- Я узнал о вашей лавке от друзей, - сказал Уэйн.
- Тогда вам известно, сколько я беру, - сказал Томпкинс. - Принесли?
- Да, - сказал Уэйн, приподняв сверток. - Но я хотел бы узнать...
- Все они одинаковы, - сказал Томпкинс, обращаясь к попугаю. Попугай мигнул. - Валяйте, спрашивайте.
- Мне хотелось бы знать, что на самом деле происходит в это время.
Томпкинс вздохнул:
- Происходит вот что. Вы мне платите. Я делаю вам укол, от которого вы засыпаете. Затем с помощью кое-каких приспособлений, которые у меня за стеной, я освобождаю ваше сознание.
Кончив, Томпкинс усмехнулся, и Уэйну показалось, что его молчаливый попугай тоже усмехнулся.
- А потом?
- Ваше сознание, освобожденное от тела, сможет выбрать любой из бесчисленных миров-вероятностей, которые постоянно существуют вместе с Землей.
Широко улыбнувшись, Томпкинс приподнялся в своей качалке. В его голосе послышалось вдохновение.
- Да, да, мой друг, хотя вы, наверное, и не подозревали этого, наша потрепанная Земля с момента своего рождения из огненного чрева Солнца сама начала порождать альтернативные миры-вероятности. Любые крупные или ничтожные события отражаются в несметном числе миров. И Александры Македонские и амебы - все создают эти миры; велик или мал камень, брошенный в воду, от него все равно расходятся круги. Каждый предмет отбрасывает тень, не правда ли? Земля, друг мой, существует в четырехмерном пространстве, и видимое материальное отражение Земли в любой данный момент является лишь ее трехмерной тенью. Миллионы, миллиарды Земель! Бесконечный ряд Земель! Ваше сознание, освобожденное мною, сможет выбрать любой из этих миров и на некоторое время поселиться в нем.
У Уэйна было неприятное чувство, будто перед ним балаганный зазывала, рекламирующий чудеса. И все же, напомнил он себе, за свою жизнь он насмотрелся такого, чему раньше ни за что бы не поверил. Ни за что! Поэтому возможно, что чудеса, о которых рассказывал Томпкинс, тоже могут осуществиться. Уэйн сказал:
- Мои друзья еще говорили...
- Что я отъявленный мошенник? - перебил его Томпкинс.
- Некоторые из них намекали на это, - осторожно заметил Уэйн. - Но я стараюсь не быть предубежденным. Они еще рассказывали...
- Я знаю, о чем рассказывали ваши друзья; они рассказывали вам об удовлетворении желания. Именно об этом вы хотели услышать?
- Да, - сказал Уэйн. - Они говорили мне, что, чего бы я не пожелал... чего бы ни захотел...
- Вот именно, - сказал Томпкинс. - Именно так, а не иначе. Можно выбирать из бесконечного множества существующих миров. Ваше сознание выбирает, руководствуясь только желанием. Главное - то, в чем заключается ваше сокровеннейшее желание. Если вы втайне мечтаете совершить убийство...
- Нет, нет, ни в коем случае! - воскликнул Уэйн.
- ...тогда вы попадете в мир, где разрешается убивать, где вы будете купаться в крови, - где вы превзойдете самого маркиза де Сада, или Цезаря, или любого другого вашего идола. А вдруг вы стремитесь к власти? Тогда вы изберете мир, где вы будете богом в буквальном смысле. Может быть, кровожадным Джаггернаутом или всемудрым Буддой.
- Я очень сомневаюсь, что я...
- Есть и другие желания, - продолжал Томпкинс. - Все, что может родить воображение ангела или дьявола. Половые извращения, обжорство, пьянство, любовь, слава - все что вы пожелаете.
- Поразительно! - сказал Уэйн.
- Да, - согласился Томпкинс, - конечно, мой краткий перечень не исчерпывает всех возможностей, всех комбинаций и трансформаций желаний. Вполне возможно, что вам захочется скромного, мирного, пасторального существования среди идеализированных туземцев на одном из островов Южных морей.
- Это больше по мне, - робко засмеялся Уэйн.
- Но кто знает? - сказал Томпкинс. - Вы можете даже и не подозревать о своих действительных желаниях. Вы можете даже хотеть собственной смерти.
- И так часто бывает? - озабоченно спросил Уэйн.
- Иногда.
- Я бы не хотел умереть, - сказал Уэйн.
- Так почти никогда не бывает, - сказал Томпкинс, глядя на сверток, который Уэйн держал в руках.
- Если так... Но откуда я знаю, что все это правда? Плата чрезвычайно высока, мне придется отдать все, что у меня есть. А кто вас знает, дадите мне снотворного, и все мне приснится. Отдать все, что у меня есть, за... дозу героина и набор красивых фраз.
Томпкинс успокаивающе улыбнулся:
- Испытываемые ощущения не похожи на то, что дают одурманивающие средства; не похожи они и на сновидение.
- Если это правда, - слегка раздраженно сказал Уэйн, почему нельзя навсегда остаться в мире своей мечты? - Я работаю над этим, - сказал Томпкинс. - Вот почему я беру такую высокую плату - чтобы достать материалы, чтобы экспериментировать. Я пытаюсь найти способ сделать трансформацию устойчивой. Пока мне не удается ослабить путы, привязывающие человека к Земле и влекущие его назад. Даже великие мистики не смогли порвать этих пут, не прибегая к смерти. Но я не теряю надежды.
- Если вы добьетесь успеха, это будет великим событием, вежливо заметил Уэйн.
- Безусловно! - выкрикнул Томпкинс с неожиданной страстью. - Тогда я превратил бы свою несчастную лавку во врата спасения! Трансформация стала бы бесплатной, бесплатной для всех! Каждый смог бы тогда отправиться в мир своей мечты, в мир, для которого он создан, и оставить эту проклятую Землю крысам и червям...
Томпкинс оборвал себя на середине фразы и неожиданно заговорил с ледяным спокойствием:
- Однако я увлекся. Пока я еще не нашел способа бегства с Земли, по надежности не уступающего смерти. Возможно, мне это никогда не удастся. А пока я вам предлагаю съездить в отпуск, переменить обстановку, ощутить другой мир, взглянуть на собственные мечты. Вам известно, сколько я беру. Я возмещу плату, если то, что вы будете ощущать, вас не удовлетворит.
- Вы очень добры, - с искренним чувством сказал Уэйн. Но есть еще одно обстоятельство, о котором рассказывали мне друзья. Я имею в виду сокращение жизни на десять лет.
- Здесь ничего не поделаешь, - сказал Томпкинс, - и этого не возместишь. Мой метод требует колоссального напряжения нервной системы, что, естественно, ведет к сокращению продолжительности жизни. Это одна из причин, по которым наше так называемое правительство объявило мой метод незаконным.
- Однако оно не слишком строго следит за соблюдением запрета, - заметил Уэйн.
- Верно. Официально мое изобретение запрещено как вредное мошенничество. Но чиновники тоже люди. Им тоже хочется покинуть Землю, как и всем другим.
- Отдать все, - задумчиво проговорил Уэйн, крепко сжимая в руках сверток. - И вдобавок потерять десять лет жизни! За исполнение моих тайных желаний... Вы знаете, я должен это хорошенько обдумать.
- Думайте сколько влезет, сказал Томпкинс безразличным тоном.
Уэйн думал не переставая, пока возвращался домой. Он все еще думал, когда поезд прибыл в Порт-Вашингтон на Лонг-Айленде. Сидя за рулем машины на пути от станции домой, он вспоминал хитрое морщинистое лицо Томпкинса и думал о мирах- вероятностях и об исполнении желаний.
Однако размышления эти пришлось оставить, как только он вошел в дом. Его жена Джейнет хотела, чтобы он построже поговорил с прислугой, которая снова начала выпивать. Сыну Томми потребовалось помочь с парусной лодкой, которую нужно было спускать на воду на следующий день. А его маленькой дочке не терпелось рассказать, как она провела день в детском саду.
Уэйн вежливо, но строго поговорил с прислугой. Он помог Томми нанести еще один слой медно-рыжей краски на днище парусника и выслушал рассказ Пегти о ее приключениях на детской площадке.
Позже, когда детей уложили и они остались одни в гостиной, Джейнет спросила, нет ли у него неприятностей на работе.
- Неприятностей?
- Ты чем-то озабочен, - сказала Джейнет. - Что-нибудь произошло?
- Да нет, все было как обычно...
Он ни за что не расскажет ни Джейнет, ни вообще кому бы то ни было, что он брал выходной и ездил в эту сумасшедшую Лавку миров к Томпкинсу. Не собирался он обсуждать и право каждого человека хоть раз в жизни исполнить свои самые сокровенные желания. Джейнет с ее прямолинейностью и здравым смыслом никогда этого не понять.
В конторе наступили горячие дни. На Уолл-стрит царила паника из-за событий на Среднем Востоке и в Азии, и биржа на это реагировала. Уэйн углубился в работу. Он старался не думать об исполнении желаний ценою всего, чем он обладал. Бред! Старый Томпкинс, верно, выжил из ума!
С субботы на воскресенье он уходил в плаванье с Томми. У старого парусника был неплохой ход и швы в днище почти не пропускали воду. Томми попросил купить новые гоночные паруса, но Уэйн ему отказал. Может быть, в следующем году, когда цены установятся. Пока же придется обойтись старыми.
Иногда вечером, когда дети спали, они с Джейнет отправлялись на паруснике. В проливе Лонг-Айленд в такие часы было спокойно и прохладно. Парусник скользил среди мигающих бакенов, держа курс на большой желтый диск луны.
- Тебя что-то беспокоит, я чувствую, - сказала Джейнет.
- Милая, не надо!
- Ты от меня что-то скрываешь?
- Нет, ничего.
- Правда? Тогда обними меня крепче. Вот так...
Парусник плыл некоторое время никем не управляемый.
Исполнение всех желаний...
Но наступила осень, и парусник нужно было поднимать на берег. Биржа несколько стабилизировалась, но тут Пегти подхватила корь. Томми хотел узнать разницу между обычными бомбами, атомными бомбами, водородными бомбами, кобальтовыми бомбами и всеми другими видами бомб, о которых писали газеты. Уэйн объяснил как мог. Потом от них неожиданно ушла прислуга.
Тайные желания - это, конечно, здорово. Допустим, он действительно хотел кого- нибудь убить или поселиться на острове в Южных морях. Но у него были еще и обязанности. У него двое маленьких детей и чудесная жена, которой он не стоит. Вот, может быть, ближе к рождеству...
Однако зимой из-за короткого замыкания начался пожар в пустой спальне для гостей. Пожарники потушили огонь. Ущерба особого не было, и никто не пострадал. Но о Томпкинсе пришлось на время забыть. В первую очередь нужно было заняться ремонтом спальни, ведь Уэйн очень гордился своим старинным домом.
Из-за международной обстановки конъюнктура была неопределенной. По бирже ползли слухи - а как там русские, арабы, греки, китайцы... И потом - межконтинентальные ракеты, атомные бомбы, спутники... Уэйн проводил на работе целые дни, а иногда оставался и по вечерам. У Томми началась свинка. Нужно было перекрыть крышу. Вскоре пришла пора позаботиться и о весеннем спуске на воду парусника.
Прошел год, а у него не было времени подумать о тайных желаниях. Возможно, в будущем году... А тем временем...
- Ну как? - спросил Томпкинс. - Чувствуете себя нормально?
- Да, вполне, - сказал Уэйн.
Он встал и потер лоб.
- Хотите, чтобы я возместил плату? - спросил Томпкинс.
- Нет. Ощущение было вполне удовлетворительным.
- Иначе и быть не могло, - сказал Томпкинс, подмигнув попугаю с грязной ухмылкой. - Так что же вы выбрали?
- Мир недавнего прошлого, - сказал Уэйн.
- Многие выбирают то же самое. Определили свое тайное желание? Что это было - убийство? Или остров в южных морях?
- Я бы предпочел не говорить об этом, - сказал Уэйн вежливо, но твердо.
- Многие не желают говорить со мной об этом, - угрюмо сказал Томпкинс,- Будь я проклят, если понимаю, почему так.
- Потому что... В общем, по-моему, мир тайных желаний является как бы священным, что ли, для каждого человека. Не обижайтесь... Как по-вашему, сможете ли вы когда-нибудь сделать так, чтобы это было навсегда? Я имею в виду выбор того или иного мира.
Старик пожал плечами.
- Я пытаюсь. Вы узнаете, если мне это удастся. Все узнают.
- Да, видимо, так.
Уэйн развязал сверток и выложил содержимое на стол. В свертке были пара армейских сапог, нож, два мотка медной проволоки и три небольшие банки мясных консервов.
На мгновение в глазах Томпкинса вспыхнул огонек.
- Вполне достаточно, - сказал он. - Спасибо.
- До свидания, - сказал Уэйн. - Вам спасибо.
Уэйн вышел из лавки и быстрым шагом направился туда, где кончалась каменистая гряда. За ней, насколько хватало глаз, простиралась плоская буро-серо-черная равнина, усыпанная щебнем. От горизонта к горизонту тянулись искореженные трупы городов, расщепленные стволы деревьев и поля мягкого белого пепла, который был когда-то человеческой плотью.
- Что ж, - сказал Уэйн вслух, - по крайней мере мы заплатили за все сполна.
Этот год в прошлом стоил ему всего состояния да десяти лет жизни в придачу. Был ли это сон? Все равно, он стоил этого! Но сейчас ему нужно выбросить из головы мысли о Джейнет и детях. С этим покончено, если только Томпкинс не усовершенствует свое изобретение. Теперь следует позаботиться о собственном существовании.
С помощью наручного счетчика Гейгера он обнаружил среди щебня дезактивированный проход. Успеть бы в убежище до наступления темноты, пока еще не вышли крысы. Если он не поторопится, то опоздает на вечернюю раздачу картофеля.
27