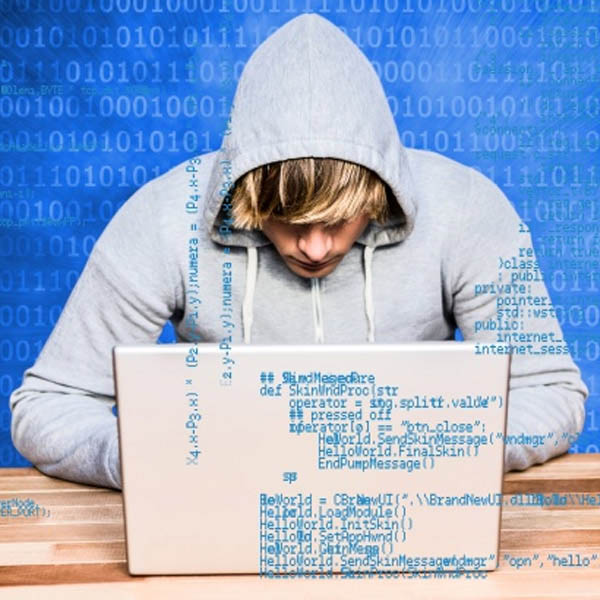И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»
IIлан
I. Литературная и историческая судьба комедии Грибоедова.
II. Жанровое своеобразие «Горя от ума».
III. Язык и стиль пьесы.
IV. Сюжет и композиция, сценичность комедии.
V. Образ Чацкого.
1. Роль Чацкого – главная в пьесе.
2. Сопоставление героя комедии Грибоедова с «лишними людьми» (Онегиным и Печориным).
3. Единство личных и общественных мотивов в драме Чацкого («мильон терзаний» героя).
VI. Образ Софьи.
VII. Чацкий – победитель или побеждённый?
VIII. Реализм комедии и типичность Чацких.
I. Гончаров отмечает, что комедия «Горе от ума» стоит «особняком в литературе». Признавая, что творение Грибоедова нельзя ставить в один ряд с бессмертным «Евгением Онегиным» и другими произведениями «гения Пушкина», автор статьи говорит, что «Онегин» стал для нас историей, а герои «Горя от ума» будут жить до тех пор, «пока будет существовать стремление к почестям помимо заслуг, пока будут водиться мастера и охотники угодничать и «награжденья брать и весело пожить», пока будут господствовать карьеризм, чинопочитание, сплетни, безделье как социальные пороки, пока можно будет встретить Фамусовых, Молчаливых, Репетиловых, Загорецких.
Пьеса вынесла испытание популярностью (публика «буквально истаскала комедию до пресыщения»). Наконец, она была признана «образцовым произведением» как «грамотной массой», так и критикой.
Что же привлекает поклонников пьесы к ней? Отвечая на этот вопрос, Гончаров пишет, что одни видят достоинство комедии в том, что в ней с поразительной достоверностью переданы основные черты таких социальных типов, как Фамусов, Молчалин, Скалозуб, другие же «дорожат более эпиграмматической солью языка, живой сатирой – моралью» пьесы.
II. Автор статьи полностью согласен с теми, кто признаёт, что «комедия «Горе от ума» есть и картина нравов, и галерея живых типов, и вечно острая, жгучая сатира, и вместе с тем и комедия... больше всего комедия». В этих особенностях пьесы Гончаров видит её жанровое своеобразие, подчёркивая, что «Горе от ума» более всего «тонкая, умная, изящная и страстная комедия». Комичны не только представители фамусовского круга, комичен и Чацкий с его наивным поведением в гостиной фамусовского дома.
В пьесе воссоздаётся «длинный период русской жизни – от Екатерины до императора Николая. В группе двадцати лиц отразилась... вся прежняя Москва, её рисунок, тогдашний её дух, исторический момент и нравы». Гончаров считает, что в комедии нет ни одного надуманного персонажа, ни одной лишней детали; всё – «от Фамусова до мелких штрихов, до князя Тугоуховского и до лакея Петрушки» – взято из жизни и перенесено в пьесу.
III. Гончаров высоко оценивает язык и стиль комедии, в частности такие её стороны, как «ум, юмор, шутка и злость русского ума и языка». Автор статьи указывает на «разговорный стих» пьесы, отмечает, что язык её героев – это «естественная, простая... взятая из жизни речь».
Гончаров подчёркивает, что ни одно произведение русской литературы до комедии «Горе от ума», ещё задолго даже до её напечатания, не проникло в такой степени в широкие слои тогдашних читателей: «...грамотная масса... сразу поняв её красоты и не найдя недостатков... разнесла рукопись на клочья, на стихи, полустишья, развела всю соль и мудрость пьесы в разговорной речи, точно обратила мильон в гривенники... испестрила грибоедовскими поговорками разговор...»
IV. Гончаров тонко анализирует сюжет и композицию «Горя от ума», критикуя при этом тех, кто отказывал комедии в сценичности, в присутствии движения, действия: «Как нет движения? Есть – живое, непрерывное, от первого появления Чацкого на сцене до последнего его слова: «Карету мне, карету!» «то движение, которое идёт через всю пьесу, как невидимая, но живая нить, связывающая все части и лица комедии между собою».
Гончаров обстоятельно прослеживает «ход пьесы», её сюжетное развитие, динамику, внутренний механизм – от сцены к сцене, от акта к акту, впервые установив, что в сценическом движении комедии переплетаются между собою две интриги – личная и общественная. Автор статьи обращает внимание на то, что в сценах третьего акта, посвящённых изображению бала у Фамусова, картины бала на время «вытесняют из памяти зрителя интригу Чацкого, но и сам Чацкий как будто забывает о ней и мешается в толпу». Каждое лицо или группа лиц на балу «образует свою отдельную комедию, с полной обрисовкой характеров, успевших в нескольких словах разыграться в законченное действие».
 «Разве не полную комедию разыгрывают Горичи? Этот муж, недавно ещё бодрый и живой человек, теперь опустившийся, облёкшийся, как в халат, в московскую жизнь, барин; «муж-мальчик, муж-слуга, идеал московских мужей», по меткому определению Чацкого, – под башмаком приторной, жеманной светской супруги, московской дамы?
«Разве не полную комедию разыгрывают Горичи? Этот муж, недавно ещё бодрый и живой человек, теперь опустившийся, облёкшийся, как в халат, в московскую жизнь, барин; «муж-мальчик, муж-слуга, идеал московских мужей», по меткому определению Чацкого, – под башмаком приторной, жеманной светской супруги, московской дамы?
А эти шесть княжен и графиня-внучка – весь этот контингент невест, «умеющих, – по словам Фамусова, – принарядить себя тафтицей, бархатцем и дымкой», «поющих верхние нотки и льнущих к военным людям»?
Эта Хлестова, остаток екатерининского века, с моськой, с арапкой-девочкой, – эта княгиня и князь Пётр Ильич – без слова, но такая говорящая руина прошлого; Загорецкий, явный мошенник, спасающийся от тюрьмы в лучших гостиных и откупающийся угодливостью... и эти N.N., и все толки их, и всё занимающее их содержание!»
Гончаров высоко оценивает мастерство Грибоедова-реалиста, нарисовавшего правдивую картину московского быта и нравов той эпохи.
V. Особенно много нового внёс Гончаров в интерпретацию образа Чацкого. Автор статьи замечает, что «о Чацком многие недоумевают: что он такое? Он как будто... какая-то загадочная карта в колоде. Если было мало разногласия в понимании других лиц, то о Чацком, напротив, разногласия не кончились до сих пор и, может быть, не кончатся ещё долго». Гончаров подчёркивает реалистическую многосторонность образа Чацкого, остроумие героя, честность и прогрессивность его убеждений, выражает к нему тёплое сочувствие, как к живому лицу.
1. По мысли Гончарова, «главная роль, конечно, – роль Чацкого, без которой не было бы комедии, а была бы, пожалуй, картина нравов». Столкновение героя с окружающим его обществом определяет «громадный, настоящий смысл», «главный разум» произведения, даёт ему то живое, непрерывное движение, которое пронизывает его от начала до конца. В комедии «два века сходятся лицом к лицу». Чацкий действительно «умнее всех прочих лиц... Речь его кипит умом, остроумием». По при всём этом он поступает так «неумно», что «это подало Пушкину повод отказать ему в уме». («Пушкин... вероятно, всего более имел в виду последнюю сцену 4-го акта, в сенях, при разъезде». Здесь Чацкому изменяет «не только ум, но и здравый смысл, даже простое приличие... ни Онегин, ни Печорин, эти франты, не сделали бы того, что проделал в сенях Чацкий».)
2. Гончаров отмечает, что Чацкий «как личность несравненно выше и умнее Онегина и лермонтовского Печорина. Он искренний и горячий деятель, а те паразиты... болезненные порождения отжившего века. Ими заканчивается их время, а Чацкий начинает новый век – и в этом всё его значение и весь «ум». «Лишние люди» не способны к делу, учились «чему-нибудь и как-нибудь» и владеют только искусством пленять сердца. Чацкий, напротив, «готовился серьёзно к деятельности. О «тоскующей лени, о праздной скуке» и помину нет, а ещё менее о «страсти нежной», как о науке и о занятии».
3. Гончаров убедительно показывает единство личных и общественных мотивов в драме Чацкого, что позволяет ему доказать социальную и психологическую оправданность поведения героя.
Чацкий приехал в Москву только ради Софьи. «Его поразили две перемены: она необыкновенно похорошела и охладела к нему – тоже необыкновенно». Чацкий надеется найти ответ прежнему чувству – «всё напрасно: нежные воспоминания, остроты – ничто не помогает. Он терпит от неё одни холодности. Между ней и Чацким завязался горячий поединок, самое живое действие, комедия в тесном смысле, в которой принимают участие два лица – Молчалин и Лиза».
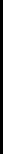 Вскоре линия Чацкий – Софья значительно расширяется, она уже не является единственной в комедии. Борьба героя за сердце любимой девушки перерастает в «другую борьбу, важную и серьёзную, целую битву» – между Чацким и фамусовским кругом. «Образовались два лагеря, или, с одной стороны, целый лагерь Фамусовых и всей братии «отцов и старших», с другой – один пылкий и отважный боец... Если Фамусов хочет быть «тузом», «есть на серебре и золоте» только за то, что «он подписывает бумаги, не читая» их, то Чацкий требует «службы делу, а не лицам» и т. д.
Вскоре линия Чацкий – Софья значительно расширяется, она уже не является единственной в комедии. Борьба героя за сердце любимой девушки перерастает в «другую борьбу, важную и серьёзную, целую битву» – между Чацким и фамусовским кругом. «Образовались два лагеря, или, с одной стороны, целый лагерь Фамусовых и всей братии «отцов и старших», с другой – один пылкий и отважный боец... Если Фамусов хочет быть «тузом», «есть на серебре и золоте» только за то, что «он подписывает бумаги, не читая» их, то Чацкий требует «службы делу, а не лицам» и т. д.
 Столкновение едино: любовная тема вбирает в себя огромное социальное содержание (личная драма героя определяется социальными мотивами), и, в свою очередь, общественная драма осложняется личной. В результате для героя сложился «мильон терзаний», под влиянием которых он только и мог сыграть указанную ему Грибоедовым роль, роль гораздо большего, высшего значения, нежели неудачная любовь, словом, роль, для которой и родилась вся комедия».
Столкновение едино: любовная тема вбирает в себя огромное социальное содержание (личная драма героя определяется социальными мотивами), и, в свою очередь, общественная драма осложняется личной. В результате для героя сложился «мильон терзаний», под влиянием которых он только и мог сыграть указанную ему Грибоедовым роль, роль гораздо большего, высшего значения, нежели неудачная любовь, словом, роль, для которой и родилась вся комедия».
С исключительным искусством раскрывая сценическое развитие образа Чацкого, Гончаров указывает, в частности, что в обстановке борьбы герой становится «желчен, придирчив... впадает в преувеличения... перестал владеть собой и даже не замечает, что он сам составляет спектакль на бале». Борьба «его истомила. Он очевидно ослабел от этого «мильона терзаний»... Чацкий упрекает Софью, «зачем она его «надеждой завлекла», зачем прямо не сказала, что прошлое забыто. Тут что ни слово – то неправда. Никакой надеждой она его не завлекала. Она только и делала, что уходила от него, едва говорила с ним, призналась в равнодушии». Чацкий «ей бросает жестокое и несправедливое слово: «С вами я горжусь моим разрывом»...
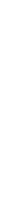 Действительно, в последних словах и упреках Чацкого, обращённых к Софье, далеко не всё отвечает истине. Но если и «неправда» слова героя, зато праведен самый его гнев. Гнев не на одну Софью, но на весь московский «свет», нелепый и страшный: «Мечтанья с глаз долой и спала пелена»… «В «неправде» слов Чацкого сильно выражена правда его характера, пылкого, непосредственного, способного на глубокие пере
Действительно, в последних словах и упреках Чацкого, обращённых к Софье, далеко не всё отвечает истине. Но если и «неправда» слова героя, зато праведен самый его гнев. Гнев не на одну Софью, но на весь московский «свет», нелепый и страшный: «Мечтанья с глаз долой и спала пелена»… «В «неправде» слов Чацкого сильно выражена правда его характера, пылкого, непосредственного, способного на глубокие пере живания. В порыве страсти герой не раз грешит против частной логики, но он всегда прав в самом главном. В гневных и порой неточных словах Чацкого – правда его отношений с окружающим обществом. И в этом смысле Гончаров, полемизируя с Пушкиным, подчёркивает: «Чацкий умнее всех прочих лиц»... его ум сверкает, «как луч света, в целой пьесе».
живания. В порыве страсти герой не раз грешит против частной логики, но он всегда прав в самом главном. В гневных и порой неточных словах Чацкого – правда его отношений с окружающим обществом. И в этом смысле Гончаров, полемизируя с Пушкиным, подчёркивает: «Чацкий умнее всех прочих лиц»... его ум сверкает, «как луч света, в целой пьесе».
VI. Говоря о Софье, Гончаров, по сути, первым показал, насколько противоречив и сложен духовный мир героини: «Это смесь хороших инстинктов с ложью, живого ума с отсутствием всякого намека на идеи и убеждения, – путаница понятий, умственная и нравственная слепота –всё это не имеет в ней характера личных пороков, а является, как общие черты её круга. В собственной, личной её физиономии прячется в тени что-то своё, горячее, нежное, даже мечтательное. Остальное принадлежит воспитанию». Сама по себе Софья не безнравственна. Она воспитана так, что «мысль безмолвствовала, говорили одни инстинкты». Её представления о жизни почерпнуты из французских сентиментальных романов. Приученная воображать и чувствовать, но не приученная мыслить, Софья слепа в своей любви. Не видит, что сама вызвала Молчалина на эту любовь, о которой он не смел и думать. Как замечает Гончаров, «она грешит грехом неведения». Глаза ей раскрывает Чацкий. Только он заставляет Софью почувствовать весь «ужас и стыд» положения. Но при всём этом автор статьи отмечает, что «в чувстве её к Молчалииу есть много искренности, сильно напоминающей Татьяну Пушкина... влечение покровительствовать любимому человеку, бедному, скромному...».
Гончаров относится к Софье с сочувствием, защищает её, видя в ней черты жертвы патриархально-дворянского уклада: «Софья Павловна вовсе не так виновна, как кажется». Автор статьи отмечает в ней «сильные задатки недюжинной натуры, живого ума, страстности и женской мягкости. Она загублена в духоте, куда не проникал ни один луч света, ни одна струя свежего воздуха. Недаром любил её и Чацкий». Одновременно Гончаров подчёркивает, что не только Чацкий, но и Софья переживает трагедию, когда видит любимого ею человека в настоящем свете: «Ей, конечно, тяжелее всех, тяжелее даже Чацкого, и ей достаётся свой «мильон терзаний».
VII. Гончаров впервые ставит вопрос: кто же Чацкий – победитель или побеждённый? Чацкий побеждённый, ибо он оклеветан, оскорблён; «мучителей толпа» истерзала его. Его вера в то, что «нынче свет уж не таков», разбита и развеяна. То, что казалось герою «веком минувшим», обернулось жестоким и беспощадным «веком нынешним». Чацкий вынужден бежать из Москвы...
Но вместе с тем Чацкий и победитель. Гончаров справедливо пишет: «Чацкий сломлен количеством старой силы, нанеся ей в свою очередь смертельный удар качеством силы свежей». Автор статьи утверждает, что образ Чацкого опровергает пословицу: «Один в поле не воин». «Нет, воин, если он Чацкий, и притом победитель, но передовой воин, застрельщик и – всегда жертва». Иначе говоря, «Чацкого роль – роль страдательная... хотя она в то же время и всегда победительная». Чацкие «не знают о своей победе, они сеют только, а пожинают другие – и в этом их главное страдание, то есть в безнадежности успеха». Чацкие – «передовые курьеры неизвестного будущего».
По мнению Гончарова, Чацкий «не даром бился», бился «для будущего». Он не сломлен духовно, не изменил своим идеалам, не смирился со злом. И в этом проявилась оптимистическая сущность великой комедии.
Для фамусовской Москвы не пройдёт бесследно столкновение с Чацким. Произойдёт то, чего больше всего боялся Фамусов, – огласка, и, может быть, «он едва ли даже кончит свою жизнь таким „тузом”»; «сдёрнута маска» с Молчалина; «попали под град его выстрелов» Горичи, Загорецкий, княжны... Чацкий «породил раскол... брызнул сам на заглохшую почву живой водой»... Последствия боя, упорного и горячего, данного героем «неприятельскому лагерю» в один день и в одном доме, «отразились на всей Москве и России».
VIII. Гончаров высказывает мысль, что «Чацкий больше всего обличитель лжи и всего, что отжило, что заглушает новую жизнь, «жизнь свободную»... Его возмущают безобразные проявления крепостного права, безумная роскошь и отвратительные нравы «разливанья в пирах и мотовстве» – явления умственной и нравственной слепоты и растления. Автор статьи утверждает типичность Чацких для своего времени. 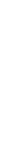
 В то же время Гончаров подчёркивает, что «Чацкий неизбежен при каждой смене одного века другим», утверждая тем самым типичность Чацких и для будущих времён. «Каждое дело, требующее обновления, вызывает тень Чацкого... Чацкие живут и не переводятся в обществе... где... длится борьба свежего с отжившим, больного со здоровым... Вот отчего не состарился до сих пор и едва ли состарится когда-нибудь грибоедовский Чацкий, а с ним и вся комедия». Сходство с героем Грибоедова автор статьи обнаруживает в Белинском, в горячих импровизациях которого звучат те же мотивы, что и у Чацкого, и которому в жизни тоже достался «мильон терзаний», а также в молодом Герцене: «В его сарказмах слышится эхо грибоедовского смеха и бесконечное развитие острот Чацкого». Статью Гончаров заключает словами: «Чацкий, по нашему мнению, из всех наиболее живая личность... Но... натура его сильнее и глубже прочих лиц и потому не могла быть исчерпана в комедии». А главное то, что в образе Чацкого утверждается тенденция «нового века», которую он начинает.
В то же время Гончаров подчёркивает, что «Чацкий неизбежен при каждой смене одного века другим», утверждая тем самым типичность Чацких и для будущих времён. «Каждое дело, требующее обновления, вызывает тень Чацкого... Чацкие живут и не переводятся в обществе... где... длится борьба свежего с отжившим, больного со здоровым... Вот отчего не состарился до сих пор и едва ли состарится когда-нибудь грибоедовский Чацкий, а с ним и вся комедия». Сходство с героем Грибоедова автор статьи обнаруживает в Белинском, в горячих импровизациях которого звучат те же мотивы, что и у Чацкого, и которому в жизни тоже достался «мильон терзаний», а также в молодом Герцене: «В его сарказмах слышится эхо грибоедовского смеха и бесконечное развитие острот Чацкого». Статью Гончаров заключает словами: «Чацкий, по нашему мнению, из всех наиболее живая личность... Но... натура его сильнее и глубже прочих лиц и потому не могла быть исчерпана в комедии». А главное то, что в образе Чацкого утверждается тенденция «нового века», которую он начинает.
Литература
Озеров Ю. А. Раздумья перед сочинением. (Практические советы поступающим в вузы): Учебное пособие. – М.: Высшая школа, 1990. – С. 100–107.





 «Разве не полную комедию разыгрывают Горичи? Этот муж, недавно ещё бодрый и живой человек, теперь опустившийся, облёкшийся, как в халат, в московскую жизнь, барин; «муж-мальчик, муж-слуга, идеал московских мужей», по меткому определению Чацкого, – под башмаком приторной, жеманной светской супруги, московской дамы?
«Разве не полную комедию разыгрывают Горичи? Этот муж, недавно ещё бодрый и живой человек, теперь опустившийся, облёкшийся, как в халат, в московскую жизнь, барин; «муж-мальчик, муж-слуга, идеал московских мужей», по меткому определению Чацкого, – под башмаком приторной, жеманной светской супруги, московской дамы?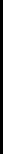 Вскоре линия Чацкий – Софья значительно расширяется, она уже не является единственной в комедии. Борьба героя за сердце любимой девушки перерастает в «другую борьбу, важную и серьёзную, целую битву» – между Чацким и фамусовским кругом. «Образовались два лагеря, или, с одной стороны, целый лагерь Фамусовых и всей братии «отцов и старших», с другой – один пылкий и отважный боец... Если Фамусов хочет быть «тузом», «есть на серебре и золоте» только за то, что «он подписывает бумаги, не читая» их, то Чацкий требует «службы делу, а не лицам» и т. д.
Вскоре линия Чацкий – Софья значительно расширяется, она уже не является единственной в комедии. Борьба героя за сердце любимой девушки перерастает в «другую борьбу, важную и серьёзную, целую битву» – между Чацким и фамусовским кругом. «Образовались два лагеря, или, с одной стороны, целый лагерь Фамусовых и всей братии «отцов и старших», с другой – один пылкий и отважный боец... Если Фамусов хочет быть «тузом», «есть на серебре и золоте» только за то, что «он подписывает бумаги, не читая» их, то Чацкий требует «службы делу, а не лицам» и т. д. Столкновение едино: любовная тема вбирает в себя огромное социальное содержание (личная драма героя определяется социальными мотивами), и, в свою очередь, общественная драма осложняется личной. В результате для героя сложился «мильон терзаний», под влиянием которых он только и мог сыграть указанную ему Грибоедовым роль, роль гораздо большего, высшего значения, нежели неудачная любовь, словом, роль, для которой и родилась вся комедия».
Столкновение едино: любовная тема вбирает в себя огромное социальное содержание (личная драма героя определяется социальными мотивами), и, в свою очередь, общественная драма осложняется личной. В результате для героя сложился «мильон терзаний», под влиянием которых он только и мог сыграть указанную ему Грибоедовым роль, роль гораздо большего, высшего значения, нежели неудачная любовь, словом, роль, для которой и родилась вся комедия».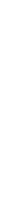 Действительно, в последних словах и упреках Чацкого, обращённых к Софье, далеко не всё отвечает истине. Но если и «неправда» слова героя, зато праведен самый его гнев. Гнев не на одну Софью, но на весь московский «свет», нелепый и страшный: «Мечтанья с глаз долой и спала пелена»… «В «неправде» слов Чацкого сильно выражена правда его характера, пылкого, непосредственного, способного на глубокие пере
Действительно, в последних словах и упреках Чацкого, обращённых к Софье, далеко не всё отвечает истине. Но если и «неправда» слова героя, зато праведен самый его гнев. Гнев не на одну Софью, но на весь московский «свет», нелепый и страшный: «Мечтанья с глаз долой и спала пелена»… «В «неправде» слов Чацкого сильно выражена правда его характера, пылкого, непосредственного, способного на глубокие пере живания. В порыве страсти герой не раз грешит против частной логики, но он всегда прав в самом главном. В гневных и порой неточных словах Чацкого – правда его отношений с окружающим обществом. И в этом смысле Гончаров, полемизируя с Пушкиным, подчёркивает: «Чацкий умнее всех прочих лиц»... его ум сверкает, «как луч света, в целой пьесе».
живания. В порыве страсти герой не раз грешит против частной логики, но он всегда прав в самом главном. В гневных и порой неточных словах Чацкого – правда его отношений с окружающим обществом. И в этом смысле Гончаров, полемизируя с Пушкиным, подчёркивает: «Чацкий умнее всех прочих лиц»... его ум сверкает, «как луч света, в целой пьесе».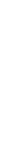
 В то же время Гончаров подчёркивает, что «Чацкий неизбежен при каждой смене одного века другим», утверждая тем самым типичность Чацких и для будущих времён. «Каждое дело, требующее обновления, вызывает тень Чацкого... Чацкие живут и не переводятся в обществе... где... длится борьба свежего с отжившим, больного со здоровым... Вот отчего не состарился до сих пор и едва ли состарится когда-нибудь грибоедовский Чацкий, а с ним и вся комедия». Сходство с героем Грибоедова автор статьи обнаруживает в Белинском, в горячих импровизациях которого звучат те же мотивы, что и у Чацкого, и которому в жизни тоже достался «мильон терзаний», а также в молодом Герцене: «В его сарказмах слышится эхо грибоедовского смеха и бесконечное развитие острот Чацкого». Статью Гончаров заключает словами: «Чацкий, по нашему мнению, из всех наиболее живая личность... Но... натура его сильнее и глубже прочих лиц и потому не могла быть исчерпана в комедии». А главное то, что в образе Чацкого утверждается тенденция «нового века», которую он начинает.
В то же время Гончаров подчёркивает, что «Чацкий неизбежен при каждой смене одного века другим», утверждая тем самым типичность Чацких и для будущих времён. «Каждое дело, требующее обновления, вызывает тень Чацкого... Чацкие живут и не переводятся в обществе... где... длится борьба свежего с отжившим, больного со здоровым... Вот отчего не состарился до сих пор и едва ли состарится когда-нибудь грибоедовский Чацкий, а с ним и вся комедия». Сходство с героем Грибоедова автор статьи обнаруживает в Белинском, в горячих импровизациях которого звучат те же мотивы, что и у Чацкого, и которому в жизни тоже достался «мильон терзаний», а также в молодом Герцене: «В его сарказмах слышится эхо грибоедовского смеха и бесконечное развитие острот Чацкого». Статью Гончаров заключает словами: «Чацкий, по нашему мнению, из всех наиболее живая личность... Но... натура его сильнее и глубже прочих лиц и потому не могла быть исчерпана в комедии». А главное то, что в образе Чацкого утверждается тенденция «нового века», которую он начинает.