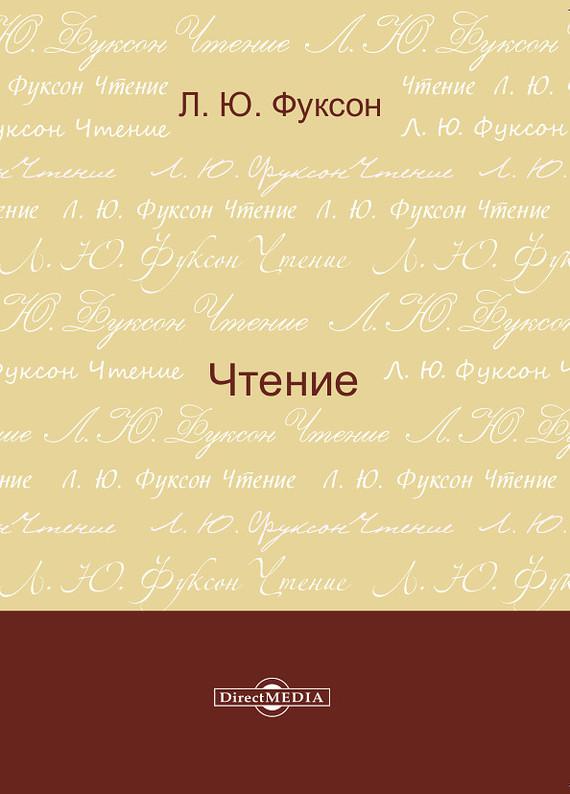Просмотр содержимого документа
«Л.Ю.Фуксон Чтение»
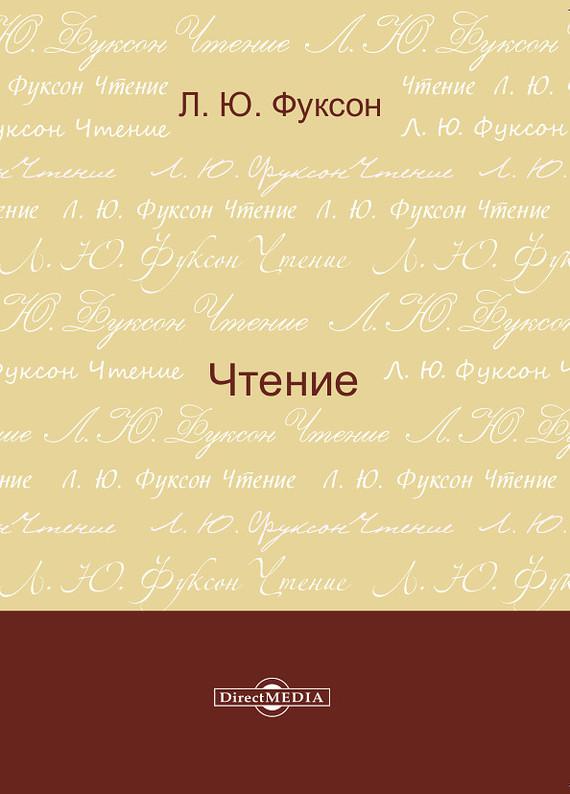
Так же можно «споткнуться» о странности, начав читать стихотворение Пастернака:
Февраль. Достать чернил и плакать!
Писать о феврале навзрыд (…)
Почему в феврале непременно нужно плакать? При чём тут чернила? «Слёзы» как сентиментальность творчества («Писать о феврале навзрыд») связываются, «рифмуются» с весенней слякотью и ливнем (плакать – слякоть) так же, как чернила – с чернеющими проталинами. Таким образом, о феврале здесь как бы «пишет» сам февраль. Оказывается, что природа не только предмет, но и субъект творчества. Весеннее творческое состояние природы «слагает стихи» на снегу, как на чистом листе бумаги. Непреднамеренность («… чем случайней, тем вернее…»), органичность творчества естественна, как плач: это «стихи навзрыд».
Прочтём начало стихотворения Пастернака «Поэзия»:
Поэзия, я буду клясться
Тобой и кончу, прохрипев:
Ты не осанка сладкогласца,
Ты – лето с местом в третьем классе,
Ты – пригород, а не припев (…)
Зададимся следующими вопросами: при чём тут смерть («кончу, прохрипев»)? В чём странность и нелогичность намеченного в строфе противопоставления? Почему «место» непременно «в третьем классе»?
1. Предсмертная клятва обладает здесь как бы большей весомостью: перед лицом смерти отпадает необходимость притворства. Это момент жизненного итога, истины без прикрас, открывающейся на фоне и в противовес «осанке сладкогласца» как внешней позы и настроенности на особое слово, возвышающееся над жизнью. Между тем поэзия как слово правдивое – это не сладкий голос, а именно хрип.
2. Любое соотнесение требует единого логического основания. Чтение художественного произведения зачастую (а в чём‑то всегда) сталкивается с логическими непристойностями. Читательское сознание, находящееся до акта чтения на почве прозаической логики, ожидает чего‑то вроде: «ты – пригород, а не город» (хотя этим странность соотнесения не отменилась бы полностью). Поэтическое слово выносит за скобки «город» как подразумеваемый отрицательный фон «пригорода», более близкого «лету с местом в третьем классе». Но при этом на место ожидаемого «города» попадает нечто «из другой оперы» – «припев». Это неожиданно и нелогично с прозаической точки зрения, но поэтической логике вполне соответствует: «припев» – понятие, сближающееся стихотворением с «осанкой сладкогласца» (то есть певца). Это повторяющаяся, «рефренная» часть песни (в третьей строфе – «перепев»), в которой как раз отсутствует нечто неожиданное, как и в готовой квазипоэтической позе, «осанке сладкогласца».
3. «Третий класс» по логике стихотворения отличается от «первого» тем же, чем «пригород» от города, – большей близостью к природе, а не к цивилизации, к «хриплому» и правдивому голосу жизни, а не к сладкому голосу приукрашивающего и искусственного искусства для избранных, ездящих исключительно в первом классе.
Эта художественная логика, на которую мы ссылаемся, означает своего рода сдвиг обычных логических правил и превращение их в объект игры. Но вместе с тем сама эта игра идёт по не менее строгим правилам, без которых она просто невозможна.