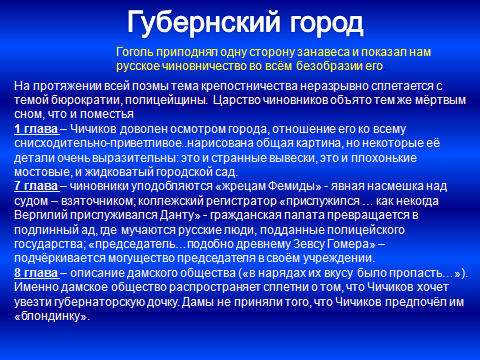Вопрос № 51. Обобщающее значение образов помещиков и чиновников (приемы их сатирической обрисовки, роль пейзажа, интерьера, портрета, диалогов)
Понятие о типе. Что такое тип? По определению Белинского (замечательно, что это определение Белинский дал в связи с повестями Гоголя), «тип — это знакомый незнакомец». Иными словами, понятие «тип» предполагает сочетание в образе персонажа качеств индивидуальных («незнакомец») и качеств и черт, присущих целой группе людей («знакомый»). Последнее в понятии «тип» важнее, чем первое. Употребляя слово «тип» (не типический характер, а именно тип), мы главным образом и имеем в виду то свойство персонажа, которое позволяет в нем увидеть многих знакомых людей.
К героям «Мертвых душ» это имеет самое непосредственное отношение. Особенностью гоголевских персонажей является то, что они заключают в себе максимум обобщения. Общее в героях «Мертвых душ» преобладает над индивидуальным. При этом герои изображены Гоголем крупным планом, как будто через увеличительное стекло, что в немалой степени способствует созданию незабываемых художественных типов.
Обобщающее значение образов помещиков
Всех помещиков, изображенных в «Мертвых душах», объединяет
низкий культурный уровень,
безразличие и жестокость по отношению к крепостным «душам», вверенным им,
убогая, замкнутая на себе жизнь в усадьбах.
Каждый из помещиков, которых посещает Чичиков, воплощает одну из черт, развившихся под воздействием паразитического образа жизни и мысли: Манилов — беспочвенное мечтательство, Коробочка — тупое хозяйствование, Ноздрев — буйную энергию и жизнелюбие, Собакевич — цепкость и грубость в преследовании своей выгоды, Плюшкин — бессмысленное накопительство. Гоголь представляет помещиков в определенной последовательности. А логика проста — показать читателю постепенную деградацию души, вызванную и бесцельностью существования поместного дворянства, и бесконтрольным владением «душами», богатством, землей.
Ноздрёв
Кутила, лихач, лжец.
Хвастовство, наглость, ярмарочный героизм.
Манилов
«У Манилова ничего не было». Полное отсутствие живых мыслей, бесплодное фантазёрство, излишняя деликатность, бесхарактерность.




 Ненасытная жадность, скуп.
Ненасытная жадность, скуп.
Коробочка
«Дубинноголовость», невежество, накопительство, полная духовная нищета.
Собакевич
«Патриот русского желудка».
Прижимистость, грубость, кулачество, человеконенавистничество, грубая сила.
Плюшкин
«Прореха на человечестве». Ненасытная жадность, скупость, бережливость, крохоборство.

«…Не ревизские – мёртвые души, а все эти Ноздрёвы, Маниловы и прочие» (А.И.Герцен)
Художественными средствами воплощения идеи об «омертвении» души выступают композиция и стиль произведения. Картины барских поместий и описания образа жизни их обитателей однотипны по принципу изображения (сначала деревня, затем двор помещика, его портрет, интерьер дома). Каждое из описаний отличается цельностью, но при этом углубляет впечатление процесса духовного распада, показанного в предыдущей главе.
Каждая из помещичьих усадеб почти изолирована от остального мира. Тем естественнее выглядит подчеркиваемое Гоголем «родство» людей, животных, предметов обихода. Все они несут отпечаток личности хозяина усадьбы («И я тоже Собакевич!» — заявляет «каждый предмет» в доме этого героя).
Обобщающее значение образов чиновников
В «Мертвых душах» Гоголь показал нам не только памятно-яркие образы помещиков, но и образы чиновников. Гоголевский художественный замысел широк, в нем находится место для людей разных сословий и положений. В своей поэме Гоголь озирает «всю громадно несущуюся жизнь».
Еще находясь в городе, до своей поездки по дворянским имениям, Чичиков наносит визиты городским чиновникам. Это дает возможность автору представить читателю чиновников и нарисовать их выразительные портреты. Вот один из них — портрет губернатора: подобно Чичикову, он «был ни толст, ни тонок собой, имел на шее Анну, и поговаривали даже, что был представлен к звезде; впрочем, был большой добряк и даже сам вышивал иногда по тюлю...»
И эта и другие характеристики чиновников носят у Гоголя преимущественно иронический характер. Это распространяется также на описание присутственных мест, где чиновники служат. На площади стоит «большой трехэтажный каменный дом, весь белый, как мел...» И это иронически поясняется: «...белый как мел, вероятно, для изображения чистоты душ помещавшихся в нем должностей».
Гоголь ведет нас и внутрь дома, чтобы познакомить ближе с этими «чистыми душами». Для свершения купчей на приобретенный им товар Чичиков обращается к чиновнику Ивану Антоновичу: «Впрочем, что до того, чтоб ускорить дело, так Иван Григорьевич, председатель, мне большой друг...» — «Да ведь Иван Григорьевич не один; бывают и другие»,— сказал сурово Иван Антонович. Чичиков понял заковыку, которую завернул Иван Антонович, и сказал: «Другие тоже не будут в обиде: я сам служил, дело знаю...»
Образы чиновников роднят с образами помещиков нравы паразитического существования. Обобщенный портрет губернского города (неустроенность, грязь, запустение) подчеркивает безразличие властей к нуждам местных обывателей. Всюду бюрократизм и продажность чиновников. Гоголь дает как обобщенные, так и индивидуальные характеристики чиновников «тонких и толстых». Все они — люди без понятия о долге, чести и законности, им нет дела до службы государству. 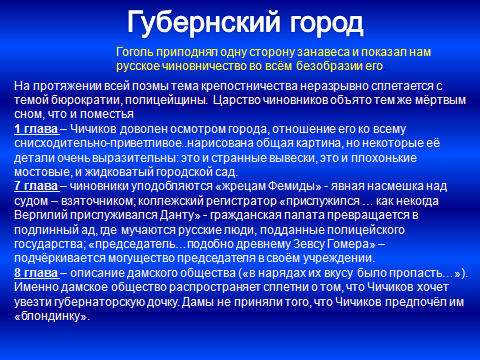
Их отличительные черты:
способность превращаться «то в орла, то в муху» в зависимости от звания собеседника (чинопочитание)
воровство
круговая порука.
Гоголь показывает чиновников и в самых высших сферах. Он это делает в «Повести о капитане Копейкине». В этой повести рассказывается о капитане, которому во время войны 1812 г. оторвало руку и ногу. Оставшись инвалидом и без денег, он обращается за помощью к вельможе, государственному человеку. Тот всячески тянет дело, заставляет капитана приходить к нему все снова и снова, а когда капитан, не в силах более ждать, требует к себе внимания, вельможа грубо изгоняет его: «Генерал, понимаете, больше ничего, как только взглянул, а взгляд — огнестрельное оружие: души уж нет — уж она ушла в пятки. А мой Копейкин, можете вообразить, ни с места, стоит, как вкопанный. «Что же вы?»— говорит генерал и принял его, как говорится, в лопатки. Впрочем, сказать правду, обошелся он еще довольно милостиво: иной бы пугнул так, что дня три вертелась бы после того улица вверх ногами, а он сказал только: «Хорошо», говорит, «если вам здесь дорого жить и вы не можете в столице покойно ожидать решенья вашей участи, так я вас вышлю на казенный счет. Позвать фельдъегеря! препроводить его на место жительства!»
Сцена полна большой обличительной силы. Перед читателем обнажается страшный, трагический смысл неограниченной чиновничьей власти для простых людей, для обыкновенного человека. Вставная «Повесть о капитане Копейкине» показывает жестокость и бесчеловечность чиновников самой «высшей комиссии». Повесть посвящена теме героического 1812 г. и создает глубокий контраст бездушному и мелкому миру чиновников.
Сцена бала у губернатора — своеобразный смотр «мертвых душ» помещичьей и чиновничьей России, которую отличают праздность и пустота существования. «Балы» и «сплетни» — единственные убогие формы «общественной» и «умственной» жизни. В разговорах нет ни духовного содержания, ни здравого смысла, все они вращаются вокруг пустяков. Представление о красоте существует на уровне обсуждения расцветки материала («пестро — не пестро»), а солидность человека определяется по тому, как он сморкается и повязывает галстук (и конечно, по его «состоянию»). Нормы поведения зависят от обывательского представления «как должно». Гоголь пишет об отсутствии истинной культуры и нравственности в современном ему обществе. Почему же сложилась такая ситуация? Почему «мораль», «религия», «обязанности перед обществом» — это только слова? «Герои мои вовсе не злодеи», — объяснял Гоголь в одном из своих писем, но они «все пошлы без исключения». Пошлость, оборачивающаяся омертвением души, моральным одичанием, — вот главная опасность для человека.
Для Гоголя самое важное — духовное состояние русского общества. Он убежден: «Все хорошее и дурное, что есть в России, — от нас». Все в жизни — и государственной, и частной — зависит от нравственных качеств людей, образующих общество. «Гибнет земля наша... от нас самих», — сокрушается писатель.
Образ Чичикова проходит через все произведение. Его «путешествие» дает возможность Гоголю «явить» в поэме «всю Русь». Сама возможность преступной комбинации с покупкой «душ» и отношение окружающих к этой авантюре вскрывают суть чиновничьей и помещичьей Руси.
Чиновники города. (7-10 главы) Вот губернатор. Большой добряк и мастер... вышивать по тюлю. (Ну как не вспомнить еще раз дядю Онегина с «его многими делами»!)
Развернутое сравнение чиновников с эскадроном мух — это их сатирическая характеристика: мухи-паразиты (чиновники) летят на сахар, их привлекает запах сладкого (возможность урвать кусочек, поживиться). И дальше — авторское отступление о «толстых и тонких» чиновниках: должность, чин для них лишь средство обеспечить себе сытую, праздную жизнь.
Русь помещичья. Образы помещиков
Манилов. Один из первых в галерее гоголевских типов помещиков-крепостников — Манилов. Его раньше других посетил Чичиков в своем путешествии по дворянским усадьбам. Визит Чичикова к Манилову дает возможность Гоголю нарисовать живой, яркий образ Манилова. При этом образ создается не сразу, постепенно — и самыми различными путями и средствами. И в создании образа персонажа Гоголь тоже не спешит. Он характеризует героя сначала издалека, потом все ближе, он показывает его с разных расстояний и со всех сторон.
Сперва вместе с Чичиковым мы знакомимся с имением Манилова. Знакомство с имением подсказывает нам заранее некоторые свойства его хозяина: «...пять-шесть берез небольшими купами кое-где возносили свои мелколистные жиденькие вершины. Под двумя из них видна была беседка с плоским зеленым куполом, деревянными голубыми колоннами и надписью «Храм уединенного размышления», пониже пруд, покрытый зеленью, что, впрочем, не в диковинку в аглицких садах русских помещиков».
Описание сада Манилова ироническое. Но авторская ирония не может быть направлена на сад: такого просто не бывает. Она направлена на владельца сада, на Манилова. Мы еще не встретились с самим Маниловым, но уже подготовлены к тому, чтобы отнестись к Манилову не совсем всерьез.
Ту же роль играет и описание интерьера — комнат, вещей, окружающих героя. Они тоже интересны не столько сами по себе, сколько как косвенная характеристика Манилова: «В его кабинете всегда лежала какая-то книжка, заложенная закладкою на 14-ой странице... В доме его чего-нибудь вечно недоставало; в гостиной стояла прекрасная мебель, обтянутая щегольскою шелковой материей... но на два кресла ее недостало, и кресла стояли обтянуты просто рогожею...» «Ввечеру подавался на стол очень щегольской подсвечник из темной бронзы с тремя античными грациями, с перламутным щегольским щитом, и рядом с ним ставился какой-то просто медный инвалид».
После описания имения и дома Гоголь представляет читателю самого героя. Впрочем, он уже кажется нам отчасти знакомым (и не только потому, что Чичиков встречался с ним еще в городе). То, что мы узнаем о герое, не является для нас неожиданным. Обстановка его жизни, его вещи как бы предуведомили нас: уже по ним мы догадывались, каким должен быть герой.
Каков же он? Каким его показывает Гоголь? Он мил, обходителен, вежлив. Но он слишком, до крайности вежлив и обходителен. Он ни в чем не знает чувства меры. В человеке это может быть очень неприятным. У Манилова это оттого, что в нем нет внутренней основы, нет стержня. В нем, говорит Гоголь, не только нет характера, но нет даже простого задора. «Есть род людей,— замечает Гоголь по поводу Манилова,— известных под именем: люди так себе, ни то, ни се, ни в городе Богдан, ни в селе Селифан».
Манилов живет как будто бы вне жизни. Он постоянно витает в эмпиреях, в заоблачных высях. Его можно было бы назвать мечтателем, если бы был хоть какой-нибудь смысл в его мечтах. За его словами, за делами, за его мечтаниями — пустота. Очень приятный и очень обходительный на первый взгляд человек оказывается на поверку пустым человеком, живущим пустой жизнью. Это особенно опасно потому, что Манилов — помещик, что он владелец живых душ, владелец крестьян.
Гоголю присуща многослойная характеристика героя. Манилов характеризуется и посредством своих вещей, и непосредственно, и через свое отношение к Чичикову и к другим людям, и через собственную речь. В речи Манилова поражает все та же пустота содержания. Вот один из образцов его речи: «Конечно,— продолжал Манилов,— другое дело, если бы соседство было хорошее, если бы, например, такой человек, с которым бы в некотором роде можно было поговорить о любезности, о хорошем обращении, следить какую-нибудь этакую науку, чтобы этак расшевелило душу, дало бы, так сказать, паренье этакое...»
Речь Манилова похожа на него самого. Такая же сладкая, неопределенная, бессодержательная.
Коробочка. После Манилова, заблудившись в пути, Чичиков попадает в глухую деревню, которая принадлежит помещице Коробочке. Коробочка — еще один человеческий и социальный тип, порожденный русской крепостнической действительностью и живо воссозданный Гоголем. Как и всех своих типических героев, Гоголь показывает Коробочку основательно, рассматривая ее со всех сторон, внимательно характеризуя все те предметы, которые имеют к ней хотя бы самое отдаленное отношение.
Знакомство с Коробочкой начинается с того, что мы слышим вместе с Чичиковым лай собак. И не просто лай, а целый собачий концерт, который Гоголь описывает во всех деталях. В темноте этот собачий концерт дает первое — и достаточно живое — представление о деревне Коробочки, а заодно и о ней самой: «Уже по одному собачьему лаю, составленному из таких музыкантов, можно было предположить, что деревушка была порядочная».
Позднее это первое представление о деревне и ее владелице дополняется картиной, которая открывается из окна дома Коробочки: «...узенький дворик весь был наполнен птицами и всякой домашней тварью. Индейкам и курам не было числа; промеж них расхаживал петух мерными шагами, потряхивая гребнем и поворачивая голову набок, как будто к чему-то прислушиваясь; свинья с семейством очутилась тут же; -гут же, разгребая кучу сора, съела она мимоходом цыпленка и, не замечая этого, продолжала уписывать арбузные корки своим порядком».
Обратим внимание на эту картину, на детали в картине. На этого красавца-петуха, например. Гоголю он не только интересен (как и все другое), он любуется им, он описывает его с видимой радостью и удовольствием. Оттого он и получился у него таким живым. Вместе с тем и петух, и индейки с курами, и другие частности вводят нас в мир персонажа и особенным образом характеризуют его. У Коробочки обильное хозяйство, видно, она много занимается им, в этом отношении она совсем не похожа на Манилова.
Посмотрим, однако, далее на то, что показывает нам Гоголь. Вот комната Коробочки: «Окинувши взглядом комнату, он (Чичиков) теперь заметил, что на картинах не все были птицы: между ними висел портрет Кутузова и писанный масляными красками какой-то старик с красными обшлагами на мундире, как нашивали при Павле Петровиче...»
Очевидно, что по части живности Коробочка понимает больше, чем в тех делах, которые требуют культуры и вкуса. Особенное внимание в доме Коробочки Гоголь обращает на стенные часы: «Слова хозяйки были прерваны странным шипением, так что гость было испугался; шум походил на то, как бы вся комната наполнилась змеями; но взглянувши вверх, он успокоился, ибо смекнул, что стенным часам пришла охота бить. За шипеньем тотчас же последовало хрипенье, и, наконец, понатужась всеми силами, они пробили два часа таким звуком, как бы кто колотил палкой по разбитому горшку, после чего маятник пошел опять покойно щелкать направо и налево».
Гоголь потому и останавливается так долго на этой детали (а потом снова к ней возвращается и напоминает о ней читателю), что деталь оказывается емкой и значимой. Эти охрипшие стенные часы, которые всякий раз неожиданно нарушают тишину дома, дают ощущение запустелости дома, ощущение глухой удаленности от живой жизни. Без этого ощущения мы не могли бы понять характер Коробочки.
По мере того как Гоголь развертывает картину, она становится все грустнее. Хозяйственность Коробочки оказывается единственной ее добродетелью.
Мир Коробочки оказывается крайне ограниченным. Само имя Коробочки (у Гоголя оно со значением) говорит нам о «запертости» человека, о его закрытости для всего живого и разумного. Ее недаром прозывают «дубиноголовой». Она туга на мысль и понимание. В ней начисто отсутствуют какие-либо духовные запросы. Если она и способна сомневаться, то только в том, не продешевила ли она с мертвыми душами. В одном отношении Коробочка очень похожа на Манилова: она, как и Манилов, заставляет читателя горько подумать о человеке и о том общественном порядке, в котором возможны.бывают Маниловы и Коробочки.
Гоголь писал Жуковскому, имея в виду «Мертвые души»: «...не мое дело поучать проповедью. Искусство и без того уже поученье». То, что Гоголь рисует типы, и то, как он их рисует,— это само по себе уже наводит читателя на серьезные мысли о жизни. Такие серьезные мысли о людях, о жизни по ходу повествования высказывает и сам автор. Он пишет о Коробочке: «...иной и почтенный, и государственный даже человек, а на деле выходит совершенная Коробочка. Как зарубил что себе в голову, то уж ничем его не пересилишь, сколько ни представляй ему доводов, ясных как день, все отскакивает от него, как резиновый мяч отскакивает от стены». По мысли Гоголя, Коробочка — явление совсем не исключительное.
Ноздрев. Продолжая свое путешествие, покинув дом Коробочки,Чичиков встречается в трактире с Ноздревым. Гоголь так рисует его портрет: «Это был среднего роста, очень недурно сложенный молодец с полными румяными щеками, с белыми как снег зубами и черными как смоль бакенбардами. Свеж он был как кровь с молоком; здоровье, казалось, так и прыскало с лица его».
Первое впечатление, которое производит Ноздрев, может быть даже благоприятным. И это относится не только к его внешности. Он может легко показаться широким, открытым, добродушным, дружелюбным. Едва знакомого человека он может встретить так, как если бы это был его старинный друг. Увидев Чичикова (до этого он с ним встречался один раз, на званом обеде у прокурора), он расставил руки и вскрикнул: «Ба, ба, ба! Какими судьбами?»
Однако первое наше возможное суждение о Ноздреве обманчиво. Широта этого человека оказывается совсем непривлекательной. Она чрезмерна и не имеет под собой никакой основы. Беда с такими людьми заключается в том, что никогда нельзя предвидеть, как они себя поведут в следующий момент. Они сами того не знают.
Ноздревым управляет стихия. Гоголь пишет о нем: «Таких людей приходилось всякому встречать немало. Они называются разбитными малыми, слывут еще в детстве и в школе за хороших товарищей, и при всем том бывают весьма больно поколачиваемы. В их лицах всегда видно что-то открытое, прямое, удалое. Они скоро знакомятся, и не успеешь оглянуться, как уже говорят тебе: ты. Дружбу заведут, кажется, навек; но всегда цочти так случается, что подружившийся подерется с ними того же вечера на дружеской пирушке».
Гоголь называет Ноздрева (разумеется, иронически) «в некотором отношении историческим человеком». Это значит, что там, где случится какая-нибудь шумная история, там ищи Ноздрева. Он постоянно в движении, в деятельности. Он человек поступков. Однако все его поступки без нужды и определенной цели.
Рисуя Ноздрева, Гоголь по своему обыкновению характеризует его и посредством вещей, предметов обстановки. Вот как выглядит кабинет Ноздрева: «Ноздрев повел их (гостей) в свой кабинет, в котором, впрочем, не было заметно следов того, что бывает в кабинетах, то есть книг или бумаги; висели только сабли и два ружья, одно в триста, а другое в восемьсот рублей. Зять, осмотревши, покачал только головою. Потом были показаны турецкие кинжалы, на одном из которых по ошибке было вырезано: «Мастер Савелий Сибиряков». Вслед за тем показалась гостям шарманка. Ноздрев тут же провертел пред ними кое-что. Шарманка играла не без приятности, но в средине ее, кажется, что-то случилось, ибо мазурка оканчивалась песнею: «Мальбруг в поход поехал», а «Мальбруг в поход поехал» неожиданно завершался каким-то давно знакомым вальсом...»
Рассказывая о кабинете Ноздрева и о вещах, которые в нем находятся, сам Гоголь точно исподтишка посмеивается. Он рисует все не только со своей точки зрения, но и еще больше с точки зрения Ноздрева. Это разные точки зрения, в описании они сталкиваются, и это производит комический эффект. Например, то, что ружья Ноздрева «одно в триста, а другое в восемьсот рублей», сказано явно не автором, а как бы Ноздревым. Это сказано в духе Ноздрева, который, как нам известно, склонен был завышать цену всем своим вещам. Недаром тут же сообщается, что зять, осмотревши ружья, «покачал головою». Нет сомнения, что он покачал головою не от удивления и восхищения, а от недоверия.
О висящих кинжалах сказано у Гоголя, что они «турецкие». Это тоже выдумка Ноздрева. Гоголь тонко дает знать об этом читателю. На одном из кинжалов, как иронически замечает автор, «по ошибке» было вырезано имя мастера Савелия Сибиря-кова. Читателю нетрудно догадаться, что на деле никакой ошибки не было: турецкий кинжал совсем не турецкого, а отечественного происхождения.
Важное место в изображении Ноздрева занимает его речь. Не менее важное, чем в изображении Манилова. Речь Ноздрева, как и он сам, отличается стремительностью и неуправляемостью. У него слова бегут друг за другом без обязательной связи, без всякой логики: «...Поручик Кувшинников... Ах, братец, какой премилый человек! (...) Уж как бы вы с ним хорошо сошлись! Это не то, что прокурор и все губернские скряги в нашем городе, которые так и трясутся за каждую копейку. Этот, братец, и в гальбик, и в банчишку, и во все, что хочешь. Эх, Чичиков, ну, что бы тебе стоило приехать? Право, свинтус ты за это, скотовод эдакой! Поцелуй меня, душа, смерть люблю тебя!..»
У Ноздрева слова без внутренней цензуры — как и он сам без сдерживающих центров, без внутреннего контроля. Это человек неугомонной и бессмысленной деятельности и великой бойкости языка и нрава. Он тоже ярко типичен'. Гоголь пишет о нем: «Ноздрев долго еще не выведется из мира. Он везде между нами и, может быть, только ходит в другом кафтане; но легкомысленно-непроницательны люди, и человек в другом кафтане кажется им другим человеком».
Собакевич. Этого помещика, к которому Чичиков приезжает после неприятных волнений, пережитых им с Ноздревым, Гоголь называет «человек-кулак». Нельзя сказать, чтобы Собакевич во всем производил впечатление только отрицательное. Он человек крепкий, понимающий свою пользу, и хозяйство у него тоже крепкое: «Помещик, казалось, хлопотал много о прочности. На конюшни, сараи и кухни были употреблены полновесные и толстые бревна, определенные на вековое стояние. Деревенские избы мужиков тоже срублены были на диво». Гоголь дает герою имя «Собакевич», что заставляет нас предполагать в человеке не доброе, не мягкое, а грубое. Рисуя его портрет, Гоголь сравнивает его со «средней величины медведем». Спина у него была широкая, «как у вятских приземистых лошадей». Его ноги походили «на чугунные тумбы, которые стоят на тротуарах». Мебель и убранство в его комнатах напоминали его самого в такой степени, что человеческому взгляду это кажется почти фантастическим, ненормальным.
Все это хорошо подготавливает нас к тому, чтобы мы восприняли и самого Собакевича как отступление от человеческой нормы. В чем же именно он отступает от нормы? Прежде всего ненормальна та непреклонность, которая характеризует его дела и его мысли. Он никогда ни в чем не сомневается. Он твердо знает, чего хочет, а хочет он всегда выгоды для себя. Материальной выгоды. Материальный интерес — единственный интерес его в жизни. Материальное, притом грубо материальное, абсолютно преобладает у него над собственно человеческими чувствами, человеческими помыслами.
Своих помещиков Гоголь проводит через одну и ту же ситуацию, и в этой одинаковой ситуации по-разному проявляются их характеры. Эта ситуация — разговор о мертвых душах. Манилов, услышав о мертвых душах, сильно поражен, по привычке своей начинает о чем-то бессвязно рассуждать, но при этом полон готовности услужить милому гостю. Коробочка — тоже по обыкновению — ничего не может понять, совершенно теряется и испытывает прямой страх перед незнакомым сердитым человеком. Ноздрев в деле с мертвыми душами видит хорошую возможность поиграть и объегорить и больше ни о чем думать не хочет. Как же ведет себя в этом случае Собакевич? Он и здесь остается твердым и непреклонным и верным своему единственному интересу. Он сразу же заламывает крупную цену за мертвые души, а все другое оставляет без внимания.
Собакевич — это воплощение грубости. Он без конца наступает всем на ноги. Он без видимой причины готов ругать всех своих знакомых. Он не только кулак, но и ругатель. В этом больше всего и выражается то типическое, что заключено в Собакевиче. Как это было и с другими гоголевскими героями, типическое в Собакевиче связано не с внешними его качествами, а с его существенными и постоянными свойствами. Как говорит Гоголь, риторически обращаясь к своему герою, ты «все был бы тот же, хотя бы даже воспитывали тебя по моде, пустили бы в ход и жил бы ты в Петербурге, а не в захолустье. Вся разница в том, что теперь ты упишешь полбараньего бока с кашей, закусивши ватрушкою в тарелку, а тогда бы ты ел какие-нибудь котлетки с трюфелями».
Плюшкин. Из всех помещиков, изображенных Гоголем в первом томе «Мертвых душ», Плюшкин вызывает самые грустные чувства. Он последний, кого посещает Чичиков. Изображая Плюшкина, Гоголь пользуется только одной краской. Все рисуется им в мрачных толах, ничто уже не вызывает в нем смеха. Вот имение Плюшкина: «Какую-то особенную ветхость заметил он (Чичиков) на всех деревенских строениях: бревно на избах было темно и старо; многие крыши сквозили как решето; на иных оставался только конек вверху да жерди по сторонам в виде ребр...»
О господском доме говорится: «Каким-то дряхлым инвалидом глядел сей странный замок, длинный, длинный непомерно. Местами был он в один этаж, местами в два; на темной крыше, не везде надежно защищавшей его старость, торчали два бельведера один против другого, оба уже пошатнувшиеся, лишенные когда-то покрывавшей их краски. Стены дома ощеливали местами нагую штукатурную решетку и, как видно, много потерпели от всяких непогод, дождей, вихрей и осенних перемен. Из окон только два были открыты, прочие были заставлены ставнями или даже забиты досками...»
Имение Плюшкина напоминало «вымершее место». Только одно здесь напоминало о жизни—«старый, обширный, тянувшийся позади дома сад». Он один «освежал эту обширную деревню и один был вполне живописен в своем картинном опустении». Напоминая о жизни, этот все еще прекрасный сад только подчеркивает трагизм всеобщего запустения и вымирания.
Как выморочный предстает перед нами и сам хозяин имения: «У одного из строений Чичиков скоро заметил какую-то фигуру, которая начала вздорить с мужиком, приехавшим на телеге. Долго он не мог распознать, какого пола была фигура: баба или мужик. Платье на ней было совершенно неопределенное, похожее очень на женский капот, на голове колпак, какой носят деревенские дворовые бабы...»
Своей внешностью Плюшкин похож в равной мере на бабу и на нищего: «...если бы Чичиков встретил его, так принаряженного, где-нибудь у церковных дверей, то, вероятно, дал бы ему медный грош».
Но Плюшкин не нищий, а помещик, притом когда-то богатый помещик. В его владении было более тысячи душ крестьян, в его кладовых хранилось несчетное количество всякого добра. Но все это былое богатство его было хуже бедности. Оно копилось без цели, не находя не только разумного, но и какого-либо употребления. Это-то и делает Плюшкина страшным. В нем скупость приобрела такие размеры и формы, когда она становится источником запустения и духовного, и в равной степени материального. Собирая без смысла, Плюшкин сделался расточителем в самом дурном значении этого слова.
А ведь когда-то, рассказывает нам Гоголь, Плюшкин был совсем другим. Он был бережливым хозяином, «был женат и семьянин, и сосед заезжал к нему сытно пообедать, слушать и учиться у него хозяйству и мудрой скупости. Все текло живо и совершалось размеренным ходом: двигались мельницы, валяльни, работали суконные фабрики, столярные станки, прядильни; везде во все входил зоркий взгляд хозяина и, как трудолюбивый паук, бегал хлопотливо, но расторопно, по всем концам своей хозяйственной паутины».
Ни о ком из помещиков, проходящих перед нами в первом томе «Мертвых душ», Гоголь не рассказывал нам о его прошлом. Все помещики, кроме Плюшкина, изображены Гоголем, как это делается в искусстве скульптуры, объемно, но вне видимых временных изменений. Плюшкин же показан во времени. Мы узнаем о том его прошлом, когда он был вполне человеком. И тем печальнее нам видеть, во что он превратился. Гоголевский рассказ о Плюшкине несет в себе элементы трагизма. То, что «Мертвые души» не только сатира, не только поэма, но еще и трагедия, в главе о Плюшкине мы ощущаем и осознаем, со всею очевидностью и остротою.
1. Помещик Манилов
| Деревня | Имение | Сад | Интерьер | Обед | Купля мертвых душ |
| «Деревня Маниловка немногих могла заманить своим местопо- ложением» | «Дом господский стоял одиночкой на юру, то есть на возвышении, открытом всем ветрам, каким только вздумается подуть; покатость горы, на которой он стоял, была одета подстри-женным дерном» | «На горе были разбросаны по- английски две-три клум- бы с кустами сиреней и желтых ака- ций; пять- шесть берез с небольшими купами кое- где возносили свои мелко- листные жи- денькие вер- шины» | «...Но больше всего было табаку. Он был в разных видах: в кар-тузах и в табачнице, и, наконец, насыпан был просто кучею на столе. На обоих окнах тоже помещены были горки выбитой из трубки золы, расставленные не без старания очень красивыми рядками. Заметно было, что это иногда доставляло хозяину препровожде-ние времени» | «Вы извините, если у нас нет такого обеда, какой на паркетах и в столицах, у нас просто, по русскому обычаю, щи, но от чистого сердца» | «Но позвольте доложить, не будет ли это предприятие или, чтоб еще более, так сказать, выразиться, негоция, — так не будет ли эта негоция несо-ответствующею гражданским постановлениям и дальнейшим видам России?»; «Неужели вы полагаете, что я стану брать деньги за души, которые в некотором роде окончили свое существов-е? Если уж вам пришло этакое, так сказать, фантастическое желание, то с своей стороны я передаю их вам безынтерес- но и купчую беру на себя». |
2. Помещица Коробочка
| Деревня | Имение | Сад | Интерьер | Обед | Купля |
| «..Крестьянские избы ... были выстроены в рассыпную и не заключены в правильные улицы, но ... показывали довольство обитателей, ибо были поддержи-ваемы как следу-ет: изветшавший тес на крышах везде был заменен новым; ворота нигде не покосились, а в .крестьянских крытых сараях заметил он где стоящую запас-ную почти новую телегу, а где и две» | «...Находившийся перед ним узенький дворик весь был наполнен птицами и всякой домашней тварью. Индейкам и курам не было числа; промеж них расхаживал петух мерными шагами, потряхивая гребнем и поворачивая голову набок, как будто к чему-то прислушиваясь; свинья с семейством очутилась тут же; тут же, разгребая кучу сора, съела она мимоходом цыпленка и, не замечая этого,продолжала уписывать арбузные корки своим по-рядком. Этот небольшой дворик, или курятник, пере-граждал дощатый забор, за которым тянулись простран-ные огороды с капустой, луком, картофелем, свеклой и прочим хозяйственным овощем» | «По огороду были разбросаны кое-где яблони и другие фруктовые деревья, накрытые сетями для защиты от сорок и воробьев, из которых последние целыми косвенными тучами переносились с одного места на другое» | «Комната была об- вешана старенькими полосатыми обоями; картины с какими-то птицами; между окон старинные маленькие зеркала с темными рамками в виде свернувшихся листьев: за всяким зеркалом заложены были или письмо, или старая колода карт, или чулок; стенные часы с на- рисованными цветами на циферблате»; «На картинах не все были птицы: между ними висел портрет Кутузова и писанный масляными красками какой-то старик с красными обшлагами на мундире, как нашивали при Павле Петровиче» | «.. .На столе стояли уже грибки, пирожки, скородумки, шанишки, пряглы, блины, лепешки со всякими припеками: припекой с лучком, припекой с маком, припекой с творогом, припекой со снаточками, и невесть чего не было» | «Нешто хочешь ты их откапывать из земли?»; «Ведь я мертвых никогда еще не продавала»; «...Я боюсь на первых-то порах, чтоб как-нибудь не понести убытку. Может быть, ты, отец мой, меня обма- нываешь, а они того... они больше как-нибудь стоят» |
3. Помещик Ноздрёв
| Дер. | Имение | Сад | Интерьер | Обед | Купля |
|
| «.. .Показал пустые стойла, где были прежде тоже хорошие лошади. .. .повел их глядеть волчонка, бывшего на привязи. Пошли смотреть пруд, в котором, по словам Ноздрева, водилась рыба такой величины, что два человека с трудом вытаскивали штуку... повел их к выстроенно-му очень красиво маленькому домику, окруженному большим загороженным со всех сторон двором. Вошедши во двор, увидели там всяких собак... ...пошли осматривать водяную мельницу, где недоставало порхлицы..»; «...Повел своих гостей полем, которое во многих местах состояло из кочек...» |
| «Посередине столовой стояли деревянные козлы, и два мужика, стоя на них, белили стены, затягивая бесконечную песню; пол весь был обрызган белилами»; «...Кабинет, в котором, впрочем, не было заметно следов того, что бывает в кабинетах, то есть книг или бумаги; висели только сабли и два ружья — одно в триста, а другое в 800 рублей ...Были показаны турец-кие кинжалы, на одном из которых по ошибке было вырезано: «Мастер Савелий Сибиряков». Вслед за тем показалась гостям шарманка. Потом показались труб-ки... кисет, вышитый какою-то графинею, где-то на почтовой станции влюбившеюся в него по уши...» | «Обед, как видно, не составлял у Ноздрева главного в жизни; блюда не играли большой роли: кое-что и пригорело, кое-что и вовсе не сварилось. Видно, что повар руководствовался более каким-то вдохновеньем и клал первое, что попадалось под руку: стоял ли возле него перец — он сыпал перец, капуста ли попалась — совал капусту, пичкал молоко, ветчину, горох, словом, катай-валяй, было бы горячо, а вкус — какой-нибудь, верно, выдет. Зато Ноздрёв налег на вина..» | «...Чтоб доказать тебе, что я вовсе не какой-нибудь скалдырник, я не возьму за них ничего. Купи у меня жеребца, я тебе дам их в придачу»; «Ну, послушай, хочешь, метнем банчик? Я поставлю всех умерших на карту, шарманку тоже» |
4. Помещик Собакевич
| Деревня | Имение | Сад | Интерьер | Обед | Купля |
| «Деревня пока-залась ему до-вольно велика; два леса, бере-зовый и сосно-вый, как два крыла, одно темнее, другое светлее, были у ней справа и слева... Деревенские избы мужиков тож срублены были на диво: не было кирче-ных стен,резных узоров и прочих затей, но все было пригнано плотно и как следует. Словом, все ... было упористо, без пошатывния, в каком-то креп- ком и неуклю- жем порядке» | «.. .Деревянный дом с мезонином, красной крышей и темно-серыми или, лучше, дикими стенами, — дом вроде тех, как у нас строят для военных поселений и немецких колонистов. Зодчий был педант и хотел симметрии, хозяин - удобства и, как видно, вследствие того заколотил на одной стороне все отвечающие окна и провертел на место их одно маленькое, вероятно понадобившееся для темного чулана. Фронтон тоже никак не пришелся посреди дома, как ни бился архитектор, потому что хозяин приказал одну колонну сбоку выкинуть, и оттого очутилось не четыре колонны, как было назначено, а только три. Двор окружен был крепкою и непомерно толстою деревянною решеткой. Помещик, казалось, хлопотал много о прочности. На конюшни, сараи и кухни были употреблены полновесные и толстые бревна, определенные на вековое стояние» |
| «На картинах все были молодцы, все греческие полководцы... Все эти герои были с такими толстыми ляжками и неслыханными усами, что дрожь проходила по телу. Между крепкими греками, неизвестно каким образом и для чего, поместился Багратион, тощий, худенький, с маленькими знаменами и пушками внизу и в самых узеньких рамках»; «.. .Все было прочно, неуклюже в высочайшей степени и имело какое-то странное сходство с самим хозяином дома; в углу гостиной стояло пузатое ореховое бюро на пренелепых четырех ногах, совершенный медведь. Стол, кресла, стулья — все было самого тяжелого и беспокойного свойства, — словом, каждый предмет, каждый стул, казалось, говорил: «И я тоже Собакевич!» или: «И я тоже очень похож на Собакевича!» | «За бараньим боком после-довали ватру-шки, из кото-рых каждая была гораздо больше тарелки, потом индюк ростом в теленка, набитый всяким доб-ром: яйцами, рисом, печенками и невесть чем, что все ложилось комом в желудке. ...Когда встали из-за стола, Чичи-ков почувст-вовал в себе тяжести на целый пуд больше»? | «Извольте, я готов продать» «Да чтобы не запрашивать с вас лиш-него, по сто рублей за штуку!» |
5. Помещик Плюшкин
| Деревня | Имение | Сад | Интерьер | Обед | Купля |
| «Какую-то особенную ветхость заметил он на всех деревенских строениях: бревно на избах было темно и старо; многие крыши сквозили, как решето; на иных оставался только конек вверху да жерди по сторонам в виде ребер. .. .две сельские церкви, одна возле другой: опустевшая деревянная и каменная, с желтенькими стенами, испятнанная, истрескавшаяся» | «Каким-то дряхлым инвалидом глядел сей странный замок, длинный, длинный непомерно. Местами был он в один этаж, местами в два; на темной крыше, не везде надежно защищавшей его старость, торчали два бельведера, один против другого, оба уже пошатнувшиеся, лишенные когда-то покрывавшей их краски. Стены дома ощеливали местами нагую штукатурную решетку и, как видно, много потерпели от всяких непогод, дождей, вихрей и осенних перемен. Из окон только два были открыты, прочие были заставлены ставнями или даже забиты досками» | «Старый, обширный, тянувшийся позади дома сад, выходивший за село и потом пропадавшей в поле, заросший и заглохлый, казалось, один освежал эту обширную деревню и один был вполне живописен в своем картинном опустении. Словом, все было хорошо, как не выдумать ни природе, ни искусству, но как бывает только тогда, когда они соединятся вместе» | «...Стоял прислоненный боком к стене, шкаф с старин-ным серебром, графинчиками и китайским фарфором. ... лежало множе-ство всякой всячины:... какая-то старинная книга в кожаном переплете с красным обрезом... отломанная ручка кресел, рюмка с какой-то жидкостью и тремя мухами ... кусочек сургучика...» | «.. Там на пол- ке есть..сухарь из кулича... сухарь-то сверху, чай, поиспортился, так пусть соскоблит его ножом да крох не бросает, а снесет в курятник» .. .У меня был славный ликерчик. .. Еще покойни-ца делала... Козявки и всякая дрянь было напичка-лись туда, но я весь сор-то повынул, и теперь вот чистенькая; я вам налью рюмочку» | «Предложение, казалось, совершенно изумило Плюшкина. Он, вытаращив глаза, долго смотрел на него...»; «Услыша, что даже издержки по купчей он [Чичиков] принимает на себя, Плюшкин ... не мог скрыть своей радости и пожелал всяких утешений не только ему, но даже и деткам его...» |
Приемы и средства их изображения персонажей
Гоголь — общепризнанный мастер социальной сатиры. Его персонажи — это современные писателю российские типы, представленные в «кривом зеркале» гротеска и абсурда, но они в то же время и «вечные» типы, воплощающие такие пороки, которым нет даже точного названия, — отсюда необходимость создания таких понятий,, как «хлестаковщина», «маниловщина».
Помещики. «Помещичьи» главы (2—6) построены по одинаковой композиционной модели. Основные компоненты изображения помещиков:
описание имения;
беглый и затем подробный портрет;
авторская характеристика с обобщением «в масштабе России»;
подчеркнутые ассоциации с животными и с миром вещей;
подробно, в деталях выписанный интерьер, пейзаж (в интерьере и пейзаже — либо ощущение хаоса и разложения, либо мнимого, мертвенного «хлада размеренной чистоты и опрятности»);
сцена угощения и диалог с Чичиковым по поводу «мертвых душ».
В результате создаются непохожие друг на друга, индивидуализированные характеры, объединенные, тем не менее, одним признаком: все эти персонажи принадлежат «вчерашнему дню» и сами являются «мертвыми душами». Рассмотрите подробно следующие компоненты изображения:
1. Портрет (как правило, их два: первый — беглый, второй — более подробный).
2. Авторская характеристика (в нее обязательно входит рассуждение о типичности данного героя для русской жизни; о Коробочке вы найдете даже два таких рассуждения).
3. Пейзаж усадьбы как своеобразная эмблема (или «зеркало») души героя.
4. Интерьер помещения (с теми же функциями).
5. Сопутствующие персонажи (члены семьи, прислуга, другие гости).
6. Диалог с Чичиковым о мертвых душах (здесь, как правило, открывается наиболее важный аспект характера помещика).
7. Имена и фамилии помещиков более или менее значимы (не «говорящие» в классицистическом смысле слова, но содержащие важные ассоциации).
Определенное значение имеет порядок появления помещиков. На первый взгляд каждый очередной помещик отвратительнее и «мертвее» предыдущего: Манилов сменяется куда менее благообразными на вид Коробочкой, Ноздревым, Собакевичем и, наконец, гротескно-безобразным Плюшкиным (при первом появлении напоминающем... старуху-ключницу). Мотив старости и смерти тоже усиливается по направлению от Манилова к Плюшкину. Однако на более глубинном уровне гоголевского замысла символика порядка появления помещиков оказывается как раз противоположной. Наиболее «мертвым» можно считать именно Манилова, лицо которого выглядит застывшей маской. Сам Гоголь назвал его «рыцарем пустоты». Из всех помещиков Манилов наименее похож на человека, он напоминает манекен. Коробочка и Ноздрев — отрицательные герои, но это значительно более живые характеры, чем Манилов. Изображая Собакевича, Гоголь даже привлекает положительные фольклорные ассоциации (медведь, богатырь). Образ Плюшкина можно назвать в какой-то степени трагическим (такому восприятию способствует жизнеописание героя и лирико-патетическое отступление по поводу жалкой судьбы его, обращенное к юношеству). Гоголь намеревался «довести» этого персонажа до второго и третьего томов поэмы, где он мог бы, как и Чичиков, духовно преобразиться и очиститься от порока. Таким образом, первое впечатление, что каждый новый помещик «мертвее» предыдущего, оказывается обманчивым. Поскольку Плюшкин, быть может, ближе к духовному преображению, чем Манилов, можно сказать, что на композиционном уровне (порядок появления помещиков) Гоголь как бы реализует очень важный христианский символ — «последние станут первыми».
Чиновники. Если помещики индивидуализованы, то чиновники наоборот обезличены, они имеют только коллективный портрет, из которого незначительно выделяются губернатор, прокурор, полицеймейстер и почтмейстер. У чиновников не обозначены фамилии, а имена приводятся часто в комических и гротескных контекстах («Шпрехен зи дейч, Иван Андрейч», «Иван Антонович Кувшинное Рыло»), иногда дублируются (Иван Андреевич, Иван Антонович).
Не случайно гротескное начало в портрете Ивана Антоновича и его грубо-комическое прозвище, отсылающее одновременно к миру неживых вещей и к миру животных (вспомним реплику Городничего из «Ревизора»: «Вижу какие-то свиные рыла вместо лиц...»). Департамент иронически охарактеризован как «храм Фемиды». Это важное место действия для Гоголя, департамент часто изображается в петербургских повестях, где он выглядит как своего рода антимир, еще один ад в миниатюре.
Основное средство изображения чиновников — авторская характеристика.
Приемы авторской характеристики:
алогизмы, абсурдизация, смысловые несостыковки;
развернутые сравнения;
гиперболы;
ирония;
сатирические отступления;
интерьер и другие детали как средства изображения канцелярии;
речь — как прямая, так и несобственно-прямая: без индивидуализации, выражение «общего мнения».
Важнейшие эпизоды, по которым можно собрать материал для раскрытия темы «Мир чиновников»: «домашняя вечеринка» у губернатора (глава 1), бал у губернатора (глава 8), завтрак у полицеймейстера (глава 10).
В «чиновничьих» сюжетах Гоголя можно обнаружить немало традиционных мотивов русских сатирических комедий Фонвизина и Грибоедова. Волокита, бюрократизм, чинопочитание, взяточничество и другие социальные пороки — традиционно высмеиваемое социальное зло (взятка Ивану Антоновичу Кувшинное Рыло в 7-й главе). Однако приемы изображения иные, они близки к сатирическим приемам Салтыкова-Щедрина. Один из видов языкового портрета у обоих писателей — речь, организованная как механическое повторение слов, символ бюрократизма, казенности и тупоумия. В «Истории одного города» Салтыкова-Щедрина этот прием приобретает еще более гротескную окраску: Органчик изображается куклой (подчеркивается неживое, марионеточное начало в человеке).
Имена персонажей-чиновников в поэме тоже не передают личностной индивидуальности, они повторяются: Иван Иванович, Иван Антонович. При этом выделяются некоторые фигуры (губернатор, прокурор, жалобщики), но они знаменательны только своей сюжетной функцией. Характеры этих героев так же усреднены, как и у всех чиновников. Примечательна в этом отношении фигура прокурора, у которого «всего-то» и было, что «густые брови», и о котором только после его смерти догадались, что у него была «душа». Разумеется, невозможно полностью сводить принципы изображения чиновников у Гоголя к социальной сатире. Гоголевский гротеск и фантасмагория гораздо масштабней, его абсурдизирующие приемы в каком-то смысле самодостаточны, поскольку язык, на котором говорит писатель, это и его взгляд на мир.
О некоторых особенностях гоголевской обрисовки характеров
Легко заметить, что, рисуя портрет героя, Гоголь всегда наиболее обстоятельно говорит о пустяках, о мелочах, показывая их не торопясь, замедленно. Это делает портрет героя и по-особенному выразительным и в большой степени комическим. Ведь комическое очень часто бывает основано на замене серьезного и существенного пустяками. Прокурор у Гоголя «с весьма черными густыми бровями и несколько подмигивавшим левым глазом так, как будто бы говорил: «Пойдем, брат, в другую комнату, там я тебе что-то скажу». О Чичикове говорится с подчеркиванием опять-таки частного и неглавного, которому придается как будто бы большое значение: «В приемах своих господин имел что-то солидное и высмаркивался чрезвычайно громко. Неизвестно, как он это делал, но только нос его звучал, как труба».
Обращая внимание на мелочи, Гоголь чаще всего из мелочи создает целую картину или сцену. Благодаря этому мелочь перестает быть мелочью, превращаясь, говоря словами Белинского, в «перл создания» и давая наглядное представление о людях и жизни. Гоголь, например, так рассказывает о том, как смеется Ноздрев: «Здесь Ноздрев захохотал тем звонким смехом, каким заливается только свежий здоровый человек, у которого все до последнего выказываются белые, как сахар, зубы, дрожат и прыгают щеки, и сосед за двумя дверями, в третьей комнате, вскидывается со сна, вытаращив очи и произнося: «Эк, его разобрало!»
Частность (смех героя) разворачивается на наших глазах в самостоятельную сценку, очень интересную и по-своему увлекательную. Она интересна не только в связи с Ноздревым, но и сама по себе. Она способна вызвать в читателе самые близкие и живые ассоциации. Под впечатлением этой сценки мы можем вспомнить о каком-нибудь нашем знакомом или о каком-нибудь известном нам случае. Развернутая частность, развернутая гоголевская деталь дают нам возможность узнать что-то новое и вспомнить о хорошо известном.
Подобны развернутым деталям многие гоголевские сравнения. Гоголь любит сравнения, часто к ним прибегает. Они у него велики по размерам и тоже «развернутые». Гоголь, например, говорит о некоем дяде Миняе, который вызвался помочь развести столкнувшихся лошадей, и при этом обращает внимание на его «брюхо», похожее на «тот исполинский самовар, в котором варится сбитень для всего прозябнувшего рынка».
Для Гоголя здесь важны не только дядя Миняй, с его большого размера брюхом, но и не менее того—«прозябнувший рынок» и сбитень (т. е. горячий напиток из подожженного меда с пряностями), который так особенно приятен тем, кто приехал на рынок. Гоголя в описаниях все время тянет в большой мир. Одну частность он дополняет другими частностями, взятыми уже из другой сферы жизни,— и в целом у него создается картина самого широкого охвата. Он действительно рисует Русь со всех сторон. Он делает это и тогда, когда знакомит читателя с самыми разными персонажами, и тогда, когда не спеша рассказывает о разных частностях, и тогда, когда в свободных сравнениях, разворачивая их, рисует эпические картины, так много говорящие о жизни.
Вот Гоголь ведет нас к дому Собакевича, из окна которого выглядывали «почти в одно время два лица: женское в чепце, узкое, длинное, как огурец, и мужское, круглое, широкое, как молдаванские тыквы, называемые горлянками, из которых делают на Руси балалайки, двухструнные, легкие балалайки, красу и потеху ухватливого двадцатилетнего парня, мигача и щеголя, и подмигивающего, и посвистывающего на белогрудых и бело-шейных девиц, собравшихся послушать его тихоструйного тренканья».
Автор начал с лица мужчины, сравнил его с молдаванской тыквой, потом перешел к балалайкам, от балалаек к ухватистому парню — и как много мы узнали о жизни из этой очень подвижной, многоступенчатой и столь богатой содержанием картины, выросшей из простого сравнения!
Еще одна важная особенность Гоголя-художника — яркая неожиданность и меткость его слова, неожиданность и меткость его характеристик и описаний. Вспомним, например, как описываются собачки, принадлежащие даме приятной во всех отношениях: «Приезд гостьи разбудил собачонок, спавших на солнце: мохнатую Адель, беспрестанно путавшуюся в собственной шерсти, и кобелька Попури на тоненьких ножках».
Впечатление неожиданности и вместе с тем верности действительности оставляет и характерная для Гоголя манера изображения чувств героя через внешний жест, внешнее движение. У Манилова (при встрече с Чичиковым) «от радости остались только нос да губы на лице, глаза совершенно исчезли». Растерянность прокурора выражается так: «...продолжал он стоять на одном и том же месте, хлопать левым глазом и бить себя платком по голове, сметая оттуда табак». Любопытство приятной дамы передается через внешние детали, которые в совокупности оставляют целую картину комического свойства: «...ушки ее вытянулись сами собою, она приподнялась, почти не сидя и не держась на диване, и, несмотря на то, что была отчасти тяжеловата, сделалась вдруг тонее, стала похожа на легкий пух, который вот так и полетит на воздух от дуновения».
8