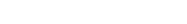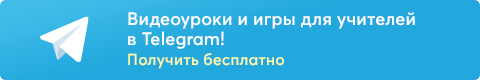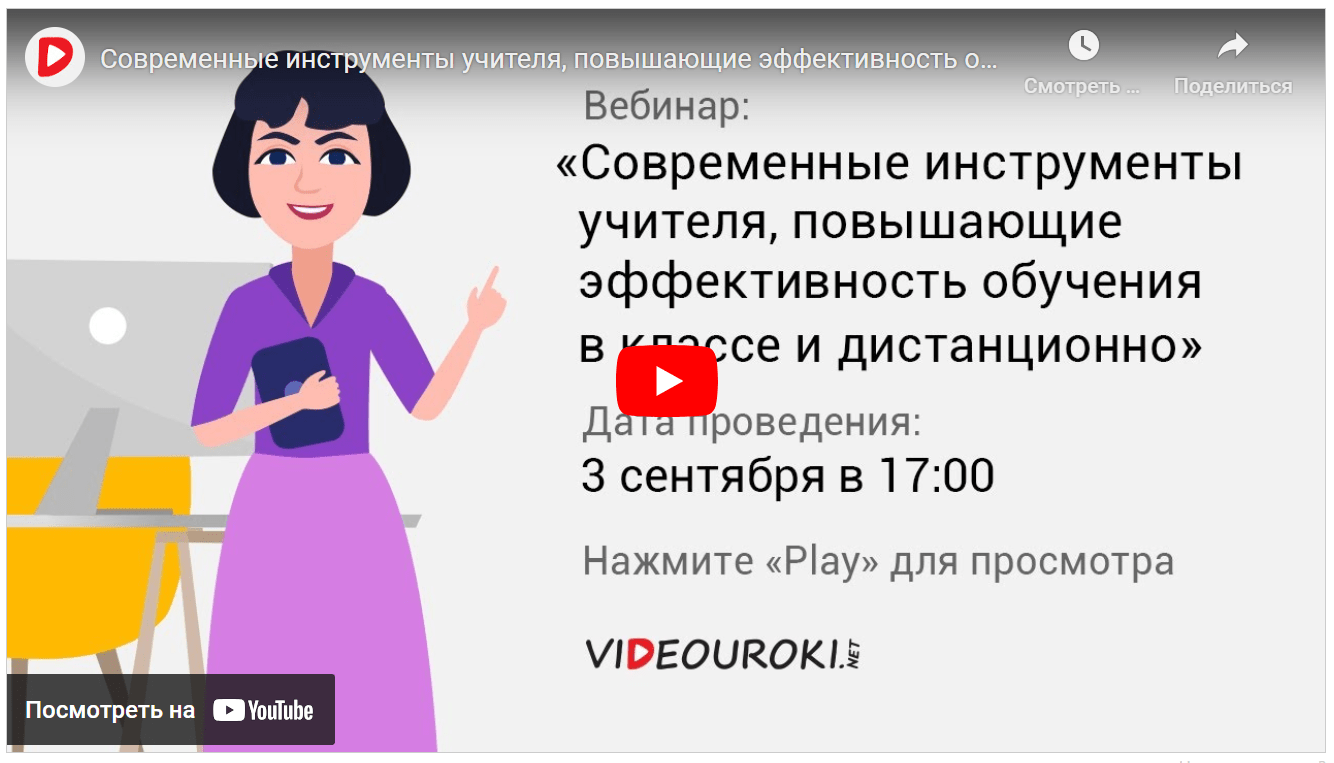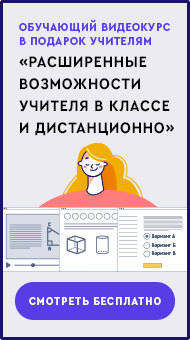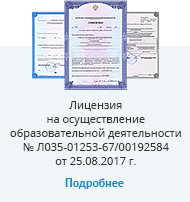ВАТА
Прежде ватными были все одеяла, ватными, стегаными, покрытыми отроду ярким, но поблекшим зеленым или красным сатином. Под этими одеялами было очень тепло и спокойно. Неспортивно. Нормально. Было понятно, хотя никто ничего подобного не говорил, что под этими одеялами можно жить, учиться, работать и без боязни умереть, в смысле — умереть без боязни. Под таким одеялом я во время очередной ангины в возрасте пяти лет легко научился читать при помощи квадратиков разрезной азбуки, выкладывая их на большой фанерный лист — “пельменный”. Под таким одеялом я при свете фонарика прочитал “Собаку Баскервилей” и “Трех мушкетеров”. И трясло меня уж конечно не от холода, а оттого, что было до дрожи интересно. Под таким одеялом холодной поздней осенью мы с женой передали жизнь нашей дочери...
И ватой на зиму затыкали окна. Я участвовал в этой почти ритуальной работе несколько раз. Вату запихивали в щели старыми столовыми ножами, и я всегда норовил ухватиться за самый старый, источенный чуть ли не до бритвенной тонкости.
Из ваты были Дед Мороз и Снегурочка под новогодней елкой, очень пожилые и без всяких излишеств, но все равно необыкновенно красивые, желанные, волшебные в своих шубах, украшенных чем-то вроде посаженного на клей битого стекла. Я даже украдкой целовал их румяные добрые лица.
Когда я поступил в университет, сразу поехал в колхоз на уборку урожая. И поскольку погода в конце августа стояла прекрасная, то поехал в чем был — в джинсовом пиджачке и таких же брючках, а из теплых вещей захватил всего три — вязаный пуловер, шерстяной только наполовину, вязаный же длинный шарф, наводивший на мысль о сильно вытянутом французском триколоре, и черную кожаную фуражку производства Монгольской Народной Республики. В этой экипировке меня и застукала сентябрьская непогода — дожди, утренние заморозки и снегопад, назревающий в бледном небе.
Единственное письмо, написанное мной оттуда бабушке, состояло, главным образом, из слезного списка необходимых мне продуктов, вроде сухарей, пряников и конфет “дунькина радость”, и множества разнообразных предметов одежды — от шерстяных носков и кальсон с начесом до ватника. Еще я просил выслать болгарские сигареты, магнитофонные ленты и прочее, всего уж и не помню. Перечитав письмо напоследок, я понял, что просьбу мою вряд ли возможно будет в точности исполнить: невероятно огромная получилась бы посылка. А потому сделал приписку с трезвым уточнением: главное из всего перечисленного — ватник, без него я просто умру со дня на день. И в памятный день восемнадцатого сентября я этот ватник и получил. На размер больше моего, новенький — с иголочки и даже щеголеватый — покрытый темно-синей плотной, почти непромокаемой, тканью. Потом выяснилось, что бабушка его даже не купила (на это у нее не хватило бы денег), а одолжила у кого-то из родственников. Распоров простынный почтовый мешок, я тут же, в столовой, надел обновку и, сунув руки в карманы, обнаружил там настоящий клад — конфеты “Курортные”, несколько пачек сигарет и две или три магнитофонные катушки... И через несколько минут, едва не плача от счастья, слушал “Ooh baby, you know I love you...” Джорджа Харрисона. Я и теперь, больше четверти века спустя, слушаю то же самое, но уже с компакт-диска, сунутого в персональный компьютер...
И ваты стало меньше, вообще практически нет. Может, эдак оно и лучше. Но эдак — не так. А так не будет уже никогда. Бабушка, помнишь, когда я приложил к твоей груди снег, набранный с балкона в полотенце, ты, умирая, сказала: “Так хочется знать, что дальше будет...” Вот, я тебе говорю: вата почти начисто исчезла из нашей жизни, потому что мы живем в эпоху “Тампэкса” и евроокон. И ради Бога, не спрашивай меня о том, что это такое!
Еще вата останавливала всяческую кровь, хотя потом отдирать ее волоконца от едва затянувшейся раны было больно и муторно...