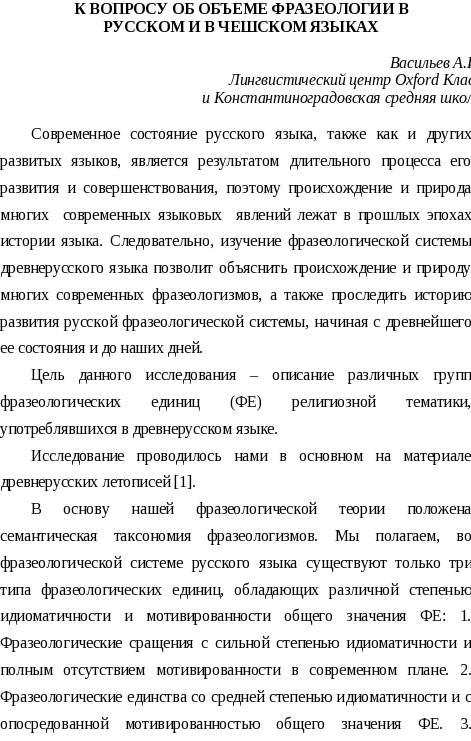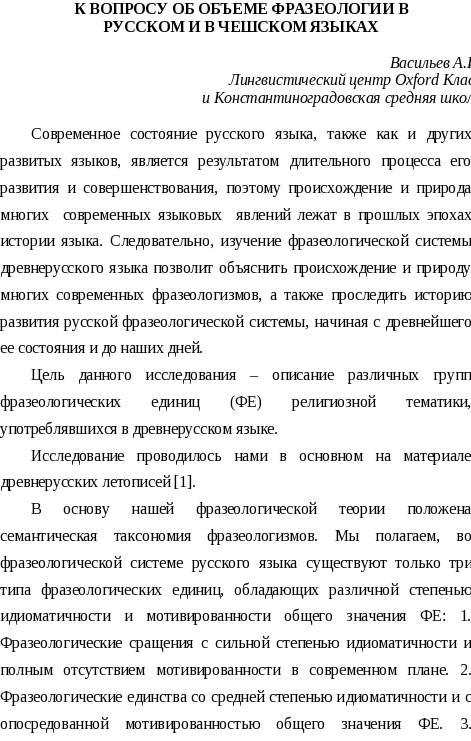К ВОПРОСУ ОБ ОБЪЕМЕ ФРАЗЕОЛОГИИ В
РУССКОМ И В ЧЕШСКОМ ЯЗЫКАХ
Васильев А.И.
С нашей точки зрения, фразеологический оборот – это воспроизводимое сочетание двух и более слов номинативного или коммуникативного характера, обладающее устойчивым составом, структурой и значением. Однако вследствие существующей в языке вариантности, закрепленной нормой языка, состав и структура фразеологизма могут подвергаться изменениям, что дает основание говорить об относительной устойчивости состава и структуры для какого-то числа фразеологизмов, но не для всех устойчивых оборотов. Значение же ФЕ при вариантности остается неизменным. В основу нашей фразеологической теории положена семантическая таксономия фразеологизмов. Мы полагаем, во фразеологической системе как русского, так и чешского языков существуют только три типа фразеологических единиц, обладающих различной степенью идиоматичности и мотивированности общего значения ФЕ: 1. Фразеологические сращения с сильной степенью идиоматичности и полным отсутствием мотивированности в современном плане. 2. Фразеологические единства со средней степенью идиоматичности и с опосредованной мотивированностью общего значения ФЕ. 3. Фразеологические сочетания (коллокации или коллоквиализмы) с самой низкой степенью идиоматичности и с высокой степенью мотивированности общего значения ФЕ.
Фразеологические сращения обладают высшей степенью идиоматичности, т.е. полной невыводимостью значения всей языковой единицы из значений слов-компонентов: kde lišky dávají dobrou noc ‘у чёрта на куличках’ (liškа – лиса);, achillova pata. ‘Ахиллесова пята’; на чём свет стоит ‘очень сильно’. Фразеологические единства обладают средней степенью идиоматичности, поскольку их значения опосредованно выводятся из суммы значений слов-компонентов: být jako v kole ‘вертеться как белка в колесе’; dělat z komára velblouda ‘преувеличивать’; držet jazyk za zuby ‘держать язык за зубами’; закинуть удочку, мелко плавает, путеводная звезда. Фразеологические сочетания обладают слабой идиоматичностью, вследствие того, что включают в свой состав одно слово с фразеологически связанным значением: kořen zla ‘корень зла’; studená válka ‘холодная война’; таращить глаза, окладистая борода, проливной дождь, трескучий мороз, грецкий орех. Фразеологические сочетания в научной литературе имеют и другие названия: коллокации [1, с. 67] и коллоквиализмы [2, с. 15]. Коллокации – это слабоидиоматичные фразеологизмы со структурой словосочетания, в которых семантически главный компонент употреблен в прямом значении [1, с. 67].
Мы считаем, что термин «идиома» необходимо употреблять по отношению к любому из трёх, приведённых выше типов фразеологических единиц, указывая при этом на определенный тип (фразеологическое сращение, фразеологическое единство, фразеологическое сочетание).
Предполагается, что идиоматичность образуют три составляющие: переинтерпретация, непрозначность, усложнение способа указания на денотат. При переинтерпретации некоторое выражение у которого есть прямое выражение, понимается и в переносном, причём переносное значение связано с прямым некоторым отношением, правилом. Чаще всего в этой функции выступают тропеические преобразования. Переинтерпретация как составляющая идиоматичности, не ограничивается идиомами, а хакрактеризует семантическую деривацию любого вида. Непрозначность фразеологизма – это невозможность вычислить значение ФЕ без этимологического исследования: выписывать мыслете, ничтоже сумняшеся. Усложнение способа указания на денотат – это любое выражение, которое существует в языке наряду с более простым и стандартным именованием этой сущности… Переинтерпретация – это взгляд на идиоматичное выражение с точки зрения порождения, а непрозрачность с точки зрения понимания [1, с.30-31].
Своеобразным спутником и вероятным катализатором идиоматичности является мотивированность. Мотивированность состоит в наличии фактора семантической обусловленности, связывающего для говорящего этимологическое (буквальное) и актуальное (переносное) значение фразеологизма. Хотя идиоматичность и мотивированность взаимосвязаны, между ними имеет место обратно пропорциональная зависимость: чем более мотивированным является фразеологизм, тем ниже мера его идиоматичности, и наоборот [3, с. 26-27].
Что касается «фразеологических выражений», которые «целиком состоят из слов со свободными значениями, имеют общее значение, вытекающее из значений слов-компонентов, и которые воспроизводятся как готовые единицы с постоянным значением и составом» [4, с. 62], то эти выражения, как мы считаем, должны быть выведены за пределы фразеологии и рассматриваться в отдельной науке, которую мы предлагаем назвать словом фразистика, в основе которой, также как и в слове фразеология, лежит греческое слово phrasis выражение. Мы считаем, что обороты типа bahenní plyn ‘болотный газ’; на данном этапе, письменные принадлежности, высшее учебное заведение и многие другие, которые целиком состоят из слов со свободным значением и общее значение которых выводится из значений слов-компонентов, следует называть термином фразис, синонимичными которому будут названия: фразистический оборот и фразистическая единица.
Это связано с тем, что класс «фразеологических выражений» образуют тысячи и тысячи в основном терминологических языковых единиц, употребляющихся во всех сферах науки, образования, финансов, производства, торговли, сельского хозяйства, строительства, спорта и т.д., например: kreditní karta ‘кредитная карта’; ložní prádlo ‘постельное белье’; česká korona ‘чешская крона’; státní příslušnost ‘гражданство’; садовый инвентарь, бытовая химия, свадебный салон, недвижимое имущество, благотворительный фонд, газовая плита, платежное поручение, пластиковые окна, настольная лампа, натяжные потолки, платяной шкаф, учёная степень и т.д. Включение в состав фразеологии так называемых «фразеологических выражений» отдельными лингвистами непомерно расширяет состав фразеологии, делает её качественно разнородным и становится препятствием для дальнейшего развития отечественной фразеологии.
В природе языка нет резких границ между хотя и разными, но смежными явлениями. Фразисы, обладающие лишь «нулевой» идиоматичностью, занимают промежуточное положение между свободными словосочетаниями и фразеологизмами-идиомами. Мы допускаем, что в результате семантической трансформации отдельные фразисы могут перейти в разряд фразеологизмов-идиом.
Полагаем, что устойчивость и идиоматичность не всегда связаны прямо друг с другом. Доказательство тому – существование фразисов, представляющих собой устойчивые словосочетания, но обладающих только «нулевой» идиоматичностью.
С нашей точки зрения, категориальными свойствами фразеологизмов являются воспроизводимость, устойчивость, сверхсловность и идиоматичность, которые взаимообуславливают друг друга, притчём, ни одно вышеперечисленное свойство не может существовать без другого.
Существующие классы языковых единиц, как паремии (пословицы, поговорки и загадки), составные термины и наименования, крылатые выражения, фразеологические аппозитивы, вокативные и фольклорные устойчивые сочетания слов, предложно-именные словосочетания, междометные и модальные устойчивые обороты, штампы и клише возможно отнести к фразеологии только при одном условии – если с точки зрения семантической слитности слов-компонентов языковые единицы этих классов являются фразеологическими сращениями, фразеологическими единствами или фразеологическими сочетаниями. Вопрос о том, номинативные это единицы или коммуникативные, не должен иметь никакого значения.
Такой поворот событий позволит фразеологам чётко осознать объект и предмет фразеологии, отказаться от понятий «широкий» и «узкий» взгляды на фразеологию и заниматься только тем, что и должно изучаться во фразеологии, а именно: фразеологическими сращениями, фразеологическими единствами и фразеологическими сочетаниями.
Литература
1. Баранов А.Н., Добровольский Д.О. Аспекты теории фразеологии. – М., 2008.
2. Калинина А.В. Внутренняя форма идиом русского и французского языков: опыт сопоставительного анализа: Монография. – М.: Инфомедиа Паблишерз, 2007.
3. Жуков А.В. Очерки по фразеологической семантике. – Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2008.
4. Шанский Н.М. Фразеология современного русского языка. – М.: Высшая школа, 1985.