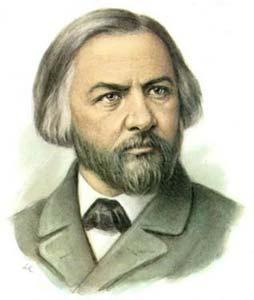МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ ГЛИНКИ М.И.
ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ
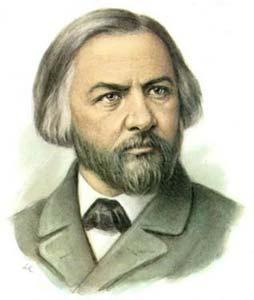
Михаил Иванович Глинка и Петербург
Составитель:
преподаватель высшей категории
Климова Сюзанна Николаевна
Калининград
2019
Творческий гений Великого Маэстро во все времена привлекал внимание огромного количества людей. Это не только почитатели таланта М.И. Глинки, но и многие музыкальные критики и музыковеды. В истории музыкознания даже есть такое определение - глинковеды.
На современном этапе, когда художественная общественность отмечает крупный юбилей, а это 210-летие со дня рождения М.И.Глинки, особенно важно ещё раз привлечь всеобщее внимание к изучению творчества М.И. Глинки. И среди наиболее важных и актуальных задач, появляется необходимость не просто изучения биографии великого русского композитора, как подробнейшего изложения всех собранных фактов его жизни и творчества, а попытки проникнуть в тайны его творчества и раскрыть своеобразие его личности.
Огромное значение приобретает необходимость рассмотреть жизнь и творчество Глинки в контексте культуры его времени. Одна из таких проблем связана с осмыслением системы представлений, образующихся вокруг Петербурга.
В современной гуманитарной науке принято считать, что подлинным открывателем Петербурга стал Пушкин. В его сочинениях «впервые формировался особый "петербургский" тип человека, о котором и оповестила Россию, а потом и весь мир русская литература».
Несомненно, особую лепту в осмысление Петербурга внесла и русская музыка. Особая страница в русском музыкознании, связанна с именем Б.В. Асафьева. В своих "Симфонических этюдах", опубликованных в 1922 г. он писал о Петербурге: «Есть странный русский город. В нем можно только мечтать о свете, о жизни во всей ее могучей красоте. Когда приходит весна, она, может быть, никого не радует в мире так, как людей этого властного города. Робкая кроткая и нежная, она, родясь, предчувствует свое краткое существование... И кто бы из людей творческого дара ни соприкасался с Петербургом, даже не будучи уроженцем, ему не миновать было петербургских влияний... Петербург вдохновил Глинку, но отравил его творческие инстинкты, упорно увлекая к пессимизму его здоровое солнечное мировоззрение».
Если глубоко вдуматься в приведенные строки Бориса Асафьева и всмотреться в черты личности Глинки, то сказанное Асафьевым в значительной мере прояснит много в понимании Глинки, и может служить одной из важнейших нитей соотносящих его со всей русской культурой, устанавливающей для него связь с будущим русской музыки.
Глинка первый из русских композиторов отразил самой своей жизнью и своим творчеством условия "петербургского текста". И дело здесь вовсе не в том, что он ругал или восхвалял Петербург: негативно-эмоциональный отклик на этот город - одно из общих мест русской культуры. Гораздо важнее, что Глинка вступил в особые, лирические отношения с Петербургом, в которых пересекаются многие мотивы и сопряжения, среди которых наиболее существенен дуализм любви-ненависти. Наиболее полно эти отношения раскрыты в его письмах.
Знаменательно, что уже в первом из сохранившихся писем Глинка намечает свои отношения с Петербургом, как местом, в котором его многое тяготит.
Пройдет 9 лет и в 1831 году Глинка станет называть Петербург "ненавистным", определять его как место, где "страдал столько времени". Чуть позже он будет описывать тяготы своей придворной службы в Петербурге, которые ему "не по душе"; с иронией говорить об утомительных для него излишествах петербургских праздников. Он мучительно переживает сплетни, распускавшиеся в городе по поводу его разрыва с женой, и пытается уверить себя в том, что ему безразлично, как они влияют на отношение к нему со стороны столичного светского общества: "Вы легко можете представить себе, милая маменька, что в городе, где сплетни составляют любимое препровождение времени, это происшествие было предметом всеобщего разговора и что весьма многие берут сторону бывшей жены моей... Впрочем, я мало забочусь о мнении людей - родные, близкие сердцу люди и правительство на моей стороне, а это главное".
Однако это ему не удается и он вновь, и вновь возвращается к этой больной теме: "...здесь... в Петербурге, одни бесконечные сплетни, и ими с той же охотой занимаются и светское общество, и дурно воспитанные люди... Повторяю, приезжайте, друзья мои, поскорее увезите меня подальше отсюда, - в этой гадкой стране я уже достаточно всего натерпелся, с меня довольно! Им удалось отнять у меня все, даже святой восторг перед моим искусством, - мое последнее прибежище...". Близкие ему люди в Петербурге не способны облегчить его состояние: "...приятелей много, но они склоннее издеваться над моими страданиями, нежели понимать или утешать меня...".
Даже когда все тяготы бракоразводного процесса были преодолены, Петербург продолжает вызывать у Глинки негативные эмоции. Описывая казалось бы нейтральные ситуации, он не может удержаться чтобы не сравнить: "Петербург - помойная яма", "В Петербурге гадко: жар, пыль и ночей нет". Его раздражают здесь местный климат, сплетни и даже излишняя опека со стороны молодых друзей: "Владимир Ста[сов] был вчера и больно прилетает, чтобы я работал, - им нужды до того нет, здоров ли я, а пиши, пиши, да и только. На это моего согласия нет! Здоровье важнее всех музык на свете".
В 1841 году Глинка мечтал уехать из России в Париж: "Авось путешествие оживит меня". Тогда Петербург тяготил Глинку не только своими сплетнями, тяготами бракоразводного процесса или интригами в придворном или театральном мирах. Здесь он переживал еще и боль расставания с возлюбленной - Е.Е.Керн. Петербург "стал ненавистен с тех пор, как ее здесь нет".
Но и уехав в Париж, он не может избавиться от неприятных мыслей о Петербурге: "... с ужасом вспоминаю о разгульной жизни в Петербурге..."; "Вы знаете, что я был три года пленником в Петербурге, что доведен был обстоятельствами] до такой степени, что тяготился жизнию". Петербург, как олицетворение страданий в жизни Глинки, постепенно становится у него обобщенным воплощением России: "я... ежедневно благодарю вас за то, что вы меня, так сказать, извлекли из Петербурга. И жизнь моя здесь, хотя не так приятна, как бы могла быть, но в итоге может назваться жизнию, тогда как я прозябал, как растение в России". Тема бегства из Петербурга-России очень важна в его письмах.
Жизнь в России для него неприемлема по тем же причинам, что жизнь в Петербурге, и, уже находясь за границей, он пишет: "...меня устрашает одна мысль вернуться в Россию".
Вместе с тем, Петербург – город его славы! Это единственное место в России, где Глинка только и может вести наиболее полноценную в художественном отношении жизнь, отдаваться любимым занятиям музыкой. В Петербурге он переживает моменты высшего творческого удовлетворения. И пусть нередко они оттенены в его сознании горечью несчастий: "этот город был ареной моих успехов и моих несчастий, - я забыл о триумфах, но горе оставило в моем сердце такой глубокий след, что я никогда, никогда больше не смогу жить в С.-Петербурге спокойно", - гораздо важнее то, что именно в Петербурге его ожидает первый окрыливший на всю его жизнь великий триумф на премьере оперы "Жизнь за царя". "Государь Император изволил позвать меня в свою ложу, взял меня за руки, благодарил меня и долго беседовал со мною наследник. Императрица и великая княжна Мария Николаевна также удостоили меня лестными отзывами о моей музыке"- пишет он своей матери в день этой премьеры. А чуть позднее, в письме к ней же, упоминая о своих "страданьях", все расставляет по своим местам: "я теперь вполне вознагражден за все труды и страдания, и ежели еще не во всех намерениях успел, то надеюсь, что не замедлю достигнуть до прочих моих намерений".
Для него важны все получаемые в Петербурге знаки внимания. "Милости царя нашего не ограничились одним перстнем; на днях по представлению министра двора мне поручена музыкальная часть в певческом корпусе. Его Имп. Величество сам лично в продолжительной со мною беседе вверил мне своих певчих. Это публично царем изъявленное внимание к моему таланту есть верх награды". Даже в случаях незначительных своих успехов в Петербурге он считает необходимым их отмечать в своих письмах. Например, зимой 1841 года он пишет своей матери, что его "Прощальный хор для девиц Екатерининского института" был поощрен "как вниманием начальницы и Герцога Ольденбургского, так и усердным пением певиц. Начальница от себя желает посвятить эту пьесу Императрице и просит оставить ее в наследство институту - если так случится, не скрою, что буду весьма доволен". А чуть позже повторяет: "...после нескольких репетиций, во время коих мне были оказаны всевозможные знаки уважения, - хор этот я исполнил в присутствии двора и там понравился... Начальница, воспользовавшись добрым расположением государыни, просила ее Величество принять посвящение моего хора, на что последовало соизволение, и я получил перстень с изумрудом, осыпанный бриллиантами".
Но, даже будучи "обласкан" при дворе, Глинка там же сталкивается и с придворными интригами, отравляющими его существование: "Все эти проделки меня довели до того, что мне музыка и опера опостылели, и я только желаю сбыть ее скорее с рук долой, да убраться из Петербурга".
Впрочем, временами Глинка ощущает, как важно ему быть в Петербурге: "Я решился, пробыв здесь (в Новоспасском - С.Ф.) несколько недель, снова отправиться в нашу столицу, но не для пагубных наслаждений разврата, а с твердым намерением как можно скорее окончить нашего "Руслана". Никогда обстоятельства не были благоприятнее - театр весь к моим услугам и я могу разучивать и пробовать написанное по желанию или, лучше, с уверенностью везде найти ревностное содействие. Петровы (оба) поют чрезвычайно хорошо. Мое здоровье также не позволяет мне избрать другого местопребывания: пособия врача необходимы".
Петербург неизбывно присутствует в жизни Глинки как особый культурный персонаж. За границей, то с чувством гордости за свое отечество, то с огорчением, он сравнивает с Петербургом другие города, например, Неаполь - "Неаполь, несмотря на чудесную красоту местоположения, мне antipatico - отчасти по некоторому сходству с ненавистным мне Петербургом"; "Не знаю почему, но мне всё кажется, что я в Петербурге. Стройный вид чисто окрашенных домов, множество мундиров (к которым глаз мой никак не хочет привыкнуть) сильно напоминает мне ненавистную для меня северную столицу нашу, где я страдал столько времени. В продолжение моего путешествия я не встречал еще места, которое бы для меня было противнее Неаполя".
Условия жизни в Париже определяются им в сравнении с Петербургом: "...Я уверен -, что в Париже я буду спокойнее, нежели в этом омуте - Петербурге"; "Зная заграничные цены, я могу утверждать, что в Париже истрачу меньше денег, чем в Петербурге...". Описывая Мадрид, он вновь вспоминает Петербург: "Наконец я в столице Испании - это Петербург в малом виде. Улицы широкие, тротуары как у нас, домы выкрашены точно так же, а движение, шум, множество войск, рабочих, все это в пространстве, занимающем не более 10 части Петербурга, почти превосходит Париж в этом отношении"; "Почти уже месяц как я в Мадриде, - это точно уголок нашего Петербурга". Петербург проникает в его творчество и задает особый тон в таких произведениях как, например, вокальный цикл "Прощание с Петербургом" или песня Баяна в интродукции оперы "Руслан и Людмила".
Все это свидетельствует о глубокой рефлексии, о мощных психологических напряжениях, связывающих Глинку с этим городом. Переживая в Петербурге творческие взлеты и нравственные падения, он, как и Пушкин, формировал у себя особое внутренне противоречивое, но вместе с тем и органически целостное мировосприятие всего своего бытия.
Вероятно, именно этим обстоятельством объясняется поразившее когда-то Чайковского противоречие: как это Глинка - "дилетант, поигрывавший то на скрипке, то на фортепьяно, …вдруг на 34-м году жизни ставит оперу по гениальности, размаху, новизне и безупречности техники стоящую на ряду с самым великим и глубоким, что только есть в искусстве?" Далее Чайковский подчеркивает, что его "удивление еще усугубляется", когда он вспоминает, что "автор этой оперы ("Жизнь за царя" - С.Ф.) есть в то же время автор мемуаров, написанных 20-тью годами позже. Автор мемуаров производит впечатление человека доброго и милого, но пустого, ничтожного, заурядного. Меня, - продолжает Чайковский, - просто до кошмара тревожит иногда вопрос как могла совместиться такая колоссальная художественная сила с таким ничтожеством...".
Однако эти противоречия могут быть сняты, если принять во внимание то, как в условиях николаевского Петербурга в русской литературе этой эпохи вырабатывался жутковатый мир призрачной "фантастической" действительности, а вместе с тем и особый характер ядовитой иронии, насмешливого противостояния условностям официального режима. Это была своеобразная, именно Петербургу свойственная, защита от уродливого воздействия этого города.
Так и Глинка, с одной стороны, ерничая в "Записках", поражая явным шутовством описания своей жизни и неумеренными подробностями своих физиологических состояний, с другой, предстает в письмах тонким аналитиком, блестящим психологом и демонстрирует высочайший уровень интеллекта в концепциях и масштабах своего творчества, в сложнейшем технологизме своих сочинений.
Столь же показательны в этом плане и многие "странные сближения" в жизни и творчестве Глинки. В частности, его жест в момент последнего прощания с Петербургом нисколько не отделим от особого трепетного отношения к своей родине. Согласно воспоминаниям сестры, Глинка, плюнув, сказал: "Когда бы мне никогда более этой гадкой страны не видать". Однако, и этот жест, и многие свидетельства его показной нелюбви к России и к ее столице нисколько не умаляет проявлений его подлинного патриотизма и высочайшего служения этой же стране. Это можно почувствовать даже в некоторых оттенках вызова и гордости, с которыми он говорит о репертуаре своего концерта, предполагаемого в Париже в 1845 году: "...я решился предстать пред здешней публикой с пьесами, написанными в России и для России...".
Работа над сочинением "Жизни за царя" проходила в условиях обострившегося тогда интеллектуального беспокойства и любопытства русского общества по отношению к своей истории. Высочайшее напряжение этого любопытства стоит увидеть в факте публикации "Первого философического письма" П.Я. Чаадаева в сентябрьском номере московского журнала "Телескоп" за 1836 год (ведь не раньше и не позже!) и в откликах на него - вспомним хотя бы пушкинский ответ Чаадаеву. Именно в этом контексте и в русле античаадаевской полемики постановка "Жизни за царя" в ноябре того же года занимает особое место.
В этом общем контексте особым образом высвечиваются выбор Глинкой исторической темы для первой своей оперы и особая тщательность проработки им хронологических реалий ее воплощения в опере, глубоко нравственная позиция в решении национального вопроса в опере и высокий пафос патриотизма в ее исторической концепции, и, наконец, роль в ее драматургии глубинно существующих в русском национальном историческом сознании, самосознания, а может быть, точнее - подсознании - национальных культурных мифологем.
С этого момента Глинка в основном уже не теряет наметившегося напряженного особой общественной значимостью тона в обращении к публике или к коллегам музыкантам. Едва ли не каждое из них можно рассматривать как своего рода художественный манифест (послание потомкам).
Важно также и то, что Глинка формировался как личность и творил свою первую гениальную оперу как раз в эпоху начального становления идей "петербургского текста".
Таким образцом в "Жизни за царя", в частности, может служить многоуровневый характер ее содержательности. С одной стороны публике представлен довольно простой сюжет из русской истории, снабженный некоторыми домыслами частного биографического характера в жизни ее героев. Вместе с тем, это и историкофилософская концепция, и высокая трагедия, в которой герой жертвует жизнью ради великих идеалов государственности, нормативов чести в служения своему господину и, наконец, ради семейного счастья. В известной степени, опера носит и автомифологический характер, ибо отражает матримониальные устремления Глинки в момент ее сотворения, прославляя идеи брака, верности и семейного счастья.
Не вызывает сомнений, что это творение Глинки следует расценивать и как некое зашифрованное и понятное только избранным обращение к современникам - музыкантам-профессионалам, в котором композитор выдвинул целый ряд художественно-творческих манифестов. В частности, музыкально-драматургических идей: "противупоставления", как говорил Глинка, русской музыки польской; высочайшего технологизма в сочетании итальянской вокализации, немецких форм контрапункта и сонатности с "условиями нашей музыки"; изначальной разработки музыкальных сцен, и последующей подтекстовки их согласно фонематическим установкам композитора...
В целом, именно благодаря наличию всех этих элементов, эта опера образует необычайно напряженный драматургический организм, создание которого было бы невозможно вне условий или принципов действия "петербургского текста". В результате Глинка создает своей первой оперой грандиозное послание потомкам - образец, если не для прямого подражания, то, по крайней мере, для соревнования.
Просматривая сквозь призму "петербургского текста" жизнь и творчество Глинки, можно сказать, что он был одним из ярчайших представителей того поколения русской интеллектуальной элиты, которая жила в атмосфере повышенной чуткости к постоянной творческой созидательной игре, как основному способу противостоять уродливым условиям русской обыденной действительности николаевской эпохи. Созданная им "петербургская" модель музыкантского бытия оказалась принципиально новой по отношению к его предшественникам, но весьма близкой его потомкам: Мусоргскому, Чайковскому, Шостаковичу и другим.
Список используемой литературы
1. Асафьев Б.В. Симфонические этюды. Л., 1970. С. 158-159.
2. Вяземский П.А. Записные книжки. М., 1963. С. 24.
3. Глинка Е.А. (Глинка М.И. Литературные произведения и переписка. Т. II а. М., 1975. С. 31-32).
4. КисилевЛ.Н. Становление русской национальной мифологии в николаевскую эпоху (сусаниновский сюжет) file://Лотмановский сборник. - Изд. РГГУ. М., 1997. С. 280).
5. Топоров В.Н. Петербург и "Петербургский текст русской литературы" (Введение в тему) file://В.Н.Топоров. Петербургский текст русской литературы: Избранные труды. СПб., 2003. С. 8.
6. Фролов С. В. Глинка и музыкальная культура Петербурга http://www.nasledie-smolensk.ru/pkns/index.php?option=com_content&task=view&id=1375&Itemid=96
7. Фролов С. В. Еще раз о том, за что Салтыков-Щедрин невзлюбил Стасова // Музыкальная Академия. 2002. № 4;
8. Фролов С.В, Глинка и его дело // Южно-Российский музыкальный альманах. Вып. 1. Ростов-на-Дону, 2005.).
9. Шестакова Л.И. Последние годы жизни и кончина Михаила Ивановича Глинки (Воспоминания сестры его Л.И.Шестаковой) 1854-1857//М.И.Глинка и его "Записки". М.-Л., Academia, 1930. С. 402).