© 2017 726 2


СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ
Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно
Скидки до 50 % на комплекты
только до
Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой
Организационный момент
Проверка знаний
Объяснение материала
Закрепление изученного
Итоги урока

Юрий Сергеевич Пернатьев 200 мифов народов мира
Мифы – это сокровища мировой культуры. Знакомство с ними поможет глубже понять историю многих народов. Узнайте, каким богам и героям поклонялись древние шумеры, египтяне, греки, римляне, китайцы, японцы, кельты, скандинавы, славяне, ацтеки, жители Австралии! Боги и герои Древней Греции: рождение олимпийцев, подвиги Геракла, разрушение Трои, странствия Одиссея и др. Сказания наших предков‑славян: появление бога Рода, бел‑горюч камень Алатырь, борьба Перуна и Скипер‑зверя, козни Чернобога, Коляда и Кощей. Мифы Древнего Египта: вознесение Ра на небеса, гибель и возрождение Осириса. Предания Древней Индии: деяния Индры, сражение богов и асуров. Скандинавский эпос: боги Асгарда и др. Кельтские легенды о рыцарях Круглого стола, Мерлине и короле Артуре. Шумеро‑аккадская мифология: путешествие Иштар в царство мертвых, сказания о Гильгамеше и др.
Просмотр содержимого документа
«Юрий Сергеевич Пернатьев 200 мифов народов мира»
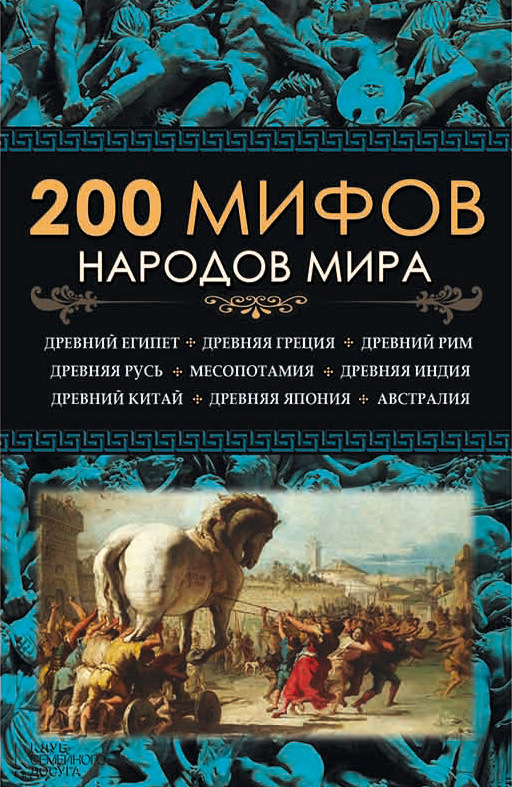
Текст предоставлен правообладателем http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6980261&lfrom=202213444
«200 мифов народов мира / сост. Пернатьев Юрий Сергеевич»: «Книжный клуб“Клуб семейного досуга”»; Белгород, Харьков; 2014
ISBN 978‑966‑14‑7416‑0
Аннотация
Мифы – это сокровища мировой культуры. Знакомство с ними поможет глубже понять историю многих народов. Узнайте, каким богам и героям поклонялись древние шумеры, египтяне, греки, римляне, китайцы, японцы, кельты, скандинавы, славяне, ацтеки, жители Австралии! Боги и герои Древней Греции: рождение олимпийцев, подвиги Геракла, разрушение Трои, странствия Одиссея и др. Сказания наших предков‑славян: появление бога Рода, бел‑горюч камень Алатырь, борьба Перуна и Скипер‑зверя, козни Чернобога, Коляда и Кощей. Мифы Древнего Египта: вознесение Ра на небеса, гибель и возрождение Осириса. Предания Древней Индии: деяния Индры, сражение богов и асуров. Скандинавский эпос: боги Асгарда и др. Кельтские легенды о рыцарях Круглого стола, Мерлине и короле Артуре. Шумеро‑аккадская мифология: путешествие Иштар в царство мертвых, сказания о Гильгамеше и др.
Понятие «миф» имеет множество толкований, но обычно под мифом подразумеваются истории о богах, духах, перевоплощениях и героях, живших и творивших в начале времен и участвовавших в создании самого мира и его устройстве. И все же более точный смысл заложен в понятии «мифология» («логос» – изначальное, первородное, божественное слово).

По сути, миф – это срез родовой человеческой памяти и о прошлых веках, и о деяниях предков, и даже воспоминание о том, как зарождалась жизнь на земле. Например, несмотря на временны΄е, исторические, культурные и ментальные различия древних стран и народов, у них много общего в мифах о происхождении Вселенной, о деяниях богов и подвигах героев.
При знакомстве с преданиями древности первое, что можно увидеть – их монументальность и величие, которые мирно уживаются с приметами обыденности и будничности в поведении и устремлениях персонажей историй. Нередко боги, призванные совершать подвиги во имя созидания, походят на обычных горожан или селян, обремененных повседневными заботами. Правда, в любых ситуациях возможности и способности божеств не сравнимы с присущими простым людям.
Разнообразие и разноцветье красок, волшебство поэтического склада, настоящий психологизм в отношениях – вот что притягивает нас в древних легендах, позволяя на какое‑то время почувствовать себя наследниками великих эпох.
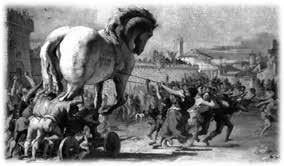
В предлагаемой читателям книге собраны наиболее популярные и значительные предания древних времен. Разумеется, это лишь малая их часть, но и она дает представление о том колоссальном наследии, которое спустя тысячелетия восхищает метафоричностью образов, богатством сюжетных линий и удивительной жизнестойкостью наших далеких предков, как смертных, так и божественных.
Шумеро‑аккадская мифология – система религиозных представлений древнейшей из известных цивилизаций, располагавшихся на территории Междуречья (долины рек Тигр и Евфрат) и развивавшихся с IV по II тыс. до н. э. Северное Междуречье занимал Аккад, а Южное – Шумер.
Практически все мифологические линии были созданы шумерами. Аккадцы лишь заимствовали их, но при этом внесли новое звучание, динамичность и даже некий психологизм. Поэтому большинство мифов Междуречья существует в разных версиях – иначе говоря, вслед за шумерами их мифы по‑своему пересказывали аккадцы, ассирийцы и вавилоняне.
Дошедшие до нас мифы шумеров и аккадцев повествуют об устройстве мира, рождении богов, их страстях, ссорах и интригах, благословениях и проклятиях, созидательных и разрушительных деяниях. Лишь изредка клинописные тексты сообщают о борьбе за власть между богами, но даже в этих случаях соперничество не бывает ни ожесточенным, ни кровопролитным.
Самые ранние мифологические литературные тексты – гимны богам, пословицы, некоторые мифы (например, об Энлиле) – обнаружены во время раскопок древних поселений Фара и Абу‑Салябих. От времени правления лагашского правителя Гудеи (ок. III в. до н. э.) дошли строительные надписи, дающие важный материал, касающийся культа и мифологии. Но главная часть шумерских текстов мифологического содержания относится к старовавилонскому периоду – времени, когда шумерский язык вытеснялся аккадским, но вавилонская традиция еще сохраняла свою систему преподавания.
До настоящего времени не обнаружено ни одного шумерского мифа, который бы непосредственно был посвящен сотворению мира. То немногое, что известно о шумерских космогонических идеях, построено на умозаключениях и выводах из кратких замечаний, содержащихся в разных письменных памятниках. Зато известно немало мифов, посвященных устройству мира и его культурному движению, сотворению человека и основанию цивилизации.
Божества, участвующие в этих мифах, сравнительно немногочисленны: бог воздуха Энлиль, бог воды Энки, богиня‑мать Нинхурсаг (известна также под именами Нинмах и Нинту), бог южного ветра Нинурта, бог луны Нанна‑Син, бог кочевников Марту и главным образом богиня Инанна, особенно во взаимоотношениях с ее неудачливым супругом Думузи.
Наиболее важным божеством шумерского пантеона, конечно, был Энлиль – «отец богов», «царь неба и земли», «царь всех стран». Согласно преданию, он отделил небо от земли, взрастил из земли «семя полей», произвел на свет «все полезное», изобрел для возделывания земли и для строительных работ мотыгу и даровал ее «черноголовым» (то есть шумерам или, возможно, человечеству в целом).
Разумеется, общин в Междуречье Тигра и Евфрата было больше, чем главных богов и богинь. Поэтому мифы имели, как правило, единую основу, но пересказывались по‑своему. Кроме того, в разных общинах одни и те же боги имели собственных предков. Им приписывались подвиги, относившиеся именно к данной общине, а не ко всем шумерам и аккадцам – двум народностям, различным по языку, но близким по хозяйству и организации. При этом одни и те же боги в соседних шумерских и аккадских общинах назывались по‑разному. Так, у шумеров богиня любви и плодородия называлась Инанна, у аккадцев – Иштар, солнечным божеством у шумеров был Уту, а у аккадцев – Шамаш и т. д.
Шумеро‑аккадские мифы и сегодня читаются с интересом, поскольку позволяют ощутить колорит эпох, которые давно канули в вечность, но продолжают манить своей загадочностью и удивительной гармонией человека и мира.
Как повествует предание, когда‑то небеса и земля были едины, и в этой первобытной стихии не было ничего – ни травы, ни деревьев, ни рыб, ни зверей, ни людей. Земля и небо представляли собой подобие горы в пространстве, заполненном вечными водами дочери океана Намму – праматери всего сущего. Но однажды поднатужилась Намму и произвела на свет сына Ану и дочь Ки. Поселила она их раздельно: Ану на вершине горы, а Ки – внизу, у ее подножья. Когда дети выросли, стали они по воле Намму мужем и женой. И родила Ки владыку Энлиля, наполнившего дыханием жизни весь окружающий мир.

Боги Энки, Уту и Инанна. Оттиск печати аккадского времени. III тыс. до н. э.
Затем Ки произвела еще семерых сыновей, семь могучих стихий, без которых не было бы света и тепла, влаги и цветения. Прошло время, и родились у Ану и Ки младшие боги, помощники и слуги. Им дали имя Ануннаки.
Вскоре потомство Ану и Ки стало настолько многочисленным, что отец богов Ан решил расширить обиталище своих подданных. Для этого он призвал первенца Энлиля и сказал:
– Стала тесна гора для тебя, твоих братьев и сестер. Давай оторвем вершину и разделим гору на две части.
Разорвали отец и сын гору. Ан поднял вершину вверх, а Энлиль опустил плоское подножье вниз. Так появилось небо в виде огромного свода, а ниже – земля в виде обширной тверди с множеством гор и ущелий. Ан избрал себе небо, а землю передал в наследство сыну.
Стал неутомимый Энлиль носиться над дарованной землей, проникая взором в самые дальние концы и наполняя ее дыханием жизни. Его братья и сестры осветили и согрели землю. Решив ее заселить, они сказали Энлилю:
– Определи нам место, где бы мы могли жить вместе в мире и согласии.
Порадовался такому желанию Энлиль и соорудил город в самом центре земной тверди, дав ему имя Ниппур. А еще дал Энлиль городу законы, строго следя за тем, чтобы никто их не нарушал.
Убедившись, что Ниппур благословен, а его обитатели справедливы, Энлиль решил и сам обжиться на новом месте. Он построил себе высокий помост, воздвиг на нем дом из лазурита – обитель с вершиной до середины небес.
В то время жила в Ниппуре сестра бога Ану, старица Нунбаршегуну вместе с прекрасной дочерью Нинлиль. Знала женщина, что молодые горожане с восхищением следят за девушкой, а потому всячески оберегала ее от чужих глаз. Но красавица была необычайно упряма и однажды таки настояла, чтобы наставница разрешила омыться в прозрачных водах горного ручья.
– Иди, дочь моя, – сказала Нунбаршегуну. – Только знай, что на цветущий луг за Ниппуром может спуститься из храма сам Энлиль. Если увидит тебя огнеокий бык и предложит любовь, не соглашайся, скажи ему: «Я еще слишком молода. Еще не созрели груди мои и уста мои не знают поцелуев».
Все случилось так, как предвидело и чего опасалось материнское сердце. Увидев Нинлиль, Энлиль не замедлил спуститься вниз. Когда же божественная дева не уступила вспыхнувшей страсти, он удалился, сделав вид, что примирился с отказом. Но когда на следующий день Нинлиль снова явилась омыться, Энлиль, притаившийся в камышах, налетел на нее, бросил на дно челна и насытился невинной красотой.
Узнали о том старшие боги и, вознегодовав, решили на своем совете изгнать насильника в подземный мир. Пришлось Энлилю подчиниться суровому решению. За ним последовала и Нинлиль, успевшая привязаться к своему супругу. В толщах земли родила Нинлиль первенца Нанну, будущего бога луны, которому суждено было подняться на небо, чтобы являть смертным божественную смену времен.
Вскоре молодые возвратились на небо и жили в уединении, стараясь как можно меньше общаться со смертными. Энлиля раздражали их шумные толпы, и в своем гневе он обрушивал на людей различные бедствия. Редко удавалось кроткой Нинлиль усмирить гнев огнеокого быка. Оттого часто страдали люди от чумы, засухи, потопов и многих иных напастей.
Когда небеса отделились от земли, умножилось племя небожителей и не стало хватать им пищи. Отчаявшись, боги воззвали к праматери Намму с просьбой помочь утолить голод. Намму тут же разбудила бога Энки, хозяина океана пресных вод:
– Проснись, сын мой! Избавь богов от терзаний!
– Я сделал все, что было в моих силах, – ответил недовольный Энки. – Я и так утомился от трудов, а у моих братьев и сестер на уме лишь пиры да развлечения.
– Нет! Всего ты не сделал, – возразила мудрая Намму. – Ты не сотворил помощников, которые взяли бы на плечи наши заботы.
– Каких еще помощников? – удивился Энки.
– Людей! – ответила Намму. – Пусть они будут по виду похожи на братьев твоих, но бессмертия не знают.
– Из чего же я их сделаю? – спросил Энки.
– Да хоть из моей плоти, – ответила Намму. – Я отделю ее от себя, насыплю на землю рядом с водой. А лепить людей тебе поможет богиня Нинмах. Она омочит руки в воде, часть моей плоти отщипнет и вылепит творенья. А ты уж распорядись ими как следует.
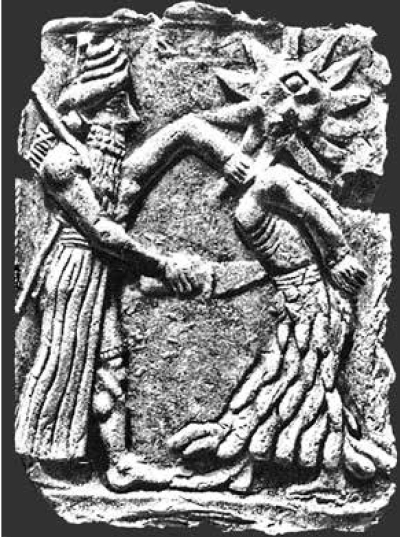
Битва богов. Оттиск печати. III тыс. до н. э.
Первой согласилась Нинмах.
– Я сделаю то, что ты просишь, – проговорила она. – Но как узнать, хорошо или нет создание и какую судьбу ему назначить?
– А вот судьбу мы сами и определим, – ответил Энки.
Загоревшись великой мыслью, решил хозяин вод устроить богам пир в честь будущего сотворения человека. Много вина было выпито во время торжества. Нинмах и Энки отдохнуть бы от хмельной вечеринки, но они тут же решили приступить к осуществлению задуманного. Ничего хорошего из этой затеи не могло получиться.
Намочила Нинмах руки в воде, отщипнула кусок глины. И задвигались быстрые пальцы, создавая подобия богов. Голова же богини кружилась, а земля ходила ходуном, потому и фигурки выходили совсем не такие, какими задумывались. Вот возникает первое подобие человека. Руки его слабы, ни согнуться, ни взять ничего не могут. Второй вышел подслеповатым, а третий и вовсе с кривыми ногами. Видит Нинмах, что получаются какие‑то уродцы, и вознамерилась было уничтожить всю работу. Но Энки уже успел дать сотворенным существам вкусить хлеба.
– Пусть будут такие, как есть! – сказал он. – Да будет первый стражем дворцовым, второй же певцом станет, третий – серебряных дел мастером.
Затем вылепила Нинмах еще одну пару людей, а затем и третью. Со второй попытки Энки удалось слепить человека с двумя руками и двумя ногами. Но были его ноги тонки, как тростинки, живот вздут, спина сгорблена.
Обрадовавшись, что получился человек, Энки обратился к Нинмах:
– Назначь этому человеку судьбу, чтобы он мог добывать себе пропитание.
Нинмах рассмеялась:
– Какая может быть судьба у такого калеки! Видишь, у него дрожат руки и трясется голова.
С этими словами она подошла к человеку и поднесла ему хлеб. Но он вовсе не мог его взять.
– Не живой это человек, – сказала Нинмах. – Нет ему на земле назначения.
– А вот я думаю, что нашел назначение для этих фигурок! – вскипел Энки.
Так между Нинмах и Энки разгорелась ссора. Много они наговорили друг другу обидных слов. Но женщина, даже если она богиня, всегда старается оставить за собой последнее слово. И Нинмах сказала:
– Наверное, не будет тебе, Энки, места на небе и на земле. Уйдешь ты в земные глубины и не увидишь света.
И все же Энки выполнил до конца свою миссию. Но для этого ему пришлось немало потрудиться.
Если отец богов Ан создал жизнь на земле, то Энки, сын богини Намму, ее упорядочил. До него земля была покрыта непроходимыми чащами и болотами – ни пройти по ней, ни проехать. Не было никакого спасения и от змей со скорпионами. Кроме того, стаи свирепых зверей рыскали повсюду, загоняя смертных в мрачные пещеры.
Став за плуг, Энки выкорчевал кустарник, провел по земле первые борозды и засеял их зернами. Для хранения урожая соорудил закрома, наполнил Тигр и Евфрат животворной водой. Берега засадил тростником, воды заполнил рыбой. Затем занялся морем и заботу о нем поручил божественному надзирателю.
Горные пастбища Энки отдал во власть царя гор Сумукана, скот пасти поручил богу‑пастуху Думузи. Женщин Энки обучил выводить из шерсти овец нить и сплетать ее в ткань, после чего поручил наблюдать за их трудом богине Утгу. Ублажил Энки и богиню Инанну, наделив ее любовью к битвам и способностью привлекать к себе мужчин.
Заметив, что люди лучше ухаживают за тем, что принадлежит им самим, Энки провел между участками земледельцев межи, наметил границы между городами. А чтобы люди не были похожи на зверей, Энки создал установления и записал их в скрижалях, которые должны были строго почитаться. Шумеры назвали эти установления «ме». Обладание «ме», согласно правильному пониманию, означало пользование всей полнотой власти. Эти священные записи Энки предусмотрительно оставил у себя, дабы люди не возвысились и не возомнили себя богами.
В те времена, когда боги делили между собой первозданную землю, пребывала в пространстве страна Дильмун, окруженная водами бездны. В этой стране не слышался пронзительный крик зловещей птицы – вестницы смерти, не крался свирепый лев, не склевывали птицы рассыпанных на крыше зерен, не знал человек болезней и старости, не звучал плач за городской стеной.

Богиня‑мать. II тыс. до н. э.
Вот эту прекрасную землю Энки подарил своей супруге по имени Нинхурсаг.
Возлег в Дильмуне Энки рядом с богиней, и она сказала:
– Вот дал ты мне прекрасную страну, а что мне в этом подарке? Ведь нет воды в каналах, в колодцах же вода горька. Не растут на полях злаки и не пристают к берегам корабли.
Тогда Энки приказал солнечному богу Уту сойти с небес и наполнить каналы пресной водой. Тут же вода в колодцах из горькой превратилась в чистую, свежую и сладкую. Стала страна Дильмун зеленым садом, а безжизненные пески превратились в изумрудные поля и цветущие луга.
Выросли кусты и деревья, а на них запели сладкоголосые птицы. К пристани Дильмуна стали причаливать корабли с драгоценными грузами. Страна Тукриш прислала золото и светлый лазурит, страна Мелухха – драгоценный сердолик, страна Мархаши – горный хрусталь, страна Маган – крепкую медь, страна Элам – тончайшую шерсть, священный город Ур – зерно, масло и наилучшие ткани.
Обрадовалась Нинхурсаг и приняла семя Энки. Каждый день ее беременности был равен месяцу: девять дней – девять месяцев материнства. Вскоре родила матерь страны госпожу‑растение Нинсар и на берегах реки взрастила ее. Увидел Энки Нинсар и затаился в болотах, прельстившись ее юной красотой. Выйдя на берег, он познал Нинсар, и та приняла его семя.
Словно по нежнейшему маслу Нинсар родила Нинкур и на берегах реки взрастила ее. Увидел Энки Нинкур и затаился в болотах, прельстившись ее красотой. Выйдя на берег, он познал Нинкур, и приняла она его семя.
В очередной раз родила Нинкур Утту. И она приглянулась Энки. Велел он садовнику принести абрикосы, спелые огурцы и янтарный виноград в гроздьях. Получив дары, Энки пришел к дому Утту и представился хозяйке садовником. Обрадованная Утту с радостью приняла щедрые дары. Опьянел Энки при виде Утту и, бросившись к ней, осыпал поцелуями. Затем возлег, чтобы она приняла его семя.
Но тут появилась Нинхурсаг. Собрала она семя Энки и восемь трав из него взрастила – лесную, медовую, садовую, целебную и множество других.
Узнав о таинственном превращении, стал Энки спрашивать, что за травы выросли. Услышав ответ, начал он срезать одну траву за другой и с удовольствием их поедать, решая судьбу каждой. Увидела Нинхурсаг, что Энки съел все восемь растений, и в ярости воскликнула:
– Глаза мои его больше не увидят! – и покинула Дильмун.
Только после ее ухода ощутил Энки сильную боль во всем теле. А вместе с ним страдал весь мир, страдало и все живущее. Тогда понял Энки, что никто не сможет помочь ему, кроме Нинхурсаг. Послал он за ней всех зверей, но не смогли они ее отыскать. Страдания Энки усиливались, а это означало, что мир мог оказаться в опасности. Но вот лиса, самая ловкая из зверей, сказала Энки:
– Если я верну тебе Нинхурсаг, чем ты меня наградишь?
– Я для тебя посажу дерево, а имя твое прославлю.
Почистила лиса свою шкурку, помчалась к Нинхурсаг. Неведомо как, но все‑таки сумела вернуть ее в Дильмун. Посадила Нинхурсаг страдальца на свое лоно и стала спрашивать:
– Где источник твоей болезни, мой возлюбленный супруг?
И каждый раз, когда ей отвечал Энки, помогала супруга появиться на свет волшебному целителю, изгоняющему хворь. Первым родился Абау – отец растений, затем один за другим появились и владыка волос, лечивший больные корни, и богини, лечившие нос, рот, горло, руки, ребро.
Исцелив Энки, сказала Нинхурсаг:
– А теперь определи судьбы порожденным мною детям.
И установил Энки каждому из новорожденных божеств его назначение. С этого времени господином страны Дильмун стал последний из рожденных богов – добрый Эншаг.
Инанна была богиней неба, любви, а также воинским и звездным божеством, символ которого – звезда Венера. Она считалась дочерью бога неба Ану, сестрой богини подземного царства Эрешкигаль и солнечного бога Уту.
В давние времена Инанна обратила свои мысли к тому, чтобы прославить и облагодетельствовать «город черноголовых» Урук. Узнав, что владыка Вселенной Энки хранит у себя «ме» (законы жизни), она решила добыть их и доставить в Урук.
Нарядившись, Инанна отправилась в путь. Увидев ее, Энки позвал служителя Исимуда и приказал:
– Накрой стол, поставь чаши, сосуды с пивом и ячменными лепешками и пригласи девушку.
Сели Энки и гостья за стол. Съела Инанна лепешку и запила ее водой. Энки же выпивал один сосуд пива за другим. Дождавшись, когда господин захмелеет, попросила у него Инанна скрижали «ме».
– Ничего мне для тебя не жаль! – сказал Энки и передал Инанне все сто законов «ме».
Дождавшись, когда Энки заснул, Инанна погрузила свою добычу на небесную ладью и отплыла в милый ее сердцу Урук. Между тем Энки пробудился и, подняв голову, не нашел «ме». Не помня о вчерашних возлияниях, он призвал Исимуда и, к ужасу своему, узнал, что собственноручно отдал «ме» Инанне.
– О Исимуд! – сказал Энки. – Отправляйся с семью морскими демонами (лахама) в погоню и отними у Инанны небесную ладью и то, что в ней лежит.
Догнал Инанну Исимуд и приказал богине оставить небесную ладью. Стала сетовать Инанна на то, что Энки нарушил свое слово, призвала в свидетели богов. Но Исимуд ни за что не хотел ее слушать. Он приказал демонам сбросить богиню с ладьи.
Тогда обиженная Инанна призвала своего служителя Ниншу, чья рука тверда и чьи ноги не ведают усталости. Явившись на призыв госпожи, Ниншу отогнал демонов, семь раз пытавшихся отнять у богини небесную ладью. После этого Инанна продолжила свой победный путь и наконец пристала к Уруку. Весь город с ликованием вышел ей навстречу.
Жил в священном Ниппуре сын Энлиля Нинурта – бог ураганного южного ветра. И владел он оружием по имени Шарур, чей блеск вызывал у противников смертельный ужас. Однажды Шарур обратился к Нинурте:
– Господин, в горах обитает злой дракон – порождение Куру, страны, что не знает возврата. Асаг ему имя. Сразимся с Асагом, одолеем его и добудем славу!
Полетел Нинурта в горы, но, увидев силу Асага, отступил, хотя и не робок был сердцем. Снова Шарур призвал своего господина к мужеству, обещая непременную победу. И вновь полетел Нинурта в горы против Асага. Он двигался в шуме ветра, в грохоте и блеске молний. Дрожала земля, но и Нинурта не отступал. Изловчившись, нанес удар Асагу и сокрушил его.

Кудурру (межевой камень) Мелишипака из Суз. Символы богов шумеро‑аккадского пантеона. XII в. до н. э.
Тогда Куру, страна, породившая Асага, решила отомстить победителю. На славный город Нинурты обрушились ядовитые воды смерти, залили они землю, преградив путь всякой жизни. А затем на страну обрушился голод, не щадивший никого. И вновь пришел Нинурта на помощь. Из камней он построил стену, преградившую путь водам смерти, впустил животворные потоки, и полилась вода по каналам. Взрыхлили мотыги землю, упали в нее семена и прикрылись влажной почвой. Ушла печаль из страны, возликовали небесные боги. Явилась к Нинурте богиня‑мать Нинмах, восхищенная подвигом героя. К ней Нинурта обратился с такими словами:
– Слава тебе, госпожа, за то, что ты решилась посетить мои земли, не испугавшись битвы. Холм, на котором я стою, отныне станет твоей горой, и ты будешь его повелительницей.
В роковой час и не по своей воле пришлось богине Инанне покинуть землю и уйти с великих небес в подземное царство. Оставила она семь храмов в своих городах и унесла от смертных семь своих тайн. Вместе с богиней ушел и Ниншубура – ее посол и визирь, глашатай ее желаний. Сказала ему госпожа:
– Слушай меня, Ниншубура. Как только я скроюсь, ты подними жалобный плач на могильных курганах. В клочья изорви одежду и обойди жилища великих богов. Прежде всего зайди к Энлилю и молви, упав на колени: «О владыка, не дай погибнуть в подземном мире Инанне, дочери твоей. Не разреши серебру твоему, взор ослепляющему, пылью покрыться». Если же владыка ветров тебе не откроет, спеши к мудрому Наине, владыке всех знаний. Не поленись ему повторить, что говорил Энлилю. Если и он ничего не скажет, то иди к Энки, великому владыке земли, и повтори ту же мольбу. Теперь же простимся: пути наши здесь разойдутся.
Подошла Инанна к горе из лазурита. Но нет ей входа – на семь засовов заперты ворота. Кричит богиня:
– Откройте!
И спрашивает привратник:
– Звезда Восхода, зачем явилась в страну Заката?
– Свою сестру мне надо видеть.
– Тогда, Инанна, снимай скорее корону. В подземном мире свои законы.
Сняла богиня корону, и стало меньше одним засовом.
Суров привратник. Ждет от богини новых жертв, чтобы лишить ее магической силы.
Сняла Инанна все облачения и наряды. Обнажила тело, сиявшее женской красотой. Вошла в пещеру, склонилась перед троном своей сестры Эрешкигаль. Рядом на судейских креслах сидят семеро Ануннаков, семеро судей, покорных ее слову.
От смертельного взгляда сестры отошел дух Инанны, а тело ее было брошено на крюк рядом с трупами смертных.
В это время Ниншубура, визирь Инанны, плачем исходил на небе, в горе и страдании царапал щеки и тело, созывал народ, обходил храмы, умоляя о помощи. Но лишь владыка Энки отозвался на его стенания. Из ногтей, не покрытых краской, он выскреб грязь и сделал из нее некое существо – кургар. Из ногтей же, покрытых краской, он выскреб иную грязь, из которой слепил другое существо – калатур. Водрузил он уродцев на ладони, дал наставления, как вести себя в мире подземном, и отпустил со словами:
– Летите, кургар с калатуром, и без Инанны, дочери любимой, не возвращайтесь!
Помчались кургар с калатуром на крыльях мушиных, славя того, кто из грязи их вынул. В подземные ворота влетели с такой быстротой, что даже недремлющий страж не успел их заметить. Влетев в тронный зал, посланцы увидели корчившуюся от боли Эрешкигаль. Боль эта поразила богиню в тот самый миг, когда богиня любви Инанна ушла из мира земного.
И сказали кургар с калатуром:
– Мы можем помочь тебе, Эрешкигаль.
– О, если можете, изгоните боль из утробы.
– Можем, владычица! – воскликнули оба посланца. – Позволь только приблизиться к телу на крюке.
– Берите, только скорее меня избавьте от мук!
Поднатужившись, кургур с калатуром сорвали тело Инанны. Живой водой омыли, травой живой, которую дал Энки, протерли. И задышала богиня, поднялась, зашагала к воротам, не проронив ни слова.
Но тут подоспели Ануннаки.
– Не торопись, Инанна, – сказали они богине. – Коль хочешь возвратиться в мир, где тебя ждут боги, должна оставить выкуп – душа за душу. Свитой твоей станут демоны смерти, им и назовешь замену.
Вышла Инанна, а за ней – демоны. Первым Инанну встретил благородный Ниншубура. Увидев Инанну живой, он, возрадовавшись, повалился ей в ноги. Но демоны тут как тут.
– Его мы возьмем как выкуп, Инанна, – сказали они богине.
– Нет, – сказала богиня. – Этого не возьмете. Он из подземного плена открыл мне дорогу к жизни.

Борьба крылатого гения с крылатыми быками. Оттиск печати ассирийского времени. I тыс. до н. э.
Демоны отступили:
– Что ж! Назови нам другого.
В славном городе Уре встретил Инанну Шара, почитавшийся богом. Пред ней тоже упал на колени. А демоны за свое:
– Давай нам этого, богиня, тогда мы оставим тебя в покое и ты сможешь вернуться в город.
– Нет! – сказала Инанна. – Этого не возьмете. Песен он много знает. Расчесывая мне кудри, он всегда напевал ласковые песни.
Демоны отступили:
– Что ж, назови нам другого.
После троекратного выбора вступила наконец богиня в город Кулаб, чтобы встретиться со своим супругом Думузи. Но что она видит? Сидит Думузи на троне, облаченный в пышные одежды, а на его голове – царская корона.
Увидев Думузи, присвоившего себе царский трон, разгневалась богиня и без промедления обратила на своего любовника страшный взгляд смерти. Испугался самозванец и сбежал из дворца, укрывшись у своей сестры Гештинанны. Теперь уже его, незадачливого владыку, преследуют демоны, требуя того самого залога. За брата уже была готова сойти в подземный мир сама Гештинанна, но Инанна объявила свой приговор: Гештинанна и Думузи должны поочередно делить свою судьбу в потустороннем царстве.
Влюбилась однажды прекрасная богиня Иштар в юного красавца Думузи, сына бога Энки. Не могла жить без него ни дня и очень печалилась, когда он куда‑то отлучался. Как‑то раз отправился Думузи на охоту и не вернулся. От слуг, сопровождавших охотников, богиня узнала, что внезапно налетел страшный вихрь, Думузи упал, как надломленный тростник, и дух его угас.
Великая скорбь овладела богиней – но разве могла она примириться со смертью того, кто был ей дороже жизни! И вспомнила она о стране без возврата, о суровом обиталище мрака и подземного царства, хозяйкой которого была сестра Иштар богиня Эрешкигаль.
Надела влюбленная наряд, украсила кольцами запястья и лодыжки, перстнями – пальцы, уши – серьгами, подвесками – шею, обвила голову золотой тиарой и отправилась скорбной дорогой. Подошла Иштар к воротам, которые открываются только мертвым.
– Откройте! – воззвала богиня, ударяя по засовам. – Откройте, а не то обрушу ваши ворота, сломаю запоры и всех мертвых выпущу наружу.
Привратники услыхали шум и удивились – кто это мог быть? Ведь известно, что тени мертвых бесшумны и беспокойства страже не доставляют.
Крик услышала сама Эрешкигаль. В ярости она воскликнула:
– Кто там ко мне стучится, словно пьяница в дверь таверны? Надо же выпить столько хмельной сикеры!
– Это не пьяница, – почтительно промолвил страж. – Это богиня Иштар, твоя сестрица, она пришла за Думузи.
– Впусти! – приказала хозяйка подземного мира.
С громким скрипом открылись ворота. Предстала богиня Иштар перед стражем во всей своей красоте и скорби. Но привратник не дрогнул, лишь взглядом указал на тиару, которую надлежало снять перед входом в подземелье.
Сняла богиня царский символ, и снова пред ней оказались ворота, теперь уже медные. Богиня вручила второму стражу кольца и серьги. Когда же прошла седьмые ворота, предстала обнаженной среди душ, снующих в кромешном мраке, как летучие мыши. На ощупь пробиралась Иштар, натыкаясь на стены, скользкие от воды и слез, падала и снова поднималась.
С гордо поднятой головой предстала она перед царским троном и сказала хозяйке подземного мира:
– Верни мне, сестра, Думузи. Нет без него мне жизни.
Резко оборвала богиню Эрешкигаль:
– Такого закона нет, чтобы мертвым жизнь возвращать ради чьей‑то прихоти. Мало ли осталось юнцов? Пусть они и заменят Думузи.
– Думузи один, – возразила Иштар. – Прекрасному нет замены!
И тут Эрешкигаль обернулась к слуге своему Намтару, владыке болезней, и махнула рукой. И тут же поразили Иштар шестьдесят язв и шесть тысяч болячек.
Затихла земля без Иштар. Овладел землей холод, предвещавший распад жизни и победу могильного мрака. Боги, глядя на землю с небес, не узнали земную обитель. Всполошившись, послали гонца из верхнего мира в мир нижний с приказом:
– Иштар возвратить, а с ней и Думузи!
Как ни кипела яростью Эрешкигаль, как ни кричала, что нет возврата из царства смерти, пришлось ей смириться.
В тот день, когда Иштар вместе с Думузи ступили на землю, весна снова засияла. Птицы запели в ветвях, прославляя любовь и верность, жены вернулись к мужьям на брачные ложа. В храмах Иштар открылись настежь все двери. Ликующий хор голосов провозгласил:
– Думузи воскрес! Вернулся к любви Думузи!
Во времена правителя Лугальбанды случилась война между Уруком и страной Аратта. Поход на Аратту был трудным, поскольку воинам пришлось преодолевать неприступные горы Хуррум.
Страшны были эти горы даже для тех, кто родился в ущельях на берегах грохочущих рек. Для того же, чья родина – город между двумя равнинными потоками Тигра и Евфрата, они еще страшнее, особенно если у одного из воинов, да еще и предводителя похода, отнялись ноги и он не в силах идти дальше.
Не иначе враждебные духи этих гор, защищающие Аратту, наслали на могучего Лугальбанду болезнь, надеясь, что это остановит поход. Но духи не знали, с кем имеют дело. Поняв, что не может идти, Лугальбанда не стал задерживать войско. Призвав отца Энмеркара, он сказал:
– Оставьте меня, я выздоровею и догоню отряд еще до того, как воины достигнут Аратты.
Энмеркар знал слово сына и потому приказал воинству продолжать путь.
Лугальбанда долго смотрел товарищам вслед, пока они не скрылись за скалой. С невероятным усилием он перевернулся, чтобы встретиться взглядом с солнечным богом Уту, братом богини Инанны. «Должен же Уту увидеть меня, плененного злыми богами этих гор?! – думал Лугальбанда. – Ему наверняка под силу рассеять их невидимое воинство своими лучами‑стрелами!»
Но, увы, Уту не заметил больного воина, продолжив свой путь по бескрайнему небу.
Внезапно послышался шум крыльев. Подняв голову, Лугальбанда увидел над собой огромную львиноголовую птицу. Еще у себя в Уруке слышал он о крылатой фурии по имени Анзуд. Рассказывали о ее необычайной дерзости: Анзуд осмелилась похитить знаки власти и таблицы наставлений у самого Энлиля, чтобы стать могущественнее всех богов. По просьбе Энлиля его крылатый сын Нинурта настиг птицу в горах и пустил в нее стрелу, не дающую промаха. Стрела настигла воровку, но, обладая таблицами наставлений, Анзуд отыскала место, где давались советы пораженным стрелой, и ловко избежала божественной мести. Лишь с третьего раза Нинурта поймал Анзуд и отобрал у нее священные реликвии.
Не замечая Лугальбанды, птица летела к высокому дереву. С трудом поев, воин вскоре забылся сном. В туманном видении к нему явился Уту и объяснил, что он все видел и слышал, но не мог отклониться от своего пути, а теперь пришел, чтобы помочь страдальцу. Уту помазал губы Лугальбанды каким‑то снадобьем, и тот наутро проснулся совершенно здоровым.
Только теперь Лугальбанда осознал, что за ночь воинство, скорее всего, ушло слишком далеко и ему уже не догнать друзей. Тогда он решил обратиться за помощью к Анзуд. По дороге к высокому дереву Лугальбанде попалась можжевеловая роща. Зная, что можжевельник угоден богам, юноша сорвал несколько веток и спрятал в мешок.

Бог Энки. Оттиск печати аккадского времени
Достигнув гигантского дерева, Лугальбанда дождался, когда Анзуд покинет свое гнездо. Впервые в жизни смельчак испытывал тревогу. Ведь ни один из смертных не бывал во владениях Анзуд, не видел ее гнезда, в котором она вскармливает птенца. Кто знает, как отнесется Анзуд к непрошеному гостю?
По мере того как Лугальбанда поднимался вверх, цепляясь за ветви, писк детеныша становился громче и громче. Лугальбанда достал из мешка несколько кусков жира и заглянул через край гнезда. Птенец, еще слепой, разевал клюв и громко пищал. Вволю накормил Лугальбанда беспомощного детеныша, а кроме того, еще и украсил гнездо душистым можжевельником. В это время послышался шум крыльев, и воин поспешил покинуть гнездо, спрятавшись в ветвях.
Подлетела Анзуд к дереву, но писка птенца не услышала. Позвала малыша, а он не отозвался. Смертельно напуганная, птица‑мать опустилась в гнездо и увидела птенца, сытого и довольного. Поняв по можжевеловым ветвям, что в гнезде кто‑то побывал, птица воскликнула:
– Явись, кто бы ты ни был, бог или человек, я тебя достойно награжу!
Лугальбанда вышел из своего укрытия и низко поклонился Анзуд.
Настала очередь подарка. Для начала птица предложила юноше богатство в виде россыпей серебра.
– Благодарю тебя, Анзуд, – сказал Лугальбанда. – Но я не достоин этих даров. Я прошу об одном: сделай так, чтобы я был неутомим в беге.
– Пусть будет так! – согласилась птица. – Ты будешь скороходом. Только не открывай тайны моего жилища и не похваляйся моим подарком.
Понеслась в поднебесье Анзуд, промчался по горам Лугальбанда, не уступая в скорости птице. Обнаружив войско по облаку пыли, птица тут же указала к нему дорогу. Увидев сына, Энмеркар обрадовался и заключил его в объятья. Возликовали и храбрецы Урука.
Вскоре на горизонте появился враждебный город с его могучими стенами. Но духи гор снова преградили путь.
Тогда Энмеркар обратился к воинству с такими словами:
– Кто может отнести богине Инанне мое послание?
Замолкли воины, объятые страхом. Кто решится пройти через горы Хуррума? Как предстать перед великой богиней?
Лугальбанда вышел вперед и сказал родителю:
– Я готов доставить послание к Инанне и к утру возвратиться.
– Скажи, мой сын, великой богине, чтимой нами в Уруке, что путь к Аратте закрыли враждебные духи. Спроси, что нам делать, чтобы снять заклятье.
В одно мгновенье скрылся Лугальбанда из виду, словно растворился в воздухе. В поднебесье Анзуд несется. Бежит по земле Лугальбанда, не уступая в скорости птице. Анзуд озирает небо и указывает герою на дом великой Инанны.
И вот Лугальбанда встал перед Инанной.
– Закрыли злые духи путь к враждебной Аратте, – сказал он богине. – Скажи, как нам снять их заклятье.
– Живут в моих водах рыбы, – сказала богиня Инанна. – Одна среди них всех огромнее – богиня вод. И правит она рыбьим народом, как боги – народом человеческим. На том же берегу растут тамариски. Ты отыщи тамариск, выдолби из него чан, затем из тростников сплети сеть, поймай ту рыбу и принеси мне ее в жертву.
Лишь только прозвучали эти слова, Лугальбанда скрылся из виду. Подбежал он к берегу, нашел священный тамариск, срубил его и выдолбил чан. Затем разжег огонь и сплел сеть для ловли рыбьего бога.
Все исполнил Лугальбанда, все испытания прошел и в конце пути спас своих воинов от злых духов.
Когда небеса еще не имели названия, существовал лишь создатель Апсу – мировой океан подземных пресных вод, воплощение первозданной стихии, первопричина жизни. Были также Мумму – мудрый советник, обладающий лучами сияния Апсу, и Тиамат, праматерь всего живого. Жили они в океане, воедино смешивая свои воды. В те далекие времена появились и боги.
Первыми имена получили Лахму и Лахаму. От этих глубинных чудовищ родились бог Аншар и богиня Кишар. Затем Аншар создал первенца Ану по своему подобию. От Ану родился владыка низа Эйа, тоже подобный своему отцу.
Были боги молоды, шумливы и постоянно досаждали Апсу, у которого буйный нрав молодого поколения вызывал постоянное недовольство.
Возмущенный несдержанным поведением молодежи, старейшина обратился к супруге, чтобы она позволила унять буйных юнцов. Но Тиамат не дала на то согласия. И тогда Апсу решил сам жестоко расправиться с непослушными, приобщив к заговору своего советника Мумму.
На беду повелителя об этом замысле проведал Эйа. Приготовил он для Апсу питье, а когда тот погрузился в сон, тут же его умертвил, разрезал на части и рассеял в океане.
Не пожалел Эйа и могучего Мумму: заковал его железными обручами и лишил волшебной силы. Затем на краю океана построил просторное жилище. Здесь от богини Дамкины у Эйи родился сын‑первенец – с сияющим взором, с походкой мужа‑владыки. Дано ему было имя Мардук. Охранять свой дом и колыбель сына Эйа поставил праотца Аншара, у которого было четыре глаза, четыре уха и пасть, изрыгающая огонь.
Между тем Тиамат, узнав, что боги погубили Апсу, решила разрушить установленный порядок и вновь смешать воедино стихии, которые начали уже разделяться. Создала Тиамат одиннадцать чудовищ. Во главе их поставила созданного вместе с чудовищами бога Кингу, сделав его своим мужем. Ему праматерь вручила скрижали судьбы и возложила на грудь.
Узнал об этих планах Эйа и послал всем богам известие с повелением немедленно явиться в Чертог. Сев за трапезу, боги стали неспешно вкушать пищу, беспечно пить и наслаждаться угощениями. Но вскоре все прояснилось. С ужасом узнали Ануннаки, что Тиамат‑праматерь решила погубить их и даже собрала войско во главе с Кингу.
Но тут вперед вышел бесстрашный Мардук и сказал:
– Я готов в одиночку сразиться с грозной Тиамат и стать вашим защитником. Я один рассею двенадцать чудовищ. Только знайте: если добуду победу, я стану господином и всем вам придется мне подчиниться.
Поначалу боги возмутились, окружили Мардука и наперебой закричали:
– Молод ты, чтобы быть над нами владыкой! Мы старше тебя, да и родом более знатны!
– Что ж, – ответил Мардук, – я вас не неволю. Но тогда будете сражаться сами.
Призадумались боги, а затем все же смирились.
– Не готовы мы с Тиамат сражаться! – был их ответ. – Победи нашу праматерь и будешь главным в совете.
Вручили боги Мардуку жезл власти, на царский трон усадили и обратились к нему с почтительной речью:
– О Мардук! Истинно, среди нас ты самый могучий, путь твой более возвышен, чем наши пути, и даже великий Ану под властью твоей пребывает! Главенство твое – навеки, превосходство твое – навсегда! Тебе мы вручаем власть над обоими мирами – земным и небесным.
Как только Мардук получил от небесных богов символы власти, он взял могучий лук с тугой тетивой и булаву, а впереди выставил молнии. Затем с помощью Ану сплел сеть и повелел буйным ветрам ее натянуть.

Божество в виде человекобыка и богиня Нинхурсаг. Рельеф из Суз. II тыс. до н. э.
При виде Мардука страх овладел Кингу. Разбежалось воинство из драконов, сотворенных Тиамат. Но сама она твердо выдержала взгляд Мардука. Тогда накинул Мардук на Тиамат свою сеть, растянутую ветрами. Раскрыла Тиамат пасть, чтобы проглотить смельчака, но Мардук, ловко отпрянув, пустил буйные ветры прямо в Тиамат. Заполнили они ее утробу и раздули так, что она не могла пошевелиться. И тогда Мардук натянул тетиву – и стрела, вырвавшись со свистом, пронзила сердце праматери.
Когда Тиамат испустила дух, Мардук наступил на ее необъятное тело, вырезал мечом сердце, а туловище рассек надвое. Половину, которая была выше, он поднял вверх и прикрыл ею верхние воды, словно стеной. В этой стене, которой он дал имя «небеса», пробил ворота и поставил стражей, чтобы они по его повелению выпускали дожди, град и снег. Из нижней половины могучего тела Тиамат Мардук создал землю и закрыл ею нижние воды, которые заполняли царство Эйи.
После этого одолел Мардук всех, кто против него выступал, а затем поднялся на небо и построил дворцы для Ану, Энлиля, Эйи и жилища для звезд и планет. Создал бог и луну, доверив ей ночь. Одарил ее лучистой короной, чтобы рогами‑зубцами мерить время. День же отдал Мардук богу Шамашу, повелев ему разгонять своими мечами‑лучами всех нечестивцев, желавших мрака и тьмы. За это благодарные боги воздвигли Мардуку город и храм. И зажил герой‑строитель в своем небесном дворце, не зная труда и забот.
Но вот как‑то боги явились к своему владыке и пожаловались, что терпят голод и холод. Задумался Мардук, решая, что можно предпринять. Его размышления прервал Эйа. Он сказал, что ему нужны кости и кровь, чтобы создать для богов верных слуг. Пусть они и кормят, и поят, и согревают своих господ. А жертвой был избран слуга Кингу, ибо он в ответе за былые обиды.
Тотчас Кингу связали, повлекли его к Эйа, вину ему объявили, а затем разрезали жилы. Когда же вытекла кровь, взял Мардук глину, на крови Кингу ее замешал и вылепил человека, передав ему бремя богов. Самим же богам позволил жить без тягостных забот и повседневных трудов. Так благодаря богам появились люди, которые с тех пор почитают своих создателей.
В городе Эреду жил умелый во всех делах и чистый духом мудрец Адапа, сын бога Эйа. Каждый день в любую погоду он отправлялся ловить рыбу. Были сыты и служители храма Эйа, кормились добычей и жители города.
В то утро море было спокойным, а рыба клевала как никогда хорошо. Вытаскивая крупную рыбину, Адапа почтительно называл ее по имени и уговаривал смириться со своей судьбой.
– Прости меня, Сухур, что я оторвал тебя от сладкой донной травы, – обращался он к рыбине с длинными усами. – Тебе придется лечь рядом с толстогубым Гудом. Он уже почти затих. А тебя, Мур, бич рыбаков, я отпущу. Игла твоя наносит незаживающую рану.
К полудню дно лодки было полно живым серебром. Адапа начал было сворачивать снасти, как вдруг откуда ни возьмись появился Южный ветер. Одним дуновением он перевернул лодку со всей рыбацкой добычей.
Адапа был человеком тихим и незлобивым, но обидчикам спуску не давал. Недолго думая, он ухватился за крыло ветра. От тяжести крыло обломилось и безжизненно повисло. Застонал Южный ветер, как раненая птица, и неуклюже полетел в свою обитель на самом краю земли.
Тотчас море стихло. Тяжело дыша, Адапа поплыл к берегу. В тот день в Эреду никто не ел рыбы. И это сразу стало известно богу Эйа, которого Адапа почитал как отца.
– Что случилось? – спросил Эйа, выходя навстречу рыбаку. – Где твой улов, сын мой? Почему ты без лодки?
– Лодку потопил Южный ветер. За это я сломал ему крыло, – ответил рыболов простодушно.
Эйа схватился за голову:
– Что ты наделал! Ану тебе этого не простит!
Как раз в это время Ану с высоты небесного трона озирал свои владения. Увидев, что море неподвижно, он позвал своего слугу:
– Спустись вниз и узнай, почему стало неподвижным море. Не занемог ли мой Южный ветер? Или ему дуть надоело?
Прошло совсем немного времени, и Ану услышал голос верного слуги:
– О премудрый отец богов! Южный ветер в постели, он лежит и стонет. Ловец рыб Адапа повредил ему крыло.
– Дерзкий смертный! – в ярости завопил Ану. – Пусть он немедленно явится ко мне на суд.
Услышав это, Эйа обратился к сыну:
– Иди, Адапа! Ану в гневе, и помочь тебе могу только советом. Растрепай волосы и посыпь их пылью. Облачись в черные одежды. Может быть, явившись с повинной, смягчишь грозное сердце владыки богов. Когда будешь входить в небесные врата, будь вежливым с их стражами. Слуги они, а все же могут за тебя замолвить словечко. Но помни, если тебе предложат угощенье – не ешь и не пей! Отвергай и другие дары.

Гильгамеш. Рельеф на воротах дворца Саргона II в Дур‑Шаррукине. VIII в. до н. э.
Поблагодарил Адапа божественного советчика и отправился в дальний путь. Стражи небесных ворот спросили его:
– Почему ты явился на небо в одеждах, приличествующих смерти и подземному миру?
– У нас на земле исчезли два великих бога, Думузи и Гишзида, – отвечал Адапа, потупив глаза. – Я ношу по ним траур.
Переглянулись между собой небесные стражи, и понял Адапа, что обман удался. Побежали слуги вперед, чтобы возвестить господина о приходе Адапы.
– У врат человек появился! – сказали боги Ану. – Его имя Адапа. Он – само благочестие.
– Пропустите его! – приказал Ану, смягчившись.
Так оказался Адапа перед небесным троном.
– Выходит, что Южный ветер первым затеял ссору, – промолвил Ану, выслушав рассказ рыболова. – Это меняет дело. Что же ты стоишь? Отдохни с дороги.
Вспомнил Адапа наставления Эйа: «Сон подобен смерти» – и, поклонившись, ответил:
– Мне не до сна!
– Тогда садись.
– Мне ли сидеть в твоем присутствии?
Адапа все больше нравился владыке небес, и наконец властитель предложил ему еду и воду жизни.
И на этот раз отказался Адапа, вспомнив наставления Эйа.
Удивился Ану и спросил:
– Кто твой советчик?
– Меня наставлял отец мой Эйа, – ответил Адапа.
– Не на благо пошла тебе его великая мудрость, – проговорил Ану с сожалением. – Был ты ловцом рыбы, им и останешься. Не удержал ты на крючке вечную жизнь – выпустил ее в море. Будут смертны и твои потомки. Стражи! Возьмите его за руки и верните на землю.
Так и не пришлось мудрому Адапе приобщиться к сонму бессмертных.
В славном городе Кише, что стоит на Евфрате, правил справедливый и мудрый Этана, прозванный пастырем города. Имел он все, о чем только может мечтать смертный, кроме сына, которого Этана очень хотел. Не раз ему являлся во сне светоч мира Шамаш, но, как только он пытался обратиться к нему с мольбой о сыне, тотчас просыпался.
Тогда решил Этана принести Шамашу великую жертву, заколов шестьдесят откормленных быков. И возрадовалось сердце Шамаша. В ночь после жертвоприношения Шамаш явился Этане и открыл ему великую тайну:
– Далеко на небе есть трава рождения: кто к ней прикоснется, тот не уйдет в мир бездетным.
– Но боги не дали мне крыльев, – сказал Этана. – Как мне подняться на небо, чтобы добыть траву рождения?
– Спустись в глубокое ущелье, – отвечал Шамаш, – отыщи там раненого орла. Он тебе поможет.
Утром Этана отправился в горы и отыскал мрачное ущелье. На самом дне нашел он орла со сломанными крыльями и вырванными когтями.
– О несчастный! – воскликнул Этана. – Кто с тобой так жестоко обошелся?
– Я сам виновник своих несчастий! – ответил орел с тяжким вздохом. – Много лет я жил в гнезде на высоком дереве, в корнях которого обитала змея. Мы жили как добрые соседи, предупреждая друг друга об опасностях. Если мне удавалось догнать и убить онагра (дикого осла), часть добычи получала нижняя соседка. Так мы соблюдали клятву верности, произнесенную перед ликом Шамаша. Но однажды у змеи появились детеныши, и мое неразумное сердце задумало злое. Дождавшись, когда змея отправится на охоту, я распростер крылья, чтобы слететь вниз. Один из моих орлят, умная пташка, догадавшись о моем намерении, пропищал:
– Не делай этого, отец, Шамашу все видно!
Но я не послушал малютку и, упав вниз, съел змеиных детенышей. Приползла мать‑змея и, увидев, что змеенышей нет, взмолилась справедливому Шамашу, чтобы он наказал убийцу беззащитных. И повелел Шамаш змее, чтобы она отыскала мертвую тушу буйвола и проникла в нее.
Вскоре почувствовал я милый мне запах мяса и обратился к детям своим:
– Давайте слетаем, отведаем буйвола.
– Не надо, отец! – закричал мой умный орленок. – Может, в туше гниющей змея притаилась?
Не послушался я малютки, полетел и сел на тушу, клюнул, кругом огляделся, снова клюнул, а как очистил все мясо снаружи, в чрево забрался. Тут меня змея и схватила, обломала мои крылья, всего истерзала и бросила в яму.
Сжалился Этана над орлом, напоил его свежей водой и перевязал раны. Взмыл орел в небо, пробуя крылья, и опустился на землю. Сказал ему Этана:
– Крылья твои сильны. Отнеси меня на небо, к престолу великого Ану.
– Садись! – ответил орел. – Прижмись к спине и ухватись за крылья.
Когда они поднялись, орел спросил:
– Взгляни на землю, что ты там видишь?
Взглянул Этана вниз и ответил:
– Вся земля стала похожа на холм, а море не шире Евфрата.
Поднялись они еще выше, и земля стала малой рощицей. Орел поднимался все выше и выше, пока земля стала не шире арыка.
– Вот теперь мы добрались до верхнего неба, где обитают только боги, – сказал орел.
И тотчас же Этана увидел небесные врата, а за ними – дворец великого Ану.
Опустившись у самого трона, Этана обратился к творцу с такими словами:
– О великий владыка! Ты дал мне все, о чем может мечтать смертный. Но нет у меня потомства. Умру я, и забудется мое имя, словно и не жил я. Одна у меня к тебе просьба: дай мне хоть раз прикоснуться к траве рождения.
– Прикоснись, Этана, – сказал Ану, – ибо Шамаш высокого мнения о твоем благочестии.
Тут на глазах Этаны выросла сочная трава. Прикоснулся он к ней и горячо поблагодарил Ану.
Затем сел на орла и дал ему знак опускаться. Уже на пороге дома услышал Этана детский плач и понял, что стал отцом. Взял он младенца на руки и назвал его Балихом.
Прожил Этана на земле шестьсот лет, а когда пришло время уходить к предкам, высокий трон Киша занял его сын Балих. От него слава об Этане и его смелом полете обошла всех живущих.
Там, где Евфрат устремлял свои воды к морю, высился город Урук. Правил в нем царь Гильгамеш, на две трети бог, на одну треть человек. Среди смертных не имел он себе равных и не знал, куда приложить свою силу. Тогда взмолился народ перед великой богиней‑матерью Аруру:
– Ты, породившая Гильгамеша, давшая непомерную силу, сотвори мужа, который был бы ему равен!
Вняла этой просьбе Аруру. Руки в воде омыла, ком глины отщипнула и слепила могучего Энкиду. Было его тело покрыто густой шерстью, пасся он вместе с газелями в степях, теснился у водопоя со зверьем.

Гильгамеш, сражающийся со львом. Оттиск печати. XXIV в. до н. э.
Узнал о появлении Энкиду и Гильгамеш. Сразу просветлело его лицо от мысли, что ниспослали боги настоящего соперника. Вскоре он увидел шагающего вдали исполина. Широки его плечи, руки и ноги мощны, словно кедры.
В то же мгновение раздался клич в Уруке. Услышав его, мужья обычно запирали двери, чтобы на глаза Гильгамешу не попадались жены и дочери. Теперь же открылись двери и забылись прежние страхи. Все горожане прибежали к стенам, чтобы увидеть схватку великих мужей.
Встали Гильгамеш и Энкиду друг перед другом, а затем сошлись насмерть. Ноги в землю вошли по колена. Застонала земля от боли. Вздулись жилы героев, тяжелым стало дыхание. Наконец остановили схватку, обсыхая на солнце.
– Ты вразумил меня силой, – сказал Гильгамеш Энкиду. – Прежде я думал, что одолею любого. Но мы оказались равными. Зачем же нам ссора?
Увидев героев, идущих в обнимку, народ Урука побежал им навстречу, вынес корзины с хлебами, поднес кувшины с сикерой. Досыта наелся Энкиду хлеба, а сикеры испил полных семь кувшинов. Веселилась его душа. Но вдруг слезы хлынули из его глаз.
– Что с тобой, брат? – спросил Гильгамеш.
– Слезы душат мне горло, – отвечал Энкиду. – Без дела сижу. Иссякает сила.
Задумался Гильгамеш и сказал:
– Есть дело. Я слышал, что где‑то у моря в кедровом лесу живет свирепый Хумбаба. Если его уничтожить, то одно зло мы уже изгоним из мира.
– Я знаю тот лес, – отвечал Энкиду. – Ров там прорыт вокруг всех деревьев. Кто проникнет в его середину? Ведь голос Хумбабы сильнее бури, а уста его подобны пламени. Неравен бой в жилище Хумбабы.
Но царь уже принял решение. Вышел он из дворца вместе с Энкиду и обратился к народу:
– Слушайте, старцы Урука! В кедровом лесу я хочу победить Хумбабу и прославить свое имя.
Отвечали старцы:
– Ты молод еще, Гильгамеш, и следуешь всего лишь зову сердца. Кто может одолеть чудовище?
Услышав эти слова, Гильгамеш взглянул на Энкиду:
– Мне ли теперь бояться Хумбабы? По круче один не пройдет – двое взберутся. Сильного друга я обрел. Готов я с ним пойти на любого врага.
Посоветовавшись, старейшины все же благословили друзей с таким напутствием:
– На силу свою ты, Гильгамеш, не надейся. Будь хладнокровен. Впереди пусть шагает Энкиду, он ведает тропы и к кедрам найдет дорогу.
Двинулись побратимы дорогой бога солнца Шамаша. Спустя шесть недель увидели гору. Перешли ров, окружавший кедровый лес, вступили под сень деревьев.
Заметив друзей, Хумбаба стал неслышно к ним подкрадываться. Но что это? С чистого неба внезапно ударила буря. Это Шамаш, заметив опасность, выпустил восемь ветров. Загромыхали громы. Молнии пересекались, словно мечи великанов. И завертелся Хумбаба, как щепка в водовороте. Из его пасти вырвался вопль. А с ним и мольба о пощаде.
Гильгамеш поднял свой топор и нанес удар Хумбабе прямо в затылок, а Энкиду довершил ударом в грудь. На третьем ударе рухнул Хумбаба на землю. Закачались кедры, застонали, ибо погиб их покровитель.
– Теперь за иное возьмемся! – воскликнул Гильгамеш и сразу сорвал с тела Хумбабы первое одеяние и бросил в яму с водой. Закипела вода, поднялся вверх горячий пар. Энкиду же набросил сеть на шесть остальных одеяний и швырнул в ту же яму. Там они и рассеялись.
Пробудившись на следующее утро, Гильгамеш умылся, облачился в чистую одежду. И в этот миг посветлело небо – с вершин спустилась сама богиня Иштар.
– Хочу, Гильгамеш, чтобы ты стал моим супругом, – сказала она. – В дар ты получишь от меня колесницу с золотыми колесами. Запряжет в нее ураган могучих мулов, которые подвезут тебя к нашему дому. Сядешь ты на золотой престол, и преклонят перед тобой колени все земные владыки.
– Замолчи! Не возьму тебя в жены! – прервал Гильгамеш богиню. – Ты подобна жаровне, что гаснет в холод. Дверь ты худая, что ветер снаружи впускает, дом, что обрушился на владельца, мех дырявый, сандалия, жмущая ногу. Лучше вспомни, кого ты любила и кто сохранил благодарность о твоей любви? Думузи, которого ты любила, до сих пор страдает. Птичку‑пастушка ты любила – обломала ему крылья! Могучего льва любила, но от любви он получил в степи семью семь ловушек. Конь тебе полюбился, отважный в битвах. Загнала ты его в конюшню, уздой наградила и плетью, лишила ручьев прозрачных, мутной водой напоила, до упаду приказала скакать. Еще пастуху‑козопасу любовь свою подарила, но затем превратила его в волка. Был любим тобой Ишуллану, хранитель отцовского сада. Когда же он отверг твои притязания, ты его в паука превратила. И вот теперь твоя похоть ко мне обратилась? Не бывать этому!
Услышав эти речи, разгневалась богиня, в небо взвилась и предстала перед троном родителя Ану.
– О отец мой! – завопила она, рыдая. – Оскорбил меня Гильгамеш. Все мои прегрешения перечислил. Ославил он меня, так пусть за это будет наказан.
– Но ты первая оскорбила царя Гильгамеша своим предложением.
– Пусть он будет наказан! – не унималась богиня. – Сотвори быка, чтобы он растоптал нечестивца в его покоях. Если смертные будут нас, бессмертных, оскорблять, оскудеют дары и зашатается трон твой, отче! А не то сойду я в нижнее царство и выпущу оттуда мертвых, чтобы они всех живых истребили.
– Хорошо, хорошо! – промолвил испуганный Ану. – Будет тебе бык, только мертвых оставь в покое!
Тут же был создан могучий бык, которого рассерженная богиня без промедления погнала в ненавистный город. Достигнув Евфрата, выпил бык всю воду в семь глотков и вступил в Урук. От его первого дыхания открылась яма, и в нее упали сто мужей. От второго дыхания разверзлась еще одна яма. В ней погибли двести урукцев.
Услышав шум, вышли навстречу чудовищу друзья‑побратимы. Энкиду, бросившись сзади, ухватил быка за хвост, и бык повернулся. Гильгамеш ударил его между рогами, и бык свалился на землю бездыханный. Кинжалом Гильгамеш распорол бок быка и вытащил огромное сердце, принеся его в дар богу Шамашу.
Увидев гибель быка, заголосила Иштар:
– Горе тебе, Гильгамеш! Ты меня опозорил, убив быка!
Услыхал эти речи Энкиду, вырвал хвост у быка и швырнул богине прямо в лицо.
Зарыдала Иштар и призвала городских блудниц, которые ей верно служили, оплакать быка. Гильгамеш же созвал мастеров, чтобы оправить бычьи рога, и прибил их над ложем, а затем задал во дворце пир.
Однажды, проснувшись среди ночи, Гильгамеш рассказал Энкиду сон:
– Мне приснился небесный дворец, а в нем – собрание бессмертных богов. Беседу вели три бога: Ану, Энлиль и Шамаш.
Наш покровитель Ану сказал Энлилю:
– И зачем они умертвили быка, которого я создал? Но не только в этом их прегрешение. Они похитили кедры Ливана, которые охранял Хумбаба. Пусть за это жизнью заплатят.
– Нет! – возразил Энлиль. – Пусть один Энкиду умрет. Гильгамеш достоин прощения.
– За что же он должен быть наказан? – вмешался Шамаш в беседу. – Не твоим ли, Энлиль, решением уничтожены были и бык, и Хумбаба?
– Помолчал бы ты лучше, защитник убийц! – разгневался Энлиль. – Знаю, что ты их советчик, вечно им потакаешь!
Услышав рассказ Гильгамеша, побледнел Энкиду и отвернулся. Его губы трепетали, как мушиные крылья. По лицу Гильгамеша катились слезы.
– Не пойму я, – молвил Энкиду, – почему я должен умереть? Не рубил я кедров и тебя убеждал их не трогать. Почему на меня обрушится кара?
– Не переживай! – сказал Гильгамеш побратиму. – Умолю я богов, чтобы жизнь тебе сохранили. Я на их алтари принесу золото, серебро, все богатства.
Но тут с неба донесся печальный голос бога Шамаша:
– Золота и серебра не трать, Гильгамеш! Вымолвленное слово в уста не возвратится. Решения своего бог никогда не отменит. Такова судьба!
– Что ж! Я готов уйти! – смирился Энкиду. – Но прошу тебя, Шамаш, отомсти всем тем, кто меня человеком сделал, пусть они будут прокляты!
– Ты, Энкиду, не прав, – отозвался Шамаш. – Твои проклятия я снимаю. Ведь судьба дала тебе в побратимы Гильгамеша. И теперь, когда ты умрешь, на ложе печали уложит тебя Гильгамеш и окружит царским почетом, повелев оплакать тебя народу Урука.
Едва занялось утро, Гильгамеш, стоя у ложа, пропел свой погребальный плач:
– Энкиду! Мой побратим! Твоя мать антилопа и отец онагр породили тебя. Молоком своим звери вспоили тебя на пастбищах дальних. В кедровом лесу тропинки вспоминают тебя, Энкиду, неустанно. Ты топор мой мощный, мой кинжал безупречный, мой щит надежный, праздничный плащ мой, мои доспехи. Друг мой, воздвигну я тебе кумир, какого еще не было в мире!
Не утешившись горьким плачем, бежал Гильгамеш в пустыню. Достигнув холмов, упал он на землю, забылся сном, но сон не вернул Энкиду.
И снова шел пустыней, пока не показались горы, означавшие, что здесь граница мира. Увидел герой в скале пещеру, запертую медной дверью. Ее охраняли стражи, ужаснее которых невозможно представить. На тонких паучьих ногах высилось мохнатое тело скорпиона с человечьей головой.
Поборов страх, сказал скорпиону Гильгамеш:
– Открой мне двери, если можешь. Нет на земле мне жизни. Хочу увидеть друга, который стал прахом.
Отвечал ему стражник:
– Сюда нет дороги ни живым, ни мертвым. Отсюда бог солнца Шамаш выходит и, обойдя всю землю, с другой стороны заходит. Подумай, как ты пойдешь путем самого Шамаша?
– Пойду, – ответил Гильгамеш, – пойду со вздохом и плачем, с мыслью об Энкиду.
Бесшумно отворились двери, вступил Гильгамеш в пещеру, и мрак охватил его душу. Шел он, считая шаги, чтобы измерить дорогу, какой проходило солнце из заката к восходу. И то, что для солнца было одной короткой ночью, для Гильгамеша стало двенадцатью годами без света.
И все же рассвет забрезжил, и дыханье ветра коснулось щек Гильгамеша. Так, идя навстречу ветру, он вышел из мрачной пещеры. Его взору открылась роща. С деревьев свисали дивные плоды, похожие на земные. Потянувшись к ним рукой, Гильгамеш вдруг заметил, что поранил пальцы, оставив капельки крови на мертвых плодах. И тут он понял, что деревья окаменели: стволы стали черным камнем, листья – лазуритом, плоды – топазом и яшмой, рубином и сердоликом. Оказалось, что сад этот сделан в угоду мертвым, чтобы напоминать их душам о сладкой земной жизни.
Покинув обманную рощу, Гильгамеш увидел Океан – великую нижнюю бездну. Над нею он заметил утес, на том утесе – невысокий дом без окон, с плоской кровлей.
– Кто здесь? – громко спросил он, подойдя к дому.
– Прочь уходи, пришелец! – послышался женский голос. – Сюда нет входа бродягам. Здесь я, хозяйка Сидури, самих богов принимаю, угощаю их сикерой.
– Я не бродяга безвестный, – ответил герой хозяйке, – хотя все на свете повидал. Зовут меня Гильгамеш. Я из города Урука, прославленного мной. С другом своим Энкиду я убил злого Хумбабу, охранявшего кедровый лес. Мы также быка сразили, посланного на нас с неба.
Дверь тотчас отворилась. Из дома вышла хозяйка и сказала:
– Ты, убивший Хумбабу и поразивший быка, почему лицо твое мрачно? Почему голова поникла?
– Как голове не поникнуть, – ответил Гильгамеш хозяйке, – если мой друг Энкиду, с которым мы делили хлеб и кров, стал прахом? Вот почему брожу я по пустыне. Не дает мне покоя мысль об умершем друге.
– Не знаю, чего ты ищешь, – отвечала хозяйка. – Боги, создав человека, сотворили его смертным, а бессмертием наградили себя. Оставь пустые заботы! Развей печальные думы! С друзьями проводи время за чашей! Дай‑ка наполню ее тебе, Гильгамеш.
– Не надо мне сикеры! Скажи мне лучше, хозяйка, как перейти это море.
Хозяйка вещает:
– От века здесь нет переправы. Лишь бог Шамаш облетает свинцовые воды смерти да проплывает лодочник Уршанаби, перевозящий мертвых. Только он знает путь к Ут‑напишти, единственному человеку, сумевшему обрести бессмертие.
Простился герой с хозяйкой и направился к лесу. Выйдя к реке, он увидел челнок, а в нем – перевозчика Уршанаби.
– Что бродишь, отставший от мертвых? – спросил Уршанаби Гильгамеша.
– Я не отстал от мертвых, – ответил Гильгамеш. – В моей груди еще бьется живое сердце.
– Вот чудо! – удивился Уршанаби. – Зачем же сюда явился?
– Пришел я гонимый печалью, – ответил Гильгамеш. – Хочу отыскать друга и сделать его бессмертным. Прошу, посади меня в лодку и отвези к Ут‑напишти.
– Садись! – сказал Уршанаби. – Вот шест. Помогай, но воды не касайся.
Ослабил Гильгамеш пояс и, раздевшись, привязал одежду к шесту, словно к мачте. Но Уршанаби погнал челн так быстро, что Гильгамеш даже не коснулся шестом гибельной влаги.
Вот наконец показался остров, окруженный водами смерти. Неподвижно свинцовое море. Не летят над островом птицы, не видать рыб в воде. К бессмертному поселенцу Ут‑напишти не приходят вести из страны, где он жил человеком. Только время от времени проходит челн Уршанаби с душами умерших.
– Эй, жена! – вдруг воскликнул хозяин острова. – Что с моими глазами? Посмотри, это челн Уршанаби. Но над ним поднимается парус. Не бывало еще такого.
– Не беспокойся, глаза твои зорки, – ответила Ут‑напишти жена, – мои глаза тоже видят парус, который держит мертвец. Посмотри, как бледны его щеки! Утонул, видно, мореход, а без паруса жить не может.
– Сама не знаешь, что говоришь! – отозвался Ут‑напишти. – Много сотен лет я наблюдаю, как провозят души умерших. Кто только здесь не был! И царь, и пахарь, и флейтист, и кузнец, и плотник. А провозят их без короны, без мотыги, без флейты.

Гильгамеш и кедр. Оттиск печати аккадского времени
В этот миг вышел Гильгамеш на берег.
– Что ты ищешь? – спросил Ут‑напишти. – Почему сюда явился, как живой, на челне для мертвых? Почему твои щеки впали? Почему голова поникла?
– Гильгамешем меня называют. Я из дальнего города Урука. На две трети я бог, на одну – человек. Вместе с моим другом Энкиду мы убили злого Хумбабу, что кедровый лес охранял. Но, спасая меня от смерти, друг Энкиду стал ее жертвой. И ищу я его по миру, во всех морях и странах.
Покачал головой Ут‑напишти и сказал печально:
– Почему ты не хочешь смириться с человеческой судьбой? На собрании бессмертных для тебя не оставлено было кресло. Пойми, что бессмертные боги – полновесные зерна пшеницы, ну а люди – только мякина. Людям смерть не дает пощады.
– А как же ты? – спросил Гильгамеш. – Как на совете богов оказался, как добился бессмертной жизни?
– Что ж, – проговорил Ут‑напишти, – открою тебе свою тайну. Когда‑то я жил на берегу Евфрата. Я земляк твой и дальний предок, сам из города Шуруппака. Решили как‑то боги истребить всех живущих на земле. Явились они на собрание, держали между собой совет. После долгого спора пришли к тому, что на земле должен произойти потоп. Сделав выбор, они поклялись хранить его в тайне. Но один из богов поведал мне эту тайну. Он повелел построить корабль и погрузить на него все свое добро. Тут я понял, что Эйа, которому я принес много жертв, решил из многих избрать меня.
И построил я корабль, все пространство которого разделил на девять отсеков. Готовясь к долгой осаде, запасся всякой пищей и водой, а затем всех зверей привел по паре, заполнил ими отсеки. Сам с семьей взошел последним и закрыл за собой двери.
Настало утро. Выплыла туча, такая черная, что сами боги черноты ее испугались. Оцепенение объяло землю. И вот обрушился ливень, а вскоре я услышал треск, как будто земля раскололась. Подняло волнами мой корабль и погнало ветром.
Шесть дней, семь ночей носило корабль по морю. Наконец ветер успокоился и море затихло. Я открыл окошко. Лицо мне осветило солнце, и я упал на колени в благодарность за спасение.
Увидел я в море гору Ницир и направил к ней корабль. На седьмой день вынес я голубя и отпустил. Вскоре голубь назад возвратился. Вынес ласточку и отпустил ее. Не найдя пристанища, и она вернулась. Вынес ворона и отпустил его. Ворон сушу увидел и не вернулся.
Оглядел я все стороны света, вознеся молитву бессмертным. Семью семь поставил курильниц. Наломал в них ветвей пахучих, тростника, мирта и кедра и зажег как светильники. Почуяли боги запах, который едва не забыли, слетелись и курильницы окружили.
Среди них лишь один Энлиль оказался недоволен тем, что спаслись живые души. Мой покровитель Эйа так сказал ему с укором:
– Напрасно ты потоп устроил. Если людей стало слишком много, напустил бы львов хищных. Мог призвать болезни и голод. Ну да ладно. Покажи теперь Ут‑напишти и жене его место, где им жить, не ведая смерти.
Подошел Энлиль к кораблю, где я скрылся от страха перед богами, и, взяв за руку, вывел на землю и сказал:
– Человеком ты был, Ут‑напишти, а теперь со своей женой ты подобен бессмертным богам. В отдалении, у устья потоков отныне твое жилище. Там и смерть тебя не отыщет.
Под монотонный голос отшельника заснул Гильгамеш и конца рассказа не слышал. Тогда сказала жена Ут‑напишти:
– Разбуди его! Пусть возвратится на землю!
Покачал головой Ут‑напишти:
– Пусть он спит, а ты зарубки на стене помечай.
Миновало семь дней, семь зарубок легло над головой Гильгамеша. Наконец проснулся герой и сказал Ут‑напишти:
– Овладела смерть моей плотью, ибо сон был смерти подобен.
– От усталости сон этот долгий, Гильгамеш. Семь дней проспал ты. Жизнь возвратится к тебе. Умойся у ручья. Шкуры выбрось в море. Наготу прикрой белым льном и садись в челн Уршанаби.
А когда Гильгамеш удалился в другие покои, сказала жена Ут‑напишти:
– Он ходил, искал, трудился. Ты же ничего не даешь ему на дорогу. Позволь испечь ему хлеба.
– Того, у кого беспокойная участь, хлебом вовек не насытишь. Человек тот живет не хлебом, а дерзанием своим безумным. Вместо хлеба я дам Гильгамешу одно потаенное слово.
Умылся Гильгамеш, сменил одежды, и стало его тело еще прекраснее. Но печаль, как и прежде, омрачала его лицо. Не успел он отплыть, как услышал голос Ут‑напишти:
– На дне океана есть цветок с огненными лепестками на высоком колючем стебле. Если ты, неутомимый Гильгамеш, тот цветок знаменитый добудешь, не грозит тебе старость и смерть обойдет стороной. Вот оно, потаенное напутственное слово, которое дарю на прощанье.
Гильгамеш как стрела метнулся к воде, привязал к ногам камни и нырнул на дно океана. Там он увидел прекрасный цветок на высоком колючем стебле. Потянулся к нему, но укололи шипы руку, и окрасилось море кровью. Боли не ощущая, вырвал герой цветок тот и вскинул над головой, как факел. Выйдя на сушу, сказал проводнику своему Уршанаби:
– Вот он, цветок, который делает жизнь вечной, а старцу юность приносит. Доставлю его в Урук, испытаю на людях. Коль старец помолодеет, вкушу его, стану юным.
Побрели они по пустыне и у водоема присели. Опустился Гильгамеш в водоем, а когда наверх поднялся, увидел змею, которая ползла с цветком и на ходу, молодея, меняла кожу.
Гильгамеш залился слезами и сказал Уршанаби:
– Для кого я страдал, трудился? Не принес себе я блага. Не отыскать теперь Энкиду. Ни с чем я возвращаюсь домой. Радует только то, что увижу свой Урук и станет он крепче прежнего.
Там, где светлый Евфрат несет воды к морю, высится холм из песка. Город под ним погребен. Стала пылью стена. Дерево стало трухой. Ржавчина съела металл.
Путник взойдет на холм, в синюю даль вглядится. Увидит стадо, бредущее на водопой, пастуха, поющего песню. Поет пастух не о грозном царе и не о славе. Песня та о верной человеческой дружбе.
Древний Египет издавна притягивает своими тайнами, скрытыми в том числе и в мифах. Но лишь на рубеже ХIХ – ХХ вв. стало известно о фантастически богатом прошлом страны и высочайшем уровне письменности и культуры. После выдающихся открытий археологов древнейшая цивилизация предстала перед изумленным миром во всем своем блеске и величии.
Начало было положено французским ученым Франсуа Шампольоном, которому удалось разгадать тайну египетской письменности. Благодаря уникальной расшифровке иероглифов появилась возможность открыть неведомые ранее легенды и предания.
Было установлено, что мир древних египтян гораздо сложнее, чем казалось, а отраженный в мифах, он еще более загадочен и символичен. В этих преданиях удивляло многое: огромное количество неизвестных богов, сложность их отношений между собой и людьми. Например, один и тот же бог мог представать в разных обличьях. Его изображали то в виде животного, то в виде человека со звериной головой, то просто ставили некий символ.
У некоторых богов имена менялись согласно времени суток. Так, утреннее солнце воплощал бог Хепри: он принимал облик жука‑скарабея и катил солнечный диск к зениту. Дневное солнце воплощал бог Pa – человек с головой сокола, а вечернее, «умирающее» солнце – бог Атум.
Непредсказуемы, порой даже иррациональны, многие божества египетских мифов. В одной и той же истории бог, олицетворявший добро и справедливость, мог стать коварным и злым. Это и неудивительно, ведь Древний Египет – это классическая страна мистерий, идея которых – приобщение к высшему знанию. Человек, стремившийся к совершенному бытию, должен был повторить в себе мировой процесс бога Осириса. Этим упразднялась земная природа и пробуждалась тяга ко вселенскому предназначению.
В конце концов от древнего мифотворчества осталось то, что обычно называют египетской мудростью. Символически она, несомненно, была воспринята и в иудаизме, и в христианстве, и в ордене тамплиеров, и в учении каббалы. Впрочем, даже это является лишь отражением тех притягательных историй, начало которым было положено в самом сердце египетской цивилизации.
Как сказано в древних свитках и начертаниях, когда‑то в бездонной пропасти времен существовала одна лишь незыблемая водная гладь Нун, окутанная первозданной темнотой. Так было до тех пор, пока из глубин Нуна не появился Атум – первый бог Вселенной, вырвавшийся из объятий океана.
Провозгласив себя Сущим и Единственным, Атум зорко оглядел дарованное ему пространство, скованное лютым холодом и тьмой. Освоившись с ролью первопроходца Вселенной, он принялся искать в незнакомой стихии хоть какую‑нибудь опору в виде островка или клочка суши. Но вокруг не было ничего, кроме недвижной воды Нуна.
С невероятным усилием Атум оторвался от воды, воспарил над бездной и произнес магическое заклинание. В тот же миг загрохотали громовые раскаты, и среди бушующих волн возвысился над океаном Бен‑Бен – Изначальный Холм. Обретя под ногами твердь, Атум стал размышлять, что делать дальше. Прежде всего, подумал он, надо бы создать других богов. Но кого? Может быть, бога воздуха и ветра? Ведь только они смогут привести в движение мертвый океан.
С другой стороны, если мир придет в движение, то все сотворенное может превратиться в хаос. В таком случае нужен тот, кто мог бы сохранить это с помощью разумного закона. И Атум решил, что вместе с ветром следует создать богиню, которая будет охранять и поддерживать раз и навсегда установленный порядок.
Приняв это мудрое решение, Атум наконец приступил к творению мира. Он проглотил собственное семя и, оплодотворив себя, изверг бога ветра и воздуха Шу и богиню мирового порядка Тефнут – женщину с головой свирепой львицы. Так на земле появилась первая божественная пара.
При их появлении бесконечный океан Нун воскликнул:
– Да взрастятся в них энергия и душевная крепость!
После чего божество вдохнуло в своих детей силу по имени Ка – духовную и физическую мощь любого существа.

Анубис. Сер. II в. н. э.
Не успел Атум порадоваться за сотворенных детей, как случилось непредвиденное. Из‑за непроглядного мрака, который все еще окутывал Вселенную, потерялись Шу и Тефнут. Сколько он их ни звал, ответа не было. А это означало все, что угодно: может, дети заблудились в океане, а возможно, даже погибли в непроглядной бездне.
В отчаянии Атум вырвал свой Глаз и воскликнул:
– Глаз мой! Ступай в океан Нун, разыщи моих детей Шу и Тефнут и верни их мне!
Глаз отправился в океан, а Атум поднялся на вершину холма Бен‑Бен, сел на землю, горестно вздохнул и стал ждать.
Медленно шло время, дни проходили за днями, столетия за столетиями. Всюду был мрак, тишина и холод. Потеряв наконец надежду вновь увидеть своих детей, Атум закричал:
– О горе! Что же мне делать? Мало того что я навеки потерял своего сына Шу и свою дочь Тефнут, я вдобавок лишился Глаза!
Пришлось Атуму создать еще один Глаз, поместив его в свою пустую глазницу. Не успел он обзавестись новым оком, как услышал чьи‑то голоса. Бог насторожился: кто это мог быть? Он поднялся и стал прислушиваться, напряженно вглядываясь в темноту.
Нет, ему не почудилось! С каждой минутой голоса становились все громче, и – о радость! – это были голоса его детей. Едва Шу и Тефнут ступили на холм, как Глаз подскочил к нему и с гневом прохрипел:
– Что это значит?! Не по твоему ли слову я отправился в океан Нун и вернул тебе потерянных детей! Я сослужил тебе службу, а ты, неблагодарный, тем временем создал себе новый Глаз и поместил его туда, где по праву должен находиться именно я!
– Не гневайся, – сказал Атум. – Я помещу тебя на свой лоб. Оттуда ты будешь созерцать мир, который я сотворю и красотой которого будешь любоваться вечно.
Но оскорбленный Глаз не слушал никаких оправданий. Желая отомстить богу, он превратился в ядовитую змею кобру. С грозным шипением ползучая гадина раздула шею и обнажила смертоносные зубы. Но бог крепко сжал ее в руках и торжественно водрузил на собственное чело. С тех пор змея под названием урей украшает короны богов и фараонов. Урей все видит, и если на пути бога встретятся враги, он мгновенно испепелит их смертельными лучами.
В благословенное время из вод океана Нуна вырос белый лотос. Бутон раскрылся, и миру явился бог солнца Ра, увенчанный золотым диском. Тотчас первозданная тьма рассеялась и мир наполнился живительным светом. Увидев Атума и его детей, Ра заплакал от радости – отныне во Вселенной появилась жизнь, а с ней и надежда на процветание всего, что будет произрастать по воле богов.
Вскоре любящие Шу и Тефнут стали мужем и женой. От этого брака родилась вторая божественная пара – бог земли Геб и богиня неба Нут. На свет они появились крепко обнявшимися, поэтому в начале творения небо и земля тоже были единым целым.
Но однажды Геб и Нут поссорились. Размолвка вышла из‑за того, что богиня неба по утрам поедала своих детей – мириады звезд, рассыпанных по небу. Разгневанный Геб набросился на супругу, упрекая в непочтении к мировому порядку. Чтобы положить конец скандалу, солнечный бог Ра приказал Шу:
– Ступай и разлучи их! Если они не могут жить в мире и согласии, пусть живут врозь.
Бог ветра взмахнул руками, и в тот же миг по всей Вселенной завыл ураган. Сколько ни противились Геб и Нут, сколько ни напрягали силы, буря навсегда разорвала их объятия, после чего небо отделилось от земли.
Когда Шу разорвал объятия детей, Нут в облике Небесной Коровы вознеслась над землей. От высоты у нее закружилась голова, но бог солнца приказал Шу поддержать Нут. С тех пор Шу всегда держит свою дочь днем, а ночью опускает на землю. Поэтому одна из эмблем Шу – четыре пера: символические колонны, которые поддерживают небо.
Тефнут иногда помогает супругу держать Нут над землей, но очень быстро устает и начинает плакать. Ее слезы‑дождь превращаются в самые диковинные растения.
По утрам Нут покидает Геба, принимает облик Небесной Коровы Мехет Урт и рождает солнечный диск. Хепри, бог восходящего светила, катит солнце перед собой, подобно тому как жук‑скарабей катит свой шар, и, достигнув зенита, передает солнечный диск Ра. Бог принимает солнце и в своей священной Ладье Вечности везет его через небесную реку по животу Нут.
Иногда на Ладью нападает извечный враг солнца – гигантский змей Апоп. В такие дни небо затягивает тучами и налетает песчаная буря. Богиня Нут прячется в горах, пока Ра не победит Апопа. Если змею удается проглотить Ладью, наступает солнечное затмение. Но даже тогда Ра одерживает победу над змеем и плывет дальше по небесной реке. Вечером, выполнив свою миссию, бог солнца отдает золотой диск Атуму, и тот опускает его за горизонт.
Сразу после разъединения неба и земли в океане Нун зачернели маленькие острова и огромные материки, вздыбились горные хребты, с гор потекли реки, и люди, родившиеся из слез Ра, покинули холм Бен‑Бен и разошлись по зеленеющим долинам. Они построили города, вспахали поля и посеяли зерно. Возле холма Бен‑Бен вырос город Иуну, а на самом холме люди воздвигли святилище солнечного бога Ра.
Наступил золотой век – время, когда боги жили на земле вместе с людьми, сменяя друг друга на земном престоле. Первой и самой долгой была эпоха царствования Ра – бога солнца, Владыки Всего Сущего.
Гордая богиня дождя очень любила принимать от людей жертвенные дары и слушать сладкозвучные песнопения в свою честь. Но однажды на холме Бен‑Бен, в храме солнца, зазвучала музыка. Это земледельцы благодарили лучезарного Ра за свет и тепло, которые он дарит Кеме (Черной Земле).
Настроение у богини тут же испортилось. Ей показалось, что, хотя египтяне и славят ее, все же больше почестей воздают солнечному богу.
– Как же так! – хмурилась она. – Солнце иссушает почву, и, если б не мои дожди, не проросло бы ни одно зерно!
– Ты ошибаешься, – рассудительно возразил бог солнца, услыхав такие слова. – Посмотри на землю: по всей реке люди построили дамбы, плотины и оросительные каналы. Они сами питают поля водой, если нет дождя. Но что бы они делали без моих лучей?
– Ах так? – вскричала оскорбленная богиня. – Раз мои дожди никому не нужны, я навсегда покидаю Та‑Кемет!
Приняв облик львицы, Тефнут покинула Египет и убежала на юг, в Нубийскую пустыню. Но Тефнут была богиней влаги, поэтому, когда она ушла, на страну обрушилась страшная засуха. Прекратились дожди в дельте Нила; раскаленные лучи иссушали землю. Перестали плодоносить финиковые пальмы, обмелел Нил, и люди начали умирать от жажды и голода.
Тогда Ра призвал к себе бога Шу и повелел:
– Ступай, разыщи Тефнут и приведи богиню обратно!
Шу превратился в льва и отправился на поиски сестры. Вскоре ему удалось ее разыскать. Шу долго рассказывал ей, какое горе постигло ее родину, и наконец разжалобил Тефнут, убедив ее вернуться в Чертог богов.

Гор в образе сокола. I тыс. до н. э.
Когда дети бога возвратились в Египет, Великая река сразу же разлилась и щедро напитала водой луга и пашни, а на земли дельты хлынул с неба живительный «небесный Нил». С ним прекратилась засуха и возродилась земля.
Много веков солнцеликий Ра царствовал на земле, пребывая ночью в своей священной обители – благоухающем бутоне белого лотоса. А утром, когда распускались его лепестки, бог торжественно взмывал в небеса, озаряя Та‑Кемет золотым сиянием солнечного диска.
Две богини помогали Ра править царством. Его южной части до первых порогов Нила покровительствовала богиня‑коршун Нехбет. Молясь, египтяне вспоминали розовый лотос, поскольку имя «Нехбет» и слово «розовый лотос» звучали очень похоже. Поэтому священными эмблемами Юга стали лотос и водяная лилия. Эмблемой Дельты стал папирус, а его покровительница богиня Севера кобра получила имя по цвету папируса Уаджит, что означала «зеленая».
Много столетий жизнь текла своим чередом в согласии с законами, установленными всемогущими богами. Лишь однажды, на триста шестьдесят третьем году правления Ра, против него подняли мятеж заговорщики – демоны, недруги солнца, покровители мрака и зла.
Превратившись в крокодилов, гиппопотамов и змей, они пошли на солнечного бога войной. Узнав о мятеже, Ра велел своему сыну Гору вступить в битву с ненавистными врагами. Приняв облик крылатого солнечного диска, Гор взлетел ввысь и так стремительно обрушился на стан неприятеля, что немногие демоны, которых он не успел пронзить копьем, бежали без оглядки. В память об этой победе Ра назвал сына Гор Бехдетский, поскольку битва с демонами была у города Бехдет. А изображение крылатого солнечного диска велено было поместить на всех храмах Та‑Кемет.
Так продолжалось много веков. Но вот после долгих лет счастливого правления великий бог Ра почувствовал, что стал немощен и стар. В его крыльях его уже не было прежней силы, плохо видели глаза, притупился некогда острый слух.
– Как знать, одолел бы я теперь армаду демонов или мне такое уже не по силам? – в задумчивости говорил он в минуты слабости и печали.
Тем не менее в то утро солнечный властитель, как обычно, позавтракал, съев изысканные яства, умылся водой из священного озера и взлетел на небосвод. Вдруг он заметил, что в городе царит какое‑то непонятное оживление. Люди толпились на главной площади и что‑то горячо обсуждали.
– Что происходит? – обеспокоился бог. – О чем спорят эти люди?
С этой тревожной мыслью Ра вернулся в Чертог и приказал слугам привести к нему лунного бога Тота.
Вскоре перед троном предстал мудрец Тот – покровитель знаний, мудрости, медицины и колдовства.
– Что это значит, Тот?! – едва выговорил бог солнца.
– Ра, эти люди хотят захватить твою власть, – ответил бог мудрости. – Кто‑то им сказал, что ты уже одряхлел и не сможешь дать отпор. Вот они и решили, что им легко удастся тебя свергнуть.
– В таком случае приведи сюда всех богов. Пусть явится сюда мое Око – богиня Хатхор. Позовите также Шу, Тефнут, Геба и Нут, а также самого Нуна. Пусть они расскажут, как нам усмирить мятежников.
Явившись в Великий Чертог, боги пали ниц перед престолом Ра. Нун спросил:
– Скажи, о владыка, что случилось?
– Бог старейшей, из которого я произошел! Боги‑предки! – воскликнул Ра. – Люди, которые родились из моих слез, платят мне черной неблагодарностью. Я заботился о них, щедро дарил тепло их садам и полям, а теперь они хотят меня убить. Я бы, конечно, мог сжечь их своими лучами, но решил выслушать ваш совет. Скажите, что бы вы сделали на моем месте?
– Сын мой Ра, – ответил мудрый старик Нун, – крепок твой престол, и велик страх от тебя. Да направится твое Око против нечестивцев!
– Воистину! – согласились остальные боги. – Когда твое Око сходит в образе Хатхор, то нет в мире силы, способной противостоять его могуществу.
– Совет хорош, – промолвил Ра и не медля взглянул на людей своим глазом‑солнцем, направляя в их стан испепеляющие лучи урея.
Но удар был напрасен: люди успели укрыться за высокой горой в пустыне. Тогда Ра велел своему Оку Хатхор отправиться в пустыню и жестоко наказать дерзких мятежников.
Хатхор‑Око только и ждала высочайшего повеления. Она приняла обличье женщины‑львицы, получив при этом имя Сохмет. Отправившись в пустыню, богиня разыскала людей и, едва увидев их, свирепо зарычала. Шерсть на ее загривке встала дыбом, в глазах засверкал кровожадный блеск. Исполненная ярости, Хатхор‑Сохмет набросилась на людей и принялась безжалостно их терзать, убивая одного за другим, орошая пустыню кровью и разбрасывая вокруг куски плоти.
Решив, что люди уже достаточно наказаны и что отныне они уже больше никогда не осмелятся восстать против солнечного бога, Ра сказал дочери:
– Ты уже совершила то, ради чего я тебя послал. Довольно их убивать. Уходи с миром.
Но грозная богиня уже не могла остановиться. Оскалив окровавленные клыки, она свирепо прорычала:
– Осилила я людей, и сладостно в моем сердце! Я хочу уничтожить их всех, хочу досыта напиться кровью этих непокорных смутьянов!
– Ты, наверное, знаешь, дочь моя, что только я вправе решать, надо их истреблять или нет, – возразил мудрый солнечный бог. – Оставь людей в покое. Они уже достаточно наказаны.
Но упрямая Сохмет не пожелала внять словам отца. Жажда мести и охотничий азарт заглушили в ней голос разума. Свирепая львица вновь набросилась на людей. Люди в ужасе обратились в бегство вверх по реке, преследуемые богиней, беспощадно убивавшей всех подряд.
Ужаснулся и Ра, увидев, какую бойню учинила Хатхор. Едва опомнившись, он тут же воскликнул:
– Да явятся здесь мои быстробегущие гонцы!
Тотчас гонцы встали перед лицом Ра, и он сказал:
– Отправляйтесь на дальний остров и принесите как можно больше красного минерала диди.
Вскоре гонцы доставили диди, и Ра в сопровождении свиты отправился в Гелиополь. Там он призвал мельника и велел ему растолочь красный камень в порошок, а его служанкам приказал намолоть ячменя и сварить пиво.
Когда пиво было готово, слуги бога солнца наполнили им семь тысяч сосудов и намешали в пиво толченого красного порошка диди. Получился напиток, по цвету очень похожий на кровь.
– Боги! – воскликнул Ра. – Возьмите сосуды, отнесите их туда, где Хатхор‑Сохмет убивает людей. Разлейте пиво на полях в долине реки.
Повеление Ра было незамедлительно исполнено.
Наступило утро. Пришла Хатхор в долину, оглядела место вчерашнего побоища, увидела великое множество кроваво‑красных луж и, чрезвычайно развеселившись, бросилась пить мнимую кровь. Пиво пришлось ей по вкусу; она лакала и лакала его до тех пор, пока не захмелела. Тогда Ра подошел к дочери и сказал:
– Успокойся, отныне жители Египта будут приносить тебе сосуды с настоящим пивом в день праздника Хатхор. И да назовешься ты Владычицей опьянения.
С тех пор люди приносят в храмы кувшины с пивом и вином и ставят их к изваяниям богини Хатхор‑Сохмет в память о ее божественном усмирении.
После того как мудрый бог солнца спас египтян от расправы беспощадной львицы, богиня справедливости Маат вновь установила мир на земле. Однако одряхлевший Ра, уставший править миром, решил вовсе отказаться от власти. Созвав богов на совет, он пожаловался.
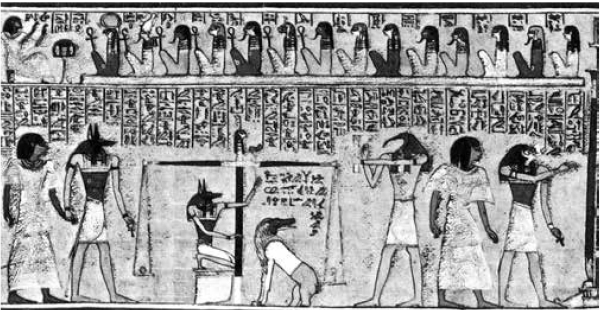
«Книга мертвых». Рисунок на папирусе. XIX династия
– Живу я, но сердце мое устало пребывать с людьми, – сказал он. – Поражал я их напрасно, ибо не было истребление полным.
– Не спеши! – от имени всех богов возразил Нун. – Ибо ты побеждаешь везде, где захочешь.
– Да, хоть члены мои ослабли, я не позволю, чтобы кто‑то одолел меня, – ответил Нуну Ра.
– Что ж, будь по‑твоему, владыка, – печально согласился Нун и, помолчав, обернулся к сыну.
– Сын мой Шу, – сказал он, – будь отцу поддержкой. А ты, дочь моя Нут, – обратился он к богине неба, – подними его. Превратись в Небесную Корову, и Шу поднимет тебя так же, как поднимал, когда разрывал объятия брата твоего Геба.
Не теряя времени, Нут превратилась в Корову, а бог солнца поместился на ее спине, чтобы взлететь ввысь. Увидели это люди, испугались, что плохо им будет на земле без Ра, и закричали:
– Вернись к нам, владыка, лучезарный бог! Ты стар, но мы не дадим тебя в обиду. Мы поразим всех твоих врагов, и ты сможешь спокойно царствовать!
Услыхав эти слова, бог солнца пожалел людей и решил на некоторое время отложить свое вознесение на небеса.
Была глубокая ночь. Когда же наступило утро, люди вышли из своих домов, вооружились луками и копьями и двинули войско против извечных недругов Ра – гиппопотамов, крокодилов и змей. Вскоре демоны зла были уничтожены и Ра окончательно простил людей.
– Я прощаю вам все зло, которое вы мне причинили. Истреблением моих врагов вы искупили вину, – сказал Ра и обратился к Небесной Корове: – Вот теперь я помещусь на твою спину и вознесусь с миром.
Нут в образе Коровы вознесла Ра на небеса. Другие боги уцепились за живот Коровы и превратились в звезды.
Взлетев на небо, Ра продолжал творить мир, поскольку создано было еще далеко не все, и сказал:
– Да упокоится Поле Великое!
И произошли Поля Покоя – загробное царство.
– И будут там для меня тростники и травы! – воскликнул Ра, и произошли Поля Тростников.
– Создам я в них вещи всевозможные! – сказал Ра, и произошли сумерки.
Когда бог солнца взлетел на недосягаемую высоту, Нут задрожала от страха. А Ра сказал Шу:
– Сын мой Шу, встань под дочерью моей Нут. Возьми ее на голову свою и поддержи в трудах ее.
После этого Ра призвал к себе бога Геба и объявил, что передает ему земной трон.
– Пусть враги мои знают, – провозгласил бог богов, – что хотя и удаляюсь, но все же сияю над ними. Ты, Геб, будешь теперь владыкой на земле!
Так закончилась эра земного царствования Ра‑Хорахте и наступила эра правления Геба.
Когда Ра покинул людей и вознесся на небо, богиня истины и справедливости Маат установила новый миропорядок. Отныне и навсегда земной мир со всех сторон окружила цепь высоких гор, поддерживающих небесную реку – Нут. По этой реке совершала свой путь Ладья Вечности, управляемая солнечным богом. Днем она плыла по небесной реке с востока на запад, чтобы солнце освещало землю. Ночью двигалась по загробному царству Дуат, а возвращалась с запада на восток, к месту восхода и сияния. На рассвете Ладья через пещеру в восточных скалах вновь выплывала на небосвод, и так повторялось из столетия в столетие.
Во время плавания Ра, как и надлежит великому богу, восседал в шатре, на золоченом троне, украшенном искусной резьбой. Посреди Ладьи, разливая божественное сияние, покоилось солнце.
Вместе с владыкой путешествуют его приближенные. На носу Ладьи, гордо вскинув головы, стоят богини Маат и Хатхор. Головной убор Маат украшает пушистое перо – символ справедливости. Богине помогает Хатхор: завидев на пути Ладьи врагов, она тут же превращает их в пепел неотразимыми лучами урея. Возле трона расположился сын Ра, бесстрашный Гор Бехдетский, готовый по приказу отца ринуться в бой и сокрушить злых демонов.
Иногда богам приходится вступать в жестокое сражение. Все ползучие гады караулят Ладью у самой пещеры и, как только она выплывает, набрасываются на нее, вцепляясь в борта. Один из крокодилов разевает пасть, стремясь проглотить солнце. Если кому‑то из крокодилов удается перевернуть Ладью, наступает солнечное затмение. Но Гор всегда стоит на страже: за редким исключением, он насквозь пронзает зубастое чудище разящим копьем.
Но иногда нападающих бывает слишком много и сражение затягивается. Тогда на земле бушуют ураганы, тучи закрывают небо над Дельтой и сверкают раскаленные молнии. В таких случаях исход битвы решается только под вечер.
Демоны раскачивают Ладью, прогрызают зубами днище, в пробоину льется вода. Но боги, собравшись с силами, идут в атаку – и вражьи ряды сразу редеют. Истекая кровью, ползучие твари отступают и прячутся на дне Нила. Только это и спасает их от полного истребления. В Та‑Кемет снова устанавливается ясная погода.
Ладья поднимается на вершину неба и поворачивает вниз, к западным горам. Гребцы переводят дыхание. Кормчий двигает веслом, разворачивая Ладью. Впереди, в предзакатном мареве, чернеет силуэт западного горного хребта. За кормой остаются города, селения, храмы, луга с пасущимися стадами и полноводный Нил. Внизу – мертвая раскаленная пустыня.
Увидев приближающуюся Ладью, священные павианы поют гимн во славу Ра. Под торжественное пение солнечный бог покидает дневную Ладью Манджет и переходит в ночную – Месектет. Впереди плавание по той части Великой реки, которая протекает через подземное царство Дуат.
Ладья подплывает к каменным вратам и останавливается. Из пещеры выползает огнедышащий змей по имени Страж Пустыни. Вслед за ним выходят бог Нехебкау с человеческим туловищем и змеиной головой и бог‑волк Упуаут. Привратники загробного мира, охраняющие вход в подземелье, присоединяются к свите Ра, чтобы сопровождать солнечного бога в ночном плавании.
Та часть Нила, что протекает под землей, разделена двенадцатью вратами на двенадцать провинций Дуата, и каждую Ладья Вечности должна проплыть за один ночной час. Все врата охраняются чудовищами. Чтобы неумолимые стражи пропустили Ладью, надо знать магические заклинания. Они известны только богу‑волку Упуауту, которого так и называют – Открывающий дороги.
– Открой свой загробный мир для Ра! Открой врата обитающему на небосклоне! – провозглашает Упуаут, обращаясь к Стражу Пустыни.
Раздается оглушительный грохот. Исполинские каменные громады, преграждающие путь в пещеру, медленно расходятся. После того как Ладья минует вход в преисподнюю, каменные врата закрываются.
Гребцы налегают на весла. Ровно через час Ладья минует вторые врата преисподней. Навстречу солнечному богу выходит бог урожая Непри. Его тело с ног до головы обвито пшеничными колосьями: в загробном царстве Непри кормит умерших, а на земле вместе с другими богами плодородия помогает выращивать злаки.


Поклонение Атону (слева). Рельеф из храма Атона в Ахетатоне. XIV в. до н. э. Фараон Эхнатон с женой и детьми, осеняемый лучами Атона (справа). XVIII династия
А вот и третьи врата позади. Ладья Вечности проплывает мимо гробниц и захоронений. Солнце освещает богато украшенные погребальные залы вельмож с расписными стенами, гранитные саркофаги и статуэтки богов – хранителей сна мумий. Оживленные сиянием солнца, покойники с воздетыми руками выходят навстречу Ладье и возносят славу Ра.
Солнечный бог обводит толпу мертвецов величественным взглядом и дает знак гребцам продолжать плавание. Мумии ложатся в саркофаги, плача оттого, что солнечный бог их покидает – только следующей ночью они увидят его.
Вскоре на пути Ладьи вырастает огромный дворец, окруженный колоннами. Это Великий Чертог двух истин – зал, где вершится загробный суд. Здесь боги подземного мира в присутствии владыки преисподней Осириса судят умерших. Шакалоголовый бог Анубис вводит покойников в зал. Мудрый Тот записывает приговоры. У трона Осириса стоят Исида, Маат и другие боги и богини.
Так, провинция за провинцией, Ладья Вечности плывет по подземному Нилу. Наступает последний час ночного плавания. Свита Ра собирается у трона. Только Маат остается на носу Ладьи да гребцы мерно взмахивают веслами. Солнце плывет на восток. Световой ореол за кормой бледнеет и гаснет. Зато впереди мрак рассеивается. Вскоре лучи высвечивают вздыбленные гранитные скалы, между которыми, уходя за поворот, извивается подземная река.
– Я вижу пещеру Апопа. Приготовьтесь к бою! – командует Ра.
Боги берутся за оружие. Гор Бехдетский готовит разящее копье, а Упуаут и Нехебкау обнажают мечи. Урей на короне Хатхор раздувает шею и воинственно шипит.
Внезапно вода вспенивается, превращаясь в бешеный поток. Разбрызгивая пенные хлопья, он несется вперед, увлекая Ладью. Гребцы погружают в воду весла и с трудом останавливают Ладью. Но вот вода исчезает, лишь влажное каменистое русло напоминает о том, что еще минуту назад здесь текла полноводная река. Ладья днищем скребет гальку и, накренившись набок, останавливается.
За скалой раздается рычание Апопа – повелителя злых сил и главного врага солнца. Каждую ночь этот огромный змей подстерегает Ладью у подземных скал. Увидев ее, он в несколько глотков выпивает всю воду подземного Нила. Но еженощно бог Ра и его свита бьются с исполинским змеем, чтобы утром солнце снова взошло на небосводе.
– Дрожи, Апоп! Сгинь, Апоп! – кричат боги.
Урей Хатхор мечет пучки раскаленных лучей, Гор Бехдетский протыкает чудовище копьем. Упуаут и Нехебкау рубят извивающееся тело мечами.
И вот из разинутой пасти прорывается вода, и Ладья вновь качается на волнах. Истекающий кровью Апоп уползает в пещеру. За день он залечит раны, чтобы следующей ночью снова напасть на Ладью Вечности.
Ладья огибает скалу, минует последние врата загробного царства и причаливает к подножию восточных гор. Боги и Ра умываются в священном озере и переходят на дневную Ладью Манджет, которая выплывает на лучезарное небо.
Уловка Тота
В те времена, когда бог Шу отделил небо от земли, в солнечном году было столько же дней, сколько и в лунном – 360. Тогда бог Тот, мудрец и властелин времени, разделил год на три части и каждой из них дал название: время Половодья, время Всходов и время Засухи. Так возникли времена года.
Затем Тот разделил каждый сезон на четыре части, по 30 дней в каждой. Так появились месяцы, и первым из них стал месяц Половодья – месяц Тота. Он начинался в день летнего солнцестояния, а за ним следовали остальные месяцы.
Но как‑то раз ревнивый бог солнца узнал, что, хотя Шу по его приказу отделил небо от земли, Нут по ночам тайно сожительствует с Гебом. И тогда Ра наложил проклятие на все 360 дней солнечного года. А это означало, что отныне Нут никаким образом не могла родить детей.
Небесная богиня в отчаянии воззвала к Тоту. Выслушав мольбу Нут, Тот обещал помочь. Но как это можно было исполнить? Уж кто‑кто, а Тот хорошо знал, что никому из богов не дано отменить проклятие, наложенное богом солнца. Любые заклинания и чародейства бессильны перед словом Ра.
Но Тот недаром слыл мудрейшим из богов, и после некоторых раздумий он нашел выход. Если проклятия снять нельзя, значит, остается одно: создать новые дни, на которые проклятие Ра уже не могло распространяться.
В облике ибиса Тот полетел в гости к Луне и предложил ей сыграть в шашки (сенет), чтобы развлечься. На кон поставили 1/72 часть лунных суток каждого из 360 дней лунного года.
Бог мудрости без труда одержал победу, и Луне волей‑неволей пришлось расплачиваться. Таким образом, выигрыш Тота составил ровно 5 суток. Их‑то он и забрал у Луны, после чего лунный год стал равен 355 дням, а солнечный год соответственно 365 дням. Выигранные у Луны 5 дней Тот назвал «те, что над годом».
Конечно же, новые дни Тот сразу посвятил Ра: ведь не станет же бог солнца проклинать, как прежние 360 дней, те дни, которые посвящены ему самому! Тот не обманулся в своих расчетах. Владыка его простил, и богиня неба отныне могла рождать по одному ребенку в каждый из пяти предновогодних дней. А во все последующие годы, когда наступали созданные Тотом дни, Нут рождала нежно мерцающие звезды.

Ра в образе сокола, несущего солнечный диск. Рисунок из «Книги мертвых» Анхаи. Ок. 110 до н. э.
После того как хитроумный Тот добавил к солнечному году пять суток, пантеон великих наконец‑то стал умножаться ко всеобщей радости всех зримых миров. Счастливые Нут и Геб произвели на свет великих богов и их потомков, прославивших благословенную землю Та‑Кемет.
Первым из правнуков Атума родился бог Осирис. Едва появившись на свет, он так закричал, что стало ясно: это будет властелин мира. После него родился Сет – бог с телом человека, но со звериной мордой и красными волосами. Он стал повелителем стихийных бедствий, войн и мертвых пустынь.
Следующей родилась Исида – богиня супружеской верности, материнства и любви, будущая супруга Осириса. И наконец, последней появилась на свет Нефтида – сестра и будущая жена Сета. Ей суждено было стать покровительницей мертвых.
Таким образом, священный клан богов составил Великую Эннеаду, или Девятку богов, повелевающих всем миром. На вершине рода творец Атум, далее расположились его дети Шу и Тефнут, внуки Геб и Нут, правнуки Нефтида, Сет, Исида и Осирис. Каждый из богов держит в правой руке символ жизни, а в левой – символ власти. И эта власть поистине безгранична!
Еще задолго до вознесения на небеса Ра завещал земной трон сначала Шу, а затем Гебу. За время своего царствования Шу построил множество святилищ и храмов по всему Египту. Однажды эти храмы попытался разрушить змей Апоп. Бесстрашный Шу вступил в битву с чудищем, одержал над ним победу, но после полученных ран заболел и ослеп.
Последствия хвори были ужасны – в Египте нарушился порядок, установленный богиней Маат, и воцарилось беззаконие. Следствием этого стала преступная страсть Геба к своей матери – богине Тефнут. Улучив момент, когда Шу покинул свой дворец, Геб ворвался туда, силой овладел ею и захватил престол отца. Совершив такое злодеяние, он во всеуслышание заявил, что расправится с Шу, если бог ветра осмелится вернуться во дворец.
Так и случилось: вняв угрозам сына, Шу во дворец больше не явился. Девять дней выл и бушевал ураган – это бог ветра рыдал от бессилия и отчаяния. Непроглядная тьма окутала берега Великой реки. На десятый день мрак рассеялся, ветер стих, буря улеглась, и богам ничего не оставалось делать, как признать Геба законным властителем египетской земли.
Через двадцать семь дней царствования Геб решил обойти свои владения, отправившись на восток. Там он встретил людей, которые рассказали ему о доблести Шу, о том, как он сражался с Апопом и как поместил себе на лоб Око.
– Это Око, – говорили люди, – обладает великой силой и называется Око Уаджет. Если поместить его на лоб, оно своими ослепительными лучами будет истреблять всех врагов.
Едва Геб услышал о чудодейственном Оке, как его обуяла неодолимая зависть. Во что бы то ни стало он решил завладеть Оком Уаджет. После недолгих поисков Геб встретил Око у подножия горы. Издав радостный клич, Геб бросился к нему, но Око внезапно превратилось в кобру урей и выпустило смертельный яд. Бога земли тотчас охватило неистовое пламя, и он свалился в лихорадке.
Узнав о случившемся, Великая Эннеада, посовещавшись, приняла решение лечить Геба. Но никакие лекарства, чудодейственные зелья и волшебные заклинания не помогали больному. Тогда боги Девятки сказали:
– Пусть он созерцает сияние бога Ра – солнечный Ах, загробное воплощение правителя. Это исцелит его.
Ра осветил своим Ах большой камень и возложил его на голову Геба. Лихорадка сразу прошла. Через несколько лет камень омыли воды Великого озера и он превратился в крокодила Себека.
Выздоровев, Геб решил, что отныне будет жить в полном согласии с законами, установленными богиней Маат. Он обратился к Девятке с просьбой научить его строить храмы, орошать земли и сеять зерно. Боги с радостью исполнили просьбу покаявшегося. Обучившись ремеслам, бог вскоре устранил все разрушения, которые учинил в Египте. Процарствовав множество веков, Геб отрекся от престола, а его душа воплотилась в двуглавого сфинкса Акер.
В те времена боги, царствующие среди людей, были, в отличие от своих подданных, бессмертными. Но власть их не была пожизненной, а передавалась по наследству. Вот так после отрешения от власти бога Геба его преемниками стали сыновья Осирис и Сет.
Боги разделили между ними землю так. Осирису отдали долину Нила, населенную дикими людьми, ничего делать не умевшими, кроме как охотиться на зверей и воевать. Из Великой реки они извлекали только одну пользу – пили воду, не догадываясь, какие живительные силы таятся в иле, который каждый год приносил Нил из верховий.
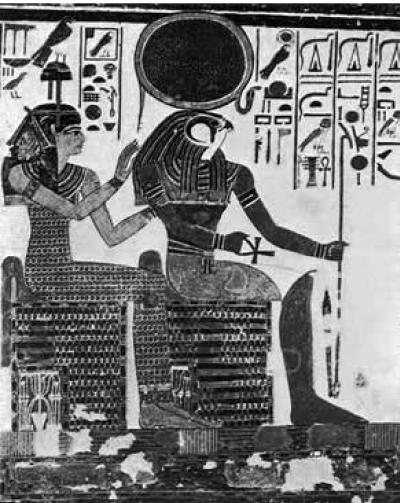
Хатхор и Ра‑Гарахути. Роспись гробницы царицы Нефертари в Фивах. XIX династия. Ок. 1250 до н. э.
Сет стал властителем огромных пространств по обе стороны долины Нила. Там были жаркие каменистые пустыни, из которых в долину Нила прилетали знойные ветры‑суховеи. В тех местах сквозь скудную землю пробивалась трава, росли деревья, гуляли антилопы и жирафы, а еще ослы и свиньи. Особенно Сету нравились ослы. Он даже голову свою превратил в ослиную. Так и ходил по земле – с ослиной мордой и длинными ушами. А вот к делам государственным сын Геба особого рвения не испытывал, предпочитая праздность всем наукам управления вверенной землей.
Не в пример своему брату Осирис оказался добрым и мудрым царем. Он помог людям засеять долины Великой реки семенами злаков, собрать урожай, испечь хлебы. Бог‑царь показал, как приручить животных, научил выращивать плодовые деревья и виноградники. А для того чтобы люди не бродили по земле, как дикие звери, он научил их строить дома.
Когда же у людей появился достаток, они захотели проводить свободное время в веселье и радости. Тогда Осирис изобрел музыкальные инструменты, а чтобы танцевать и петь было веселее, придумал из винограда давить вино, а из ячменя варить пиво.
Во всех делах Осирису помогал мудрый Тот. Он дал людям язык и письменность, придумал для них имена, а для вещей – названия; обучил египтян ремеслам, зодчеству и искусствам. Это были лучшие времена золотого века!
Когда по всей стране установился угодный богам порядок, Осирис решил отправиться в миссионерское путешествие по соседним странам. Оставив трон на попечение своей жены и сестры Исиды, он в сопровождении певцов, музыкантов и свиты младших божеств отправился в путь. Но не ради развлечения, а для того, чтобы преобразовать весь мир так, как некогда был преобразован Египет. Не силой он покорял людей, а умом, красноречием и добрыми делами, благодаря чему мудрый сын Геба вскоре подчинил себе все соседние народы и племена.
После того как Осирис возвратился из миссионерской поездки, Сет, завидовавший славе брата черной завистью, задумал избавиться от нежелательного соперника и захватить престол его царства. Для этого он сговорился с царицей Эфиопии Асо и с примкнувшими к нему семьюдесятью двумя демонами, недовольными правлением Осириса.
Сет тайком измерил рост Осириса и по снятой мерке изготовил сундук, украшенный золотом и узорами из драгоценных камней. Когда сундук был готов, Сет устроил званый пир, на который был приглашен и Осирис.
В разгар празднества Сет внес сундук в зал. Гости наперебой стали выражать восхищение великолепным изделием. Тогда Сет, как бы для забавы, сказал:
– Ложитесь по очереди в сундук! Кому он придется впору, тот и получит его в подарок.
Пьяные гости, смеясь и подшучивая друг над другом, стали забираться в сундук. Но все напрасно: для одних он был слишком велик, для других – чересчур мал, для третьих – широк или узок. Наконец подошла очередь Осириса. Ни о чем не подозревая, бог забрался в сундук. В тот же миг заговорщики захлопнули крышку, обвязали сундук ремнями, отнесли его к реке и бросили в воды Танитского устья. Волны мертвой купелью сомкнулись над гробом доброго царя Та‑Кемет.
Это произошло на двадцать восьмом году правления Осириса, в семнадцатый день месяца Атир.
Узнав о случившемся, Исида остригла волосы, облачилась в траурные одежды и отправилась искать сундук с телом Осириса. Вне себя от горя, богиня причитала:
– Сливается небо с землей, тень на земле повсюду, упало небо на землю, где ты, владыка, отошедший в край безмолвия?!
Так, рыдая, Исида ходила из края в край, от селенья к селенью и спрашивала, не видел ли кто плывущий сундук. Но никто не мог утешить богиню. Много дорог исходила Исида, прежде чем встретила тех, кто помог ей в поисках. Это была шумная ватага ребятишек. Едва богиня задала им вопрос, они обступили ее и, возбужденно размахивая руками, загалдели наперебой:
– Мы видели, как сундук плыл по Великой реке, к морю!
Поблагодарив детей, Исида произнесла волшебное заклинание, которому научил ее отец, мудрый бог Тот. Знаки показывали, что сундук надо искать на побережье Уадж‑Ур, в финикийском городе Гебале (греч. Библ). Поведало заклинание и о том, что речные волны выбросили сундук с телом Осириса на сушу рядом с молодым ростком вереска. Пока Исида странствовала, вереск успел разрастись, окружил сундук со всех сторон и скрыл внутри своего ствола. Случилось так, что царь Гебала Малакандр, прогуливаясь, увидел прекрасное дерево, повелел его срубить и сделать из него колонну для своего дворца.
Придя в Гебал, Исида в изнеможении села у родника и заплакала от отчаяния:
– Горе мне, горе! Никогда я больше не увижу своего возлюбленного Осириса!
В это время к источнику пришли служанки Астарты, царицы Гебала. Они услышали плач богини и спросили, в чем причина ее страданий. Исида обернулась и поприветствовала незнакомок. Девушки оказались добрыми и отзывчивыми, и богиня, желая сделать что‑нибудь приятное, заплела им волосы и пропитала кожу божественным ароматом.
Вернувшись во дворец, служанки рассказали обо всем Астарте. Та пожелала увидеть чужестранку, чьи волосы и кожа благоухают как амброзия. Послали за Исидой, и богиня в сопровождении слуг явилась во дворец. С первого взгляда молодая женщина понравилась Астарте, и царица тут же назначила ее кормилицей недавно родившегося сына.
Исида так привязалась к царскому наследнику, что решила даровать ему бессмертие. По ночам она опускала маленького царевича в волшебное пламя, и огонь сжигал смертные части его тела. Пока ребенок лежал в огне, Исида, превратившись в ласточку, с плачем летала вокруг вересковой колонны.
Так продолжалось много ночей подряд. Но однажды царице Астарте захотелось посмотреть, как чужестранка ухаживает за ее ребенком. Подкравшись к покоям, Астарта приоткрыла дверь и, увидев, что любимое дитя объято пламенем, издала душераздирающий крик. Этот вопль разрушил волшебные чары Исиды, а с ними и возможность даровать ребенку бессмертие.
Разгневанная царица потребовала от Исиды немедленных объяснений, и той ничего не оставалось делать, как открыться Астарте.
– Несчастная! – воскликнула Исида. – Зачем ты помешала мне? Знай: я – Исида, богиня магии и колдовства. Я хотела сделать твоего сына бессмертным, но горе тебе! Из‑за тебя мои чары потеряли силу и твой сын, как все люди, состарится и умрет. А теперь отдай мне колонну, что украшает твой дворец, и я покину Гебал.
Насмерть перепуганная царица пала ниц перед богиней. Исида легко вырвала вересковую колонну из земли, разрубила древесину и извлекла сундук. Она припала к нему лицом и так пронзительно закричала, что младший царский сын не вынес истошного крика и тут же умер. Так Астарта была наказана за то, что помешала богине.
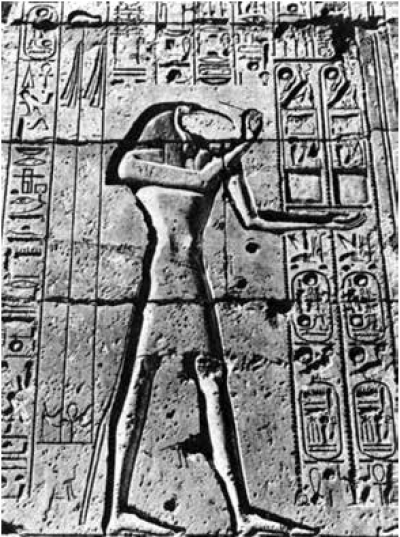
Тот. Рельеф в храме Рамзеса II в Фивах. XIII в. до н. э.
Разрубленный вересковый ствол Исида полила сладким маслом, покрыла льном и передала Малакандру и Астарте. В благодарность царь снарядил корабль и послал своего старшего сына сопровождать богиню в плавании. Когда корабль отчалил от берега, Исида открыла сундук и, увидев мертвого Осириса, разрыдалась. Затем она спрятала сундук в дельте Нила, а сама отправилась к своей сестре Нефтиде, жене Сета. Но когда стало известно о злодействе красногривого бога, Нефтида бежала от него, укрывшись на небольшом островке. Там она жила вместе с сыном – шакалоголовым богом Анубисом. Туда и отправилась Исида, чтобы оплакать Осириса и с почетом его похоронить.
Почти в то же время в тех местах охотился коварный Сет. Выискивая в камышах желанную добычу, он случайно наткнулся на сундук, спрятанный Исидой. Развязав ремни и откинув крышку, он неожиданно для себя увидел мертвого Осириса. Изрыгая проклятия, злодей выхватил меч, разрубил тело брата на четырнадцать частей и разбросал по всему Египту.
Узнав о новой беде, Исида отправилась на поиски останков любимого супруга. Она смастерила папирусную ладью и вместе с Нефтидой поплыла по рекам и ручьям.
Поиски продолжались много дней. На каждом месте, где Исида находила какую‑либо из частей, она ставила надгробную стелу, чтобы Сет думал, будто Осирис уже похоронен. Единственной частью тела, которую Исида так и не смогла найти, был фаллос: его съели рыбы – лепидот, оксиринх и фраг. С тех пор египтяне брезгуют этими рыбами.
Исида вылепила фаллос из глины, освятила его и прирастила к собранному телу Осириса. (Отсюда – особый праздник египтян в честь фаллоса.) Затем Исида смазала тело Осириса божественными маслами, чтобы предохранить его от тления. В создании этой первой на земле мумии Исиде помогали Нефтида, Тот и особенно Анубис – знаток секретов бальзамирования.
Через семьдесят дней мумия была изготовлена. Исида и Нефтида стали оплакивать любимого супруга и брата. Вместе с двумя сестрами горевали духи из ближнего города. Услышав причитания Исиды и Нефтиды, они пришли к телу Осириса, чтобы исполнить танец печали, избивая себя и ударяя в ладоши.
Исида очень страдала из‑за того, что при жизни Осириса не успела родить ему сына. Но, зная магию, она могла зачать ребенка и от мертвого мужа. Превратившись в самку коршуна – птицу Хат, Исида распластала крылья по мумии Осириса, произнесла волшебные слова, и случилось чудо – богиня забеременела.
Узнав, что Исида предала останки Осириса погребению, Сет пришел в неистовство и приказал заточить ее в темницу. Даже сама мысль, что Осирису оказали погребальные почести, была для убийцы невыносима, хотя он и не подозревал, что тело Осириса восстановлено.
С помощью Тота Исиде удалось бежать из‑под стражи. Она спряталась в болотах Дельты и там вынашивала Гора – законного наследника трона Осириса. В день родов налетел такой ураган, что даже всемогущие боги содрогнулись от ужаса. Тогда Исида воскликнула:
– О боги! Я – Исида, сестра Осириса. Я рожу сына, и он будет управлять этой землей, он унаследует Гебу, он будет говорить о своем отце, он убьет Сета! Защитите Гора, боги!
И она воздела руки к небесам, где проплывала Ладья Вечности.
– Знайте: это будет ваш господин, владыка богов!
– Да будет так! – сказал Атум. – Пусть успокоится твое сердце. – И он произнес заклинание, которое должно было защитить Гора во чреве матери: – Пусть же этот враг, убивший отца, не придет, чтобы раздавить яйцо.
– Атум сказал! – воскликнула Исида. – Он приказал, чтобы мой сын был защищен в моем чреве, он создал защиту ему, ибо он знает, что это – наследник Осириса!
Великий Атум внял ее словам и громогласно произнес, обращаясь к Гору:
– Владыка богов! Иди, выходи на землю! Восхвалят и последуют за тобой спутники твоего отца Осириса! Я сотворю твое имя!
После этих слов Исида родила Гора. Втайне от всех она выкормила его, с нетерпением дожидаясь того дня, когда Гор займет место отца на земном троне и отомстит за его гибель. Ведь никто другой до этих пор не решался оспаривать престол у могущественного Сета.
Так появился на свет Гор‑па‑херед, Гор‑младенец – мальчик с локоном юности на правом виске. Он был еще слаб, ему еще не по силам было биться с могущественными врагами и прежде всего с Сетом. Но его защищала своими крылами мать Исида. Кроме того, Гора должны защищать и люди – так приказал бог Тот. И под их опекой младенец станет властелином Египта, ведь уже сейчас он носит Объединенную корону Обеих земель, хотя и не знает о своем великом предназначении.
Своего долгожданного сына Исида растила втайне от злобного Сета. По утрам, убаюкав младенца, она прятала его в папирусное гнездо и отправлялась в дальнее селение, чтоб раздобыть еду, а к вечеру возвращалась домой. Как‑то раз богиня задержалась в дороге, а когда вернулась, увидела нечто ужасное: младенец Гор задыхался, хрипел, тело его билось в судорогах.
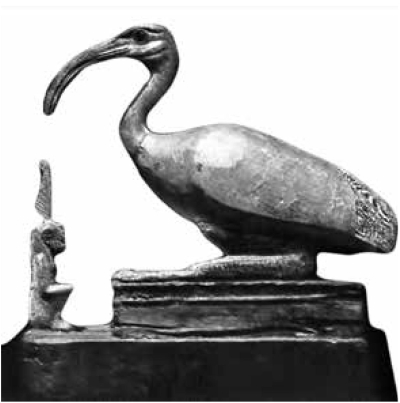
Маат и Тот в образе ибиса. VII–VI вв. до н. э.
Исида в отчаянии стала звать на помощь. Сбежались местные рыбаки, но никто из них не знал, как помочь ребенку. Исида воскликнула:
– Много вас, но нет никого, умеющего оживлять!
В ту же минуту из болот вышла богиня‑покровительница Дельты со знаком жизни в руке и сказала безутешной Исиде:
– Не плачь, мать бога! Если ты думаешь, что твоему сыну причинил зло Сет, то это не так. Благодаря чарам Атума Сет не может проникнуть сюда. Ищи же настоящую причину, по которой это несчастье случилось с младенцем, тогда оживет Гор для своей матери! Наверное, его ужалил скорпион или укусил змей.
Вняв мудрому совету богини Дельты, Исида осмотрела тело малыша и обнаружила, что он действительно ужален. Она зарыдала, схватила ребенка на руки и заметалась с ним, причитая:
– Ужален Гор! Ужален Гор, о Ра, ужален твой сын! Наследник наследника, преемник царства Шу! Как мне будет дорог тот, кто его оживит!
На плач Исиды в Дельту пришли Нефтида и богиня‑скорпион Селкет. Нефтида, узнав о беде, постигшей сестру, расплакалась, а Селкет обратилась к Исиде со словами:
– Воззови к небу, Исида, да остановятся гребцы Ра. Да не двинется Ладья Ра до тех пор, пока твой сын Гор лежит неподвижно!
Исида обратила свой голос к небу, и в тот же миг Ладья Вечности остановилась над болотами Дельты. Бог Тот покинул свое место в Ладье и спустился с небес.
– Нет вреда твоему сыну Гору! – решительно объявил он. – О благая богиня с мудрыми устами! Защита его – Ладья Ра. Я пришел к тебе из божественной Ладьи. Солнце пребудет на своем вчерашнем месте, мрак удержится, света не будет, пока не исцелится Гор!
– О, Тот, хоть и велико твое сердце, но как медленно свершаются твои намерения! – воскликнула Исида.
Тогда бог мудрости произнес волшебное заклинание и яд скорпиона потерял силу. Младенец Гор был спасен. После его выздоровления Тот по просьбе Исиды повелел египтянам неустанно следить за Гором, оберегать его и всячески помогать матери. Иначе, пригрозил Тот, на земле воцарятся мрак, запустение и голод. Сказав это, Тот продолжил свой путь в Ладье Ра.
Когда Гор подрос, Исида пожелала, чтобы сын стал могучим и непобедимым в любой схватке. Для этого надо было, чтобы Ра отдал Гору свое Око Уаджет как символ власти и урей, который мог бы уничтожать всех злых демонов.
Ра к тому времени стал уже дряхлым стариком: руки его тряслись, губы дрожали, изо рта на землю текла слюна. Исида собрала эту слюну, смешала с пылью и песком и из этой мази создала змею в виде стрелы. Ядовитого гада она положила на дороге, по которой, осматривая свои владения, часто прохаживался солнечный бог.
И вот змея ужалила великого бога! Ра закричал от невыносимой боли. Голос его достиг небес и привлек внимание Великой Девятки.
– Что случилось? – воскликнули боги, но у Ра не было даже сил, чтоб им ответить. Его челюсти дрожали, все его члены тряслись, и яд заливал тело подобно тому, как Нил заливает землю. Превозмогая боль, солнечный бог с трудом произнес:
– О боги, созданные из моего тела, меня пронзило нечто болезненное, мои глаза не видят, и моя рука не может схватить его. Никогда я не испытывал боли, подобной этой. Поразил меня змей, которого я не знаю. Я прошу привести всех богов: может, кто‑нибудь из них знает магию, помогающую лечению.
Боги пришли. Была среди них и богиня Исида. Она спросила Ра:
– Отец мой божественный, не змей ли ужалил тебя? Не один ли из твоих детей поднял на тебя руку? Воистину он будет повержен, я заставлю его отступить!
– Меня действительно укусил змей, – простонал Ра. – Он ужалил меня, когда я обозревал свои владения.
– Я излечу тебя, – сказала Исида, – но для этого ты должен сообщить свое сокровенное имя. Ибо все, даже люди, выживают, когда произносятся их имена!
– Мое имя? – переспросил солнечный бог. – Знай же: я – создатель неба и земли, я сотворил горы и все, что есть. Я создал Время. Я – Хепри утром, Ра в полдень и Атум вечером.
Увы, слова не помогли Ра. Яд не вышел из бога, и облегчение не наступило. Причина была в одном: Ра обманул Исиду и не назвал ей скрытое имя, в котором заключалось все его могущество. Исида это сразу поняла и сказала:
– Не было твоего имени в том, что ты мне сказал! Скажи его мне, и выйдет яд.
Тем временем яд жег все сильнее, и Ра понял, что нет у него другого выхода, как открыть Исиде свое тайное имя. Скрепя сердце, солнечный бог велел всем остальным богам удалиться и, оставшись с Исидой наедине, сообщил ей свое подлинное имя. Он не произнес его устами, а передал Исиде из сердца в сердце, поэтому сокровенного имени Ра никто, кроме Исиды, не узнал. И когда он сообщил его, Исида, великая чарами, сказала:
– Вытекай, яд, выходи из Ра. Я заставляю упасть яд на землю, ибо он побежден!
Отныне, зная сокровенное имя Ра, Исида обрела великое могущество, которым могла наделить своего сына Гора.
В долгую борьбу с Сетом Гор вступил, едва став взрослым юношей. И эта битва уже никогда не прекращалась. В одном из сражений Сету удалось вырвать глаз Гора. Злодей разрубил Око на шестьдесят четыре части и разбросал их по всему Египту.
Тогда на помощь Гору пришел Тот. Он отыскал все части изрубленного глаза, срастил их и вернул юноше исцеленное Око Уаджет. Заполучив его, Гор отправился к мумии Осириса и дал ей проглотить Око.
Воскрес Осирис, свершилось великое событие! Но на беду бог не мог оставаться на земле.
По воле судеб он должен был уйти в Дуат и стать царем потустороннего мира, властвуя там, как он властвовал в Египте, когда унаследовал трон Геба. Но перед тем как навсегда удалиться в Дуат, Осирис подверг своего сына испытанию, дабы увериться, что Гор готов вступить в борьбу с могущественным Сетом.
– Какой из поступков, по‑твоему, является самым благородным? – был первый вопрос Осириса.
– Помочь невинно пострадавшему, – без раздумий ответил Гор.
– Какое из животных, участвующих в сражении, ты считаешь самым полезным? – задал Осирис второй вопрос.
– Самое полезное животное – это конь, – сказал Гор.
– Почему же конь? – удивился Осирис. – Почему ты назвал не льва, а коня? Ведь самый могучий из зверей – лев.
– Лев нужен тому, кто защищается, – уверенно ответил Гор. – А конь преследует убегающего неприятеля.
Довольный ответом сына, Осирис воскликнул:
– Воистину, ты готов к битве! Иди же и повергни Сета.
Это были последние слова великого бога, сказанные им на земле. Произнеся их как великое напутствие, он навечно удалился в Дуат.
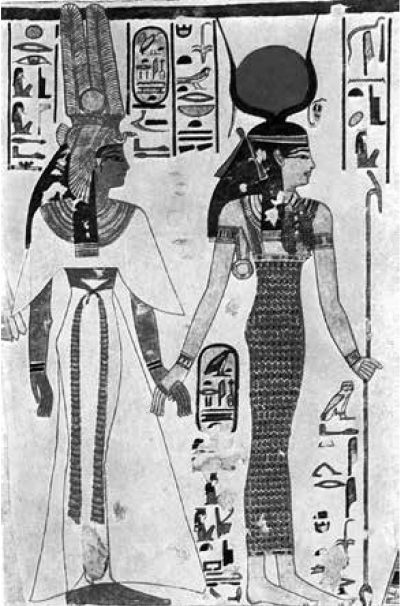
Исида и царица Нефертари. Роспись в гробнице Нефертари в Фивах. XIX династия
Осирис умер и воскрес! И с тех пор, подобно ему, в загробном царстве воскресает каждый умерший египтянин, если его тело мумифицируют и сохраняют, как некогда Исида сохранила тело Осириса от тления. Отныне, подобно Осирису, каждую весну воскресает и чудотворная природа.
Обретя божественную силу, Гор решил первым делом отомстить за отца. Не раз он вступал в битву с Сетом и неизменно его побеждал. В одном из поединков он изрубил тело Сета на мелкие куски, но покончить с красногривым богом никак не удавалось: тот всякий раз оживлял свое тело и восстанавливал силы.
Гор считал, что трон Осириса и сан владыки Египта по праву принадлежат ему, однако Сет всякий раз отказывался добровольно уступить власть. После многочисленных битв Сет и Гор наконец решили обратиться к суду богов: пусть Ра и Великая Эннеада разрешат спор, длившийся к этому времени уже восемьдесят лет.
И вот Гор сидит перед солнечным богом Ра, требуя царский трон, как истинный наследник отца своего, Осириса.
– Владыка, – начал Тот, непременный участник любого суда, – в твоей воле решить, кому из соперников вручить это Око и тем самым сделать его властителем Обеих земель.
– Справедливость – могучая сила! – поддержал мудреца Шу. – Сотвори же ее, о Ра, отдав сан Гору.
– Это миллион раз верно, – сказал Тот и повернулся к Девятке, ища поддержки у остальных богов.
– Подношение Ока Гору подтвердит беспристрастность Девятки, – повторил бог ветра Шу.
Почуяв, что все боги приняли сторону ее сына, Исида воскликнула:
– Титул владыки достается Гору!
Боги возрадовались, решив, что многолетняя распря Сета и Гора отныне будет завершена. Но неожиданно Ра воскликнул в гневе:
– Что я слышу?! Вы судите, не спросив даже меня, величайшего из богов? Так я скажу, что Око Уаджет следует отдать Сету. Гор, сын Исиды, великой чарами, еще слишком молод для того, чтобы царствовать. К тому же он незаконный сын Осириса, ибо родился уже после его смерти.
Но Великая Эннеада настаивала на своем:
– Ради мира и благополучия пусть Тот возьмет картуш для Гора и возложит ему на голову корону!
Ра замолчал, яростно глядя в лица богам. Молчание тянулось долго – безысходное и зловещее. Но вот заговорил Сет.
– Вели, о Ра, Гору выйти со мной, – предложил он, чтобы помирить спорщиков, – мы будем сражаться, и я докажу, что более достоин сана владыки.
– Нет, этот способ не годится! – возразил справедливый Тот. – Правосудие должно быть превыше силы! Боги! Неужели сан Осириса будет отдан Сету, в то время как здесь, перед нами, родной сын Осириса?
И снова воцарилось молчание. На этот раз его нарушил воинственный бог Онурис.
– Что же нам делать, боги?! – воскликнул он. – Так мы никогда не сможем прийти к согласию.
– Пусть призовут Банебджедета, живого бога, дабы он рассудил обоих претендентов, – посоветовал Атум.
Так и решили. Бог плодородия Банебджедет жил на одном из островов у первых порогов Нила. За ним тут же послали гонцов и привели в собрание. Боги сказали:
– Рассуди этих двух юношей, Банебджедет, чтобы избежать постоянных споров.
Банебджедет надолго задумался и наконец промолвил:
– Трудную вы мне задали задачу. Давайте не будем принимать решение по неведению нашему. Отправим послание к великой Нейт – богине войны, охоты, воды и моря. Как она скажет – так и поступим.
– Что ж, – согласилась боги, – пусть Тот составит послание к великой Нейт от имени владыки всего сущего.
Послание было отправлено, и вскоре быстроногие гонцы принесли ответ Нейт: «Отдайте сан Осириса его сыну Гору, не совершайте большой ошибки. Иначе я разгневаюсь и небо упадет на землю. А Сету взамен пусть великий Ра отдаст в жены двух своих дочерей – Анат и Астарту, а также удвоит его владения на земле».
Когда Тот зачитал это послание, боги воскликнули в один голос:
– Богиня права, это справедливо!
– Нет! – снова ответствовал Ра и повернулся к Гору. – Этот сан слишком высок для тебя, юноша. Ты слишком слаб, чтоб царствовать.
Слова солнечного бога смутили богов. Демон Бабаи не выдержал, встал и гневно бросил в лицо Ра:
– Знай, пусто твое святилище!
Это было уже слишком! Отвернувшись от богов, Ра лег на землю и заявил, что отныне он вообще отказывается разговаривать с кем‑либо из Эннеады.
И тут боги вознегодовали:
– Удались прочь отсюда, Бабаи! Преступление, содеянное тобой, весьма велико.
Напуганный собственной дерзостью, Бабаи безропотно подчинился. А боги, видя, что о продолжении суда теперь не может быть и речи, тихо разошлись.
В течение многих дней суд не собирался. Ра лежал в уединении, и сердце его было в великой печали. На помощь Девятке пришла дочь солнечного бога, богиня Хатхор. Представ перед своим отцом, она открыла перед ним свою наготу и околдовала волшебными чарами. Ра забыл об оскорблении Бабаи и рассмеялся.
Великая Девятка вновь собралась на суд. Боги предложили Сету и Гору:
– Говорите о себе.
И тогда Сет сказал:
– Я могуч и непобедим. Я стою впереди Ладьи Вечности и ежедневно поражаю врагов Ра! Я уничтожаю Апопа. Ни один из богов не может со мной сравниться! Поэтому сан Осириса должен достаться мне.
Кроме того, Сет недвусмысленно дал понять: если сан все‑таки достанется Гору, он, Сет, перестанет сражаться с Апопом и сам ополчится против Ладьи Вечности.
– Это не должно случиться! – воскликнули боги, напуганные угрозой. Но Онурис и Тот возмутились:
– Неужели сан будет отдан брату по матери, когда есть сын по плоти?!
– А неужели сан будет отдан юнцу, в то время как есть старший брат Сет? – ехидно возразил Банебджедет.
Ра присоединился к Банебджедету и по праву главного не замедлил сделать богам едкое и оскорбительное замечание. Услыхав, как отозвался о них солнечный бог, боги Эннеады не поверили своим ушам, воскликнув:
– Что это за слова, которые ты сказал?! Они недостойны быть ни произнесенными, ни услышанными!
Возникло замешательство. Гор в отчаянии воскликнул:
– Это несправедливо, если сан отца моего Осириса будет отнят и передан другому!
– Да! – закричала Исида. – Как слышит моя мать, богиня Нейт, и Птах, высокий перьями, сгибающий рога богов, так будут доведены эти слова великому владыке Атуму и Хепри – олицетворению утреннего солнца!
Услышав такие слова, Сет окончательно рассвирепел и обрушился на богов с угрозами:
– Если так, то я схвачу свой тяжелый скипетр и буду убивать по одному из вас каждый день!
А еще он поклялся Ра, что, пока Исида находится в суде, он, Сет, отказывается принимать в нем участие.
После угрозы Сета владыка Вселенной долго раздумывал над сложившейся ситуацией. Наконец он согласился с требованием Сета и приказал Эннеаде переплыть Нил и продолжить разбирательство на одном из островов, но с одним условием: Исида должна остаться на берегу. По прибытии на остров перевозчику Анти было сказано:
– Не перевози на остров никакой женщины, особенно похожей на Исиду, иначе мы тебя сурово покараем.
После этого боги удалились в пальмовую рощу и начали готовиться к следующему заседанию. Тем временем Исида приняла облик старухи, надела на палец золотое колечко и, хромая, подошла к переправе, где в ожидании путников дремал в своей лодчонке Анти.
– Доставь меня на остров, – попросила Исида. – Я несу еду юноше, который смотрит за скотом. Он там уже пять дней и сильно проголодался.
– Мне приказано не перевозить никаких женщин, – хмуро ответил Анти.
– Но ведь этот приказ касается только Исиды, а я – старуха. Ты только посмотри на меня!
Анти подумал и спросил:
– А что ты мне дашь, если я выполню твою просьбу?
– Возьмешь золотое кольцо, которое у меня на пальце? – спросила Исида.
Глаза Анти вспыхнули жадным блеском.
– Давай кольцо! – согласился он, посчитав, что ничем не рискует.
Переправившись на остров, Исида укрылась в зарослях акации и стала наблюдать за отдыхающей Девяткой. Среди богов она увидела и ненавистного Сета. Исида произнесла магическое заклинание, обернулась прекрасной девушкой и вышла из своего укрытия.
Едва увидав красавицу, Сет сразу воспылал к ней страстью. Оставив богов, он подошел к Исиде и сказал:
– Я здесь, чудная незнакомка!
– Мой господин, – кротко сказала Исида, – я была женой пастуха и родила сына, а он затем взял скот своего отца. Но однажды пришел чужеземец и так сказал моему сыну: «Я побью тебя, отниму скот твоего отца и выгоню тебя вон!» Так вот, я хочу, чтобы ты рассудил, прав ли наш обидчик.
Желая заслужить благосклонность девушки, Сет сделал возмущенное лицо, воздел руки к небу и воскликнул с негодованием:
– Чужеземец поступил несправедливо! Как можно отдать ему скот при живом сыне хозяина?
В тот же миг Исида приняла облик самки коршуна и с возгласами взлетела с земли. Усевшись на верхушку акации, она крикнула Сету:
– Плачь о себе! Ибо вот твои собственные уста сказали это и твой собственный разум осудил тебя!
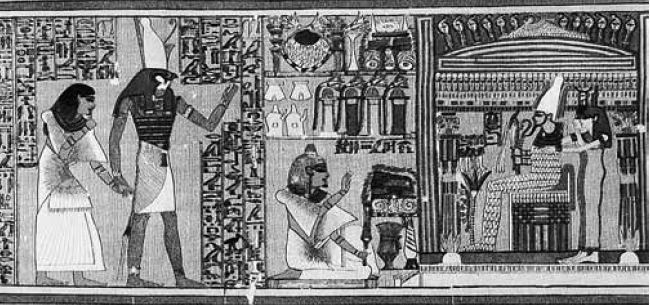
Гор ведет умершего к трону Осириса. Рисунок из «Книги мертвых» Ани. Ок. 1450 г. до н. э.
Возмущенный и обиженный Сет отправился к Ра.
– Эта злая женщина обманула меня, – сказал он и поведал солнечному богу о случившемся. Ра озабоченно промолвил:
– Что же теперь тебе делать? Ведь ты осудил сам себя!
– Пусть приведут перевозчика Анти и жестоко его накажут, – сказал Сет.
Боги согласилась. Привели Анти и хорошенько избили его палкой. С тех пор Анти проклял золото, и в тех селениях, где чтут перевозчика, на золото наложено табу.
После такого поворота событий Девятка решила переправиться на западный берег Нила, чтобы продолжить суд в горах. Теперь уже Ра, видевший конфуз Сета, вынужден был признать его полное поражение. Поэтому он сказал богам:
– До каких пор вы будете заседать без толку? Если так пойдет дальше, эти соискатели и дни свои закончат в суде. Возложите корону на голову Гора, сына Исиды, и возведите его на место отца Осириса.
– Нет, этого не будет! – воскликнул Сет и снова обрушился на богов с угрозами. Но те спокойно ответили:
– Уйми свой гнев, Сет. Разве не должно поступать согласно тому, что сказали Атум и Ра?
Сказав это, боги под негодующие вопли Сета увенчали Гора белой короной Верхнего Египта.
– Остановитесь! – закричал Сет. – Неужели сан будет отдан младшему в обход старшего?! Снимите корону с головы Гора!
Ра нехотя снял корону с головы сына Исиды, а Сет, обращаясь к нему, сказал:
– Давайте решим наш спор честным поединком: обернемся гиппопотамами и бросимся в Нил. Кто вынырнет раньше, чем пройдет три месяца, будет считаться проигравшим, а его противник получит сан владыки.
Не колеблясь, Гор принял вызов. Оба тут же обернулись гиппопотамами и нырнули в пучину.
Увидев это, Исида испугалась: ведь облик злобного гиппопотама – родной для Сета. Он может попросту убить Гора под водой! Не мешкая богиня изготовила гарпун, привязала его к веревке и изо всей силы бросила в воду. Но на беду промахнулась: гарпун вонзился прямо в Гора.
– О мать моя! – закричал Гор. – Призови свой гарпун, пусть он отпустит меня! Это ведь я, Гор, твой сын!
У Исиды похолодело сердце: она поняла, что по ошибке ранила сына. И богиня приказала гарпуну:
– Отцепись от него, это сын мой Гор!
Гарпун отцепился, Исида вытащила его, размахнулась и снова бросила в воду. На этот раз удар оказался точным – горячая медь впилась в тело Сета.
– Что я сделал, сестра моя Исида? – взмолился раненый бог. – Позови свой гарпун, да отпустит он меня, ибо я брат твой по матери, Исида!
Дрогнуло сердце доброй Исиды, пожалела она Сета и сказала гарпуну:
– Отцепись от него. Тот, в кого ты попал, мой единоутробный брат.
Теперь уже на мать разгневался Гор. Он вынырнул из воды с лицом разъяренным, как у пантеры Юга. В руке он держал тяжелый топор. Исида даже вскрикнуть не успела, как Гор одним ударом отсек ей голову.
Тогда Исида приняла облик каменной статуи без головы. Испугавшись содеянного в пылу гнева преступления, Гор схватил голову матери, убежал в западные горы и спрятался в одном из ущелий.
Тем временем Ра, увидев каменную статую, спросил Тота:
– Кто эта недвижная, у которой нет головы?
– Это Исида, – сказал Тот. – Гор отрубил ей голову.
Солнечный бог ужаснулся и воскликнул громовым голосом:
– За мной, боги, мы строго накажем Гора!
И Эннеада отправилась на западный берег искать беглеца. Боги разбрелись по расщелинам, а Сет, оставшись один, быстро нашел своего врага, повалил на землю, вырвал оба глаза и закопал их на горе. Но глазные яблоки, став луковицами, проросли цветами лотоса. Вернувшись к богам, Сет солгал Ра:
– Я не нашел Гора.
– Тогда я найду его, – сказала Хатхор и отправилась в пустыню. Вскоре ей удалось найти сына Исиды. Хатхор поймала газель, подоила ее, затем влила свежее молоко в глазницы Гора, и тот сразу прозрел. В сопровождении дочери Ра он вернулся к богам, и те сказали так:
– Пусть призовут Гора и Сета на суд.
Уставший Ра долго молчал, а затем сказал, обращаясь к Сету и Гору:
– Слушайте, что я вам скажу. Делайте что хотите, но дайте нам покой. Сколько можно терпеть ваше соперничество?!
– Согласен, – сказал Сет и дружелюбно предложил Гору: – Приглашаю тебя к себе домой. Мы проведем прекрасный день и хорошо отдохнем.
– Поистине, я так и сделаю, – сказал Гор.

Гор (слева) и Сет. Ок. 1950 до н. э.
В течение всего дня Сет и Гор пировали и веселились. Когда же пришла пора сна, слуга Сета постелил широкое ложе и боги улеглись вместе. Гор наивно полагал, что дружелюбие Сета искреннее. Он и не подозревал, что Сет заманил его к себе в дом с коварным расчетом: изнасиловать его и тем самым навсегда опозорить перед богами.
Едва Гор уснул, Сет набросился на него, пытаясь им овладеть. Но Гор перехитрил своего врага. Он не стал сопротивляться и вступать в борьбу. Пользуясь темнотой, он незаметно взял детородный орган Сета в свою руку, собрал семя в ладонь и только после этого уснул. Коварный Сет был в полном убеждении, что ему удалось осуществить свой замысел. Гор же рано утром отправился к Исиде и сказал:
– Приди ко мне, Исида, мать моя, приди и посмотри, что сделал со мной Сет.
С этими словами он раскрыл ладонь и показал матери семя Сета. Исида тотчас схватила медный нож, отрубила Гору оскверненную руку и выбросила ее в воду. Вместо отрубленной руки она тут же сотворила новую.
Собрав семя Гора в глиняный кувшин, богиня отправилась к дому Сета и обратилась к его садовнику:
– Какие овощи ест твой хозяин?
– Он ест только латук, – ответил садовник. Исида полила латук семенем Гора, и Сет с удовольствием съел его за обедом.
На следующий день боги опять собрались на суд. Сет, смеясь, объявил Девятке:
– Отдайте сан правителя мне. Мой враг недостоин этого. Я овладел Гором и опозорил его достоинство.
Тут боги Девятки подняли крик, глумясь над униженным Гором и осыпая его насмешками. Гор же, поклявшись именем бога, сказал:
– Все, что здесь сказал Сет – ложь. Вызовите семя Сета, и мы посмотрим, откуда оно ответит. И пусть вызовут мое семя, и мы посмотрим, откуда оно откликнется.
Смех тотчас прекратился, и все замолчали. Тогда мудрец Тот возложил руку на плечо Гора и приказал:
– Семя Сета, выйди наружу!
Но семя ответило из глубины болота. Тогда Тот возложил руку на плечо Сета и сказал:
– Семя Гора, выйди наружу!
– Каким путем ты приказываешь мне выйти? – раздалось из чрева Сета.
– Выйди через лоб Сета, – сказал мудрый Тот, и семя Гора в то же мгновение появилось на лбу Сета в виде золотого диска.
Боги дружно расхохотались, а Сет, вне себя от ярости, протянул руку, чтобы сорвать золотой диск. Но Тот сам его забрал и возложил себе на голову как корону.
– Прав Гор, и не прав Сет, – смеясь, сказали боги. А Сет рассвирепел еще больше:
– Клянусь именем бога, не будет Гору сана, пока мы не померяемся силами еще раз. Мы построим себе каменные ладьи и оба поплывем наперегонки. Тому, кто одолеет соперника, и будет отдан титул владыки.
Готовясь к состязанию, Гор пошел на хитрость. Он построил себе ладью из кедрового дерева, покрыл ее сверху гипсом и ночью спустил на воду, чтобы никто не заподозрил обмана. Сет, увидев ладью Гора и решив, что она сделана из камня, отправился на западный берег, отколол вершину скалы и вытесал ладью из цельной глыбы.
Наступил день состязания. Соперники уселись каждый в свою ладью и по команде взмахнули веслами. Ладья Гора легко понеслась вперед, а ладья Сета, едва отчалив от берега, ушла под воду, выпустив пузыри по водной глади. Гор издал радостный крик, решив, что выиграл состязание. Но Сет принял облик гиппопотама, догнал ладью Гора и потопил ее.
Сын Исиды в гневе схватил гарпун и хотел метнуть его в своего врага. Но боги крикнули ему с берега:
– Не бросай гарпун!
И тут терпению Гора пришел конец. Ни слова не говоря, он вытащил гарпун из воды, положил его в свою ладью и поплыл на север в Саис, к великой Нейт – богине войны, охоты и матери всех крокодилов.
Приплыв в Саис, Гор сказал Нейт:
– Сделай так, чтобы нас с Сетом рассудили. Мы спорим уже восемьдесят лет, и никому неведом приговор. Сет не был признан правым по отношению ко мне, а вот я тысячу раз прав перед ним. Сколько мы ни состязались, сколько ни мерились силами, я всегда одерживал победу. Великая Девятка богов признала мою правоту, но Сет не желает с этим считаться.
Узнав о жалобе, с которой Гор обратился к Нейт, мудрец Тот сказал Владыке Всего Сущего Ра:
– Обратимся за помощью к Осирису. Пусть он вынесет приговор.
И солнечный бог, подумав, согласился, ибо это было правильное решение.
Согласившись выведать у Осириса праведный приговор, Ра решил это сделать с помощью послания. Был вызван мудрый Тот, который и составил искомый документ. В нем говорилось:
«Лев, Защитник богов, Покоритель Обеих земель, создатель людей в изначальное время, царь Верхнего и Нижнего Египта, Бык, пребывающий в Гелиополе – да будешь ты жив, невредим, здрав!
Сын Птаха, Дающий плодородие Обеим землям, воссиявший как отец всей Эннеады, питающийся золотом и драгоценными камнями, извести нас, как поступить с Гором и Сетом, чтобы мы не приняли решения в неведении своем».
Когда Осирису прочли послание Тота, бог испустил негодующий вопль и тотчас отправил ответ.
«Почему обманут мой сын Гор? – вопрошал Осирис. – Ведь я сделал вас могущественными, я создал ячмень и полбу, чтобы питать богов, равно как и стада, сотворенные после богов. Ни один бог, ни одна богиня не сумели этого сделать!»
Послание Осириса было зачитано всем собравшимся, после чего солнечный бог сказал Тоту:
– Составь тотчас же ответное послание к Осирису. Скажи ему: «Тебя еще не было, ты еще не родился, а ячмень и полба уже были».
Ответ не заставил себя ждать.
«Ты – великий бог, – обращался Осирис к Ра. – Ты создал Эннеаду. Но я пребываю в Дуате, и боги, меня окружающие, не боятся никакого земного бога, ибо они подвластны только мне одному! Если я прикажу, они доставят мне сердце любого, кто содеял зло, и он предстанет перед моим судом. Так кто из богов могущественнее меня?»
Выслушав ответ Осириса, боги вынуждены были признать его правоту. Сет проиграл тяжбу.
Но гордость не позволяла ему предпочесть открытый суд состязанию. Он потребовал, чтобы его и Гора доставили на Срединный остров. Требование Сета было выполнено, и соперники переправились на остров. Гор выиграл последнее состязание, и суд признал его окончательную победу.
Оставалось решить судьбу Сета. И тогда Атум сказал:
– Пусть Исида закует Сета в колодки, свяжет и приведет к нам, чтобы мы решили, как с ним поступить.
Исида не заставила просить себя дважды. И вот, закованный словно узник, Сет предстал перед Великой Девяткой.
– Почему ты воспрепятствовал воле суда? – грозно спросил его Атум. – Мы признали Гора правым перед тобой, но ты отказался подчиниться и потребовал, чтобы тебе дали состязаться с Гором на острове. Почему ты хотел присвоить сан Гора?
– Вовсе нет, мой господин, – кротко склонил голову Сет. – Я не препятствовал воле суда. Пусть призовут Гора, сына Исиды, и передадут ему сан его отца Осириса.
Привели Гора и под общее ликование увенчали его короной владыки.
– Ты благой царь Египта, – торжественно провозгласили боги, обращаясь к Гору. – Ты добрый владыка – да будешь ты жив, невредим, здрав во всех землях во веки веков.
– Но как же нам поступить с Сетом? – спросил Птах – воплощение бога‑творца.
– Пусть отдадут его мне, – ответил Ра. – Да будет он восседать вместе со мной и станет мне сыном, пусть он гремит в небесах и устрашает всех. А сан владыки достанется Гору. Ликуйте же и падите ниц перед ним!
Вступив в права земного владыки, Гор объединил Север и Юг – Нижний и Верхний Египет и получил титул Харсомт – Гор – объединитель Обеих земель. Он восстановил миропорядок Маат и правосудие, заново отстроил храмы и святилища, разрушенные Сетом.
Когда же кончился золотой век, престол перешел к земным воплощениям Гора – египетским фараонам. А Гор после трехсот лет царствования, оставив трон на попечение великих правителей Египта, присоединился к свите Ра в Ладье Вечности.
Индию называют землей чудес, таящей тайны прошлого и настоящего. Традиции этой удивительной страны одни из древнейших на земле. Не случайно здесь до сих пор сохранились многочисленные храмы, где индусы поклоняются тем же богам, которых чтили их предки тысячи лет назад, вознося свои гимны на праязыке санскрите.
Загадочна и древняя индийская мифология, которая, в отличие от античной, и по сей день остается малоизученной, по крайней мере для большинства европейцев. Многообразие сюжетов и образов запечатлено в циклах, охватывающих огромный период, из‑за чего, собственно, в них и отсутствует единая система воззрений на мир. За это время исчезали старые и возникали новые космогонические и религиозные идеи, уходили в прошлое культы древнейших божеств, менялось содержание мифологических образов.
Самые древние гимны о возникновении мира и борьбе богов именуют Ведами – священным знанием, которое по той же традиции имеет божественное происхождение. Память о легендарных событиях минувших эпох сохраняется и в десятках тысяч двустиший эпических поэм.
Одной из характерных черт ведической религии является политеизм – поклонение многим богам, которых обычно наделяют свойствами человека. Индиец эпохи Вед обожествлял силы природы, одушевлял растения, горы и реки. Чтобы завоевать расположение богов, им приносили жертвы, молили о помощи, потомстве и богатстве. Кроме того, ведические тексты отражают богатый духовный мир индийцев, которые легко ориентировались в сложных космогонических теориях.
В индуизме на первый план выдвигается бог‑творец, устанавливается строгая иерархия в пантеоне. Особую роль играют культы богов Брахмы, Вишну и Шивы. Так сложилась триада (тримурти) главных божеств, воспринимаемая как проявление единого высшего начала. Брахма считался создателем и управителем мира, ему принадлежало и установление на земле социальных законов (дхарма). Затем в тримурти особую роль стали играть бог‑охранитель Вишну и бог‑разрушитель Шива, что привело к появлению двух основных направлений в индуизме – вишнуизма и шиваизма. Это разделение было закреплено в текстах пуран – главных памятниках индуистской мысли, которые сложились в первые века нашей эры.
Из тьмы первозданного недвижного хаоса раньше иных творений возникли воды. Они породили огонь. Великой силой тепла в хаосе родилось Золотое яйцо. Оно плавало в океане, у которого не было ни глубины, ни ширины, ни поверхности, ни дна. В чудесном яйце спал и набирался сил прародитель Брахма.
Наконец настало время пробуждения. Самой первой возникла мысль древнейшего из богов. Ее сила была так велика, что она смогла разделить само космическое яйцо. Одна половинка стала сушей с горами и равнинами, реками и морями, а другая – небом со звездами. Между ними Брахма поместил воздушное пространство. Он утвердил землю среди вод, создал страны света и положил начало времени. Так была сотворена Вселенная.
В одно прекрасное время оглянулся вокруг Брахма, и стало ему скучно и даже немного страшно оттого, что был он в создаваемом мире совсем один. Брахма глубоко вдохнул воздух, а затем выдохнул. Из этого дыхания возникли духи‑асуры – добрые и злые. С каждым выдохом их становилось все больше, и чтобы как‑то разместиться, они построили себе крепости на небе, земле и под водой.
Далее творец мира подумал о том, что плохо будет во Вселенной, если ее заселят только духи. Поэтому он решил создать богов. Снова напряг силу своей мысли Брахма и заставил богов рождаться из собственных органов.
Первым появился на свет Маричи, рожденный из души творца.
Из глаз прародителя родился второй сын – Атри.
Третий сын Ангирас явился из уст Брахмы.
Четвертый сын Пуластья – из правого уха.
Пятый сын Пулаха появился из левого уха.
Шестой сын Крату возник из ноздрей прародителя.
Сыном старшего сына Маричи был мудрый Кашьяпа, от которого произошли боги, демоны, люди, птицы, змеи, исполины и чудовища, жрецы и коровы и многие другие существа божественной и демонической природы. Они населили небеса, землю и подземные миры.

Вишну. Фрагмент барельефа. XI в.
Атри, второй из сыновей Брахмы, породил Дхарму, ставшего богом справедливости; Ангирас, третий сын, положил начало роду святых мудрецов Ангирасов, старшими из которых были Брихаспати, Утатхья и Самварта.
Седьмым из владык созданий был Дакша. Он вышел из большого пальца правой ноги прародителя. Из пальца на левой ноге у Брахмы родилась дочь; имя ее – Вирини, что означает «ночь» – она стала женой Дакши. У Ночи было пятьдесят дочерей; тринадцать из них Дакша отдал в жены Кашьяпе, двадцать семь – Соме, богу луны. Последние божества стали двадцатью семью созвездиями на небе.
Десять дочерей Дакши стали женами Дхармы. И еще родились у Дакши дочери, коим определено было стать женами богов и великих мудрецов. Старшая из дочерей Дакши – Дити, супруга Кашьяпы, была матерью грозных демонов – дайтьев; Дану, вторая дочь, породила могучих исполинов – данавов. У третьей, Адити, родились двенадцать светлых сыновей‑адитьев, великих богов.
Варуна стал богом океана, Индра – богом грозы и грома, Вивасват – богом солнца, его еще называют Сурья. Эти боги были самыми могущественными. Но всех превзошел славой младший из сыновей Адити Вишну – хранитель мироздания, владыка пространства.
Прошло много лет и зим, и Брахма потерял счет своим потомкам. Ему некогда было считать своих внуков и правнуков, потому что он упорядочивал жизнь на земле с ее людьми, растениями, животными и птицами.
Завершив свою работу, он передал власть над мирами богам и асурам. А сам, утомленный творением, лег отдыхать под сенью священного шелковичного дерева. Отныне отдых Брахмы, его «день», будет длиться миллиарды лет, пока не придет «ночь Брахмы» и созданный им мир вновь не станет огромной массой воды, которой придется ждать своего часа, рождения нового мирового яйца и появления нового творца Брахмы.
Тогда же в начале творения не было ничего живого, кроме первочеловека – тысячеголового, тысячеглазого, тысяченогого гиганта Пуруши. Лежал он, прикрыв землю своим огромным телом, возвышаясь над всем пространством. Собственно, он и был Вселенной, которая была и которая будет всегда.
Подступили к Пуруше боги, привязали, как животное при жертвоприношении, облили маслом и разделили на части. Его рот стал брахманом (жрецом), руки сделались кшатрием (воином), бедра – вайшьей (земледельцем, торговцем), из ступней ног возник шудра (помощник). Луна родилась из его души; из глаз – солнце; из уст – Индра и Агни; из дыхания родился ветер; из пупка – воздушное пространство, из головы – небо, из ног – почва, из уха – стороны света. Так из первочеловека возникли все обозримые миры и сущности.
Особое место в пантеоне занимали асуры – сыновья Дити и Дану. Они были старшими братьями богов, могучими, мудрыми, ведавшими тайнами волшебства – например, они могли принимать разные образы или становиться невидимыми. Еще асуры обладали несметными сокровищами, хранившимися в горных пещерах. Были у братьев и укрепленные города – сначала на небе, затем на земле; их они впоследствии соединили в один город, возвышающийся высоко над землей. Имелись города и в подземном царстве.
Восьмым сыном творца был Бхригу, родившийся из кожи Брахмы. В свою очередь сын Бхригу – мудрейший Ушанас Кавья постиг все тайны чародейства, стал верховным жрецом и наставником асуров.
Царствовал над асурами Хираньякашипу, могущественный демон, старший из сыновей Дити. Боги же избрали своим царем Индру, седьмого сына Адити. Ушанас стал владыкою планеты, носящей то же имя, а Брихаспати стал владыкою одноименной планеты.
В ранние времена асуры были добродетельны и соблюдали священные обряды. Но после того как они возгордились своими силой и мудростью и перешли на сторону зла, счастье покинуло их и перешло к богам.
Индра, властитель богов, сокрушил в битвах многих могучих асуров. Грозный бог Рудра, порождение гнева Брахмы, довершил их разгром, испепелив волшебные города, вознесенные над землей.
Восемь блистательных богов были явлены на исходе творения. Самым могущественным был Агни, он и стал предводителем свиты Индры, царя богов. Когда Агни появился на свет, боги замыслили учредить жертвоприношение, желая, чтобы Агни стал их жрецом. Но Агни устрашился этой миссии, сказав: «Когда я вознесу жертву и догорит жертвенный огонь, кончится и жизнь моя». И он бежал от богов, спрятавшись в водах.
Когда Агни скрылся, тотчас воспрянули духом демоны, ибо не стало огней на земле, разгоняющих ночной мрак, и ночь была отдана демонам в безраздельное владение. «Мы должны найти Агни», – сказали боги и во главе с Варуной, владыкой ночи и вод, отправились на поиски пропавшего божества.
Место, где находился Агни, выдала богам Рыба – ей было не по себе от жара, который сделал воду горячей. Разгневанный Агни проклял ее, и силой проклятия рыба с той поры стала законной добычей людей.
Тогда воззвал к Агни Варуна:
– Вернись! Ману, уцелевший после потопа, должен свершить жертвоприношение, чтобы продолжить человеческий род на земле. Кто же, кроме тебя, вознесет его жертву богам?
На это Агни отвечал:
– Уже гасли жертвенные огни на земле. Из страха гибели я бежал, как буйвол от стрелы охотника. Я вернусь, если вы одарите меня бессмертием.
Боги сказали:
– Ты будешь нашим бессмертным жрецом, о Агни, такова милость Брахмы. Никогда не будет тебе ущерба при обряде, жертва будет принадлежать тебе, а Вселенная станет вечно тебя почитать.
И Агни вернулся, став по воле богов владыкой жертвоприношений.
Седьмым сыном Адити был Индра, а восьмым – Вивасват. На беду восьмой сын Адити родился безобразным – без рук, без ног, к тому же рост его был равен его толщине. Сначала Вивасвата не признали равным семерым братьям‑богам, но затем старшие братья Митра, Варуна и Бхага сказали:
– Он не похож на нас, и это никуда не годится. Давайте переделаем его.
Переделали по‑своему мудро: отсекли все лишнее, в результате чего и возник человек. Так Вивасват стал прародителем смертных. Впрочем, позднее он все же обрел божественную сущность и как бог солнца именовался Сурья.
А пока старец Тваштар – творец всех существ и форм – выдал за Вивасвата свою дочь Саранью. Правда, девушка не хотела идти замуж за человека, но воля отца была для нее священна. Вскоре она родила Вивасвату близнецов – сына и дочь по имени Яма и Ями.
И все же гордая Саранью не могла смириться с участью супруги в доме неравного ей человека. Она сотворила женщину, которая была подобна ей обликом, и оставила вместо себя в доме Вивасвата, поручив своих детей. Сама же вернулась в дом отца. Но Тваштар не принял непокорную дочь.
– Ступай обратно в дом мужа, – повелел он ей.
В отчаянии Саранью обернулась кобылицей с огнедышащей пастью и ускакала в северные страны.

Бог солнца Сурья. XIII в.
Сначала Вивасват не заметил подмены. Мнимая жена родила ему сына по имени Ману, того самого Maнy, от которого происходят все люди. И еще родились у супругов сын по имени Шани, взошедший звездою на небо, а также дочь Тапати. Но покой в семье длился недолго, ибо подмененная супруга так и не стала настоящей матерью детям Саранью. Как‑то раз Яма, выведенный из себя ее постоянными нападками, пригрозил непременным наказанием.
– Да как ты смеешь угрожать супруге своего отца, женщине, которую ты должен почитать! – воскликнула мачеха и прокляла Яму.
Опечаленный Яма пошел к отцу.
– Мать не балует нас любовью, – пожаловался он. – Младших она ласкает, а мы с сестрой не видим от нее добра. Может ли мать проклясть собственного сына, хотя бы и провинившегося перед ней? Но она прокляла меня, и я отныне не считаю ее матерью. Прости меня, отец, за мое прегрешение и огради от ее проклятья!
Вивасват отвечал Яме:
– Гнев одолел тебя, и ты, мой праведный сын, преступил закон справедливости, закон дхармы. Нет силы, которая могла бы отвратить проклятие матери. Но я сделаю так, чтобы оно не было для тебя слишком тяжким.
Затем он обратился к матери Maнy и спросил:
– Почему ты не можешь быть беспристрастна к детям моим, которые все равны между собой? Нет сомнения, ты не Саранью, и имя твое – Санджия, что означает «отражение». Ибо не может мать проклясть собственного сына за проступок, совершенный по детскому недомыслию.
Санджия ничего не ответила Вивасвату, и он понял, что это правда. Тогда сын Адити отправился в дом своего тестя. Узнав, что его настоящая жена бежала, приняв облик кобылицы, Вивасват сам обернулся конем и бросился ее искать.
Нашел он Саранью в далекой стране, поговорил с ней ласково, и во славу богов супруги помирились. Они воссоединились, но теперь уже в облике двух лошадей. Вскоре у них родились еще двое братьев‑близнецов по имени Насатья и Дасра, которых именуют Ашвинами – «рожденными от коня».
Ашвины стали богами сумерек и утренней и вечерней звезды. Перед рассветом, когда на исходе ночи свет борется с тьмой, они первыми из богов появляются на утреннем небе – двое могучих витязей, вечно юные и прекрасные, летящие на золотой колеснице с крылатыми конями.
Вместе с ними едет их подруга, солнечная дева Сурья – дочь бога солнца Савитара.
Когда‑то отец назначил ей быть женой Сомы, бога луны, но руки прекрасной девы домогались многие боги, и было решено, что ее получит тот, кто в беге на колесницах первым доскачет до солнца. В этом состязании первыми достигли солнца Ашвины, светлая Сурья взошла на их колесницу и стала вечной спутницей.
К людям, своим родичам, Ашвины более благосклонны, чем прочие боги, нередко спасая смертных от всяческих бед и несчастий. Ашвины мудры и обладают целительной силой; они помогают немощным, больным и увечным, а также возвращают молодость старикам.
Младшие дети Вивасвата родились богами, а старшие – Яма, Ями и Maнy – были смертными, ибо отец их был смертным при появлении на свет и только позже стал богом солнца. Яма, старший сын Вивасвата, был человеком и жил со своей сестрой на земле. Это был первый человек, который умер, открыв смертным путь в загробный мир. Милостью отца, смягчившего проклятие мачехи, он с той поры и поныне – владыка царства мертвых и блюститель закона справедливости. По тропе, проложенной предками, в его обитель уходят с земли души умерших.
А вот его брат Maнy единственный из смертных спасся во время Великого потопа, став затем прародителем человечества.
Ями считается богиней священной реки Ямуны, Шани, взошедший на небо – владыка недоброй планеты Шани. Тапати вышла замуж за царя Лунной династии, и великий герой Куру был ее сыном. Сам же Вивасват первым на земле совершил жертвоприношение и даровал людям огонь. Он послал за ним Матаришвана, духа ветра, тот принес его на землю и научил людей пользоваться этим даром небес.
Прародитель человечества Ману – сын Вивасвата, сводный брат Ямы – поселился на земле в уединенной обители близ южных гор. Однажды утром во время умывания он заметил в кувшине маленькую рыбку. Она попросила:
– Сохрани мне жизнь, и я спасу тебя.
– От чего же ты спасешь меня? – спросил удивленный Ману.
Рыбка ответила:
– Придет потоп и погубит все живые существа. Но я спасу тебя.
– Как же ты сохранишь мне жизнь?
– Пока я мала, ты держи меня в кувшине. А когда вырасту, выкопай пруд и держи меня в нем. Когда же стану очень большой, отнеси меня к морю и выпусти на волю.
Ману так и сделал. Вскоре невольница выросла и стала огромной рыбой джхаша с рогом на голове. Выпустил Ману ее в море, после чего она сказала:
– В определенный год будет потоп. Ты же сделай корабль и жди меня. А когда стихия разыграется в полную силу, взойди на корабль, и тогда я спасу тебя.

Богиня мудрости и красноречия Сарасвати. XI в.
Точно в том году, на который указала рыба, Ману построил корабль и, когда взошел на него, появилась рыба. Повинуясь ее велению, Ману привязал веревку к рогу рыбы, и она быстро повлекла судно по бушующим волнам. Исчезла земля, скрылись из глаз стороны света. Ману и рыба были единственными живыми существами в этом водном хаосе. Свирепые ветры раскачивали корабль из стороны в сторону, но рыба все плыла и плыла по водной пустыне.
Наконец пристали мореходы к высочайшей горе Хималая. Сказала рыба:
– Привяжи корабль к дереву. Но будь осторожен, вода может смыть тебя. Спускайся постепенно, вслед за спадом воды.
Ману последовал совету рыбы‑спасительницы; с тех пор это место в северных горах называется «Спуск Ману». Так потоп, погубив все существа на земле, оставил в живых лишь Ману, чтобы он мог продолжить человеческий род.
После воцарения Ямы в Нижнем царстве Брахма разделил мир между владыками четырех стран света.
Индре достался Восток, благодатный край, первым открывающийся свету. Он охраняется белым слоном Айраватой – главным из четырех мировых слонов, которые удерживают Землю. Индре служат боги адитьи, апсары (полубожественные женские существа) и гандхарвы (полубоги). В его власти планеты и звезды, ветры и облака, а также святые отшельники и доблестные цари, населяющие поля Блаженных.
Яме достался Юг – страна, охраняемая двумя чудовищными псами Шарбарами, ведущими свою родословную от быстроногой богини Сарамы. Ничто не ускользнет от их четырех глаз, обращенных к четырем странам света. Впрочем, сам Яма не знает, кто проникает в его бескрайние владения, ведь он обитает в золотом дворце, стены которого непроницаемы для воплей грешников. Слух Ямы услаждают хоры гандхарвов и апсар. Царство Ямы опирается на голову слона Махаладмы.
Варуна владеет Западом. Владыка вод живет в великолепном белом дворце на дне океана, в окружении сказочных садов. На деревьях вместо листьев и плодов – кораллы и драгоценные камни. Ни одному собирателю жемчуга не спуститься на такую глубину, не увидеть проплывающих по саду ярких рыб, не встретиться с асурами, спускающимися в царство Варуны. В его власти четыре океана, реки, ручьи и источники. Запад стережет слон Варуны Вамана.
Севером владеет Кубера, любимец Брахмы. Творец сделал его стражем скрытых в земле сокровищ и подарил ему колесницу Пушпаку, летающую по воздуху. У Куберы живот как шар, две руки, три ноги, восемь зубов и один глаз. Второй глаз Кубера утратил за позорящее бога любопытство, ибо он наблюдал за Умой, когда она оставалась наедине с Шивой. Ума прокляла Куберу, но Шива после восьми столетий покаяния простил его, ибо не хотел быть в ссоре с соседом.
Гостеприимный Кубера жил во дворце, подобно белому облаку. Его окружали якши, о внешнем виде которых никто толком не знал: их представляли то сильными прекрасными юношами, то коротконогими карликами с отвислыми животами. Так же мало знали и о других слугах Куберы – киннарах. Одни рассказывали о них как о людях с конскими головами, другие – как о птицах с головами людей.
Таковы владыки четырех частей света, назначенные Брахмой, чтобы охранять мир.
Рудра вышел из чела Брахмы, подобный пламени гнева, воплотив все разрушительные силы и устрашающую мощь богов. Мрачный, свирепый и одинокий, он удалился от всех и поселился в пустынных северных горах, на Химавате. Ему была дана власть над зверями, потому этот бог зовется также Пашупати – Владыка зверей. В облике дикого охотника, одетый в шкуры, красный, с иссиня‑черными волосами, стянутыми в узел, он скитался по горам и лесам, вооруженный черным луком и стрелами.
Но не только над зверями дарована была ему власть, и не только в горах и лесах его обитель. Он вездесущ, и все живое трепещет перед его ужасными стрелами, несущими болезни и смерть. Чтобы оградиться от гнева божества, его умилостивляют молитвами. Он насылает болезни на людей и порчу на скот, но он же и великий целитель, милостивый к тем, кто молит о пощаде. Поэтому позже люди стали называть его Шива, что значит «милостивый».
Дакша, владыка созданий, выдал за Рудру одну из своих дочерей по имени Сати. Но дружбы между Дакшой и грозным богом не получилось. Однажды гордый Дакша явился в собрание богов и небесных мудрецов. Когда он вошел, все поднялись с мест, приветствуя его; сидеть остались только Брахма и Рудра. Дакша оскорбился:
– Как мог Рудра не воздать почести мне, отцу его супруги!
И затаил бог обиду на своего зятя. В те давние времена, на исходе золотого века, Дакша учредил первое жертвоприношение во искупление греха и созвал на него богов, сыновей Адити. Но Рудру не пригласил из‑за той самой неприязни. Узнав, что Рудре не оставили доли в жертвоприношении, Сати бросилась в костер и сожгла себя, оскорбленная пренебрежением отца к ее супругу.
Великий гнев охватил Рудру. Он взял свой лук и пошел туда, где боги совершали обряд. Когда он появился, земля затряслась, закачались горы, ветер перестал дуть, огонь погас, солнце, луна и звезды померкли, и мир окутала тьма. Устрашенные боги пали ниц.
После этого Рудра пронзил жертву стрелой, и она, превратившись в антилопу, устремилась в небо, где стала созвездием Мригаширша. И поныне можно видеть на ночном небе в этом созвездии голову пронзенной стрелой антилопы, а в созвездии Ардра – дикого охотника, который гонится за ней.
Когда жертва исчезла, боги еще больше испугались. Разъяренный Рудра напал на сыновей Адити и концом своего лука нанес некоторым богам страшные раны. Разбегаясь в смятении, боги подняли такой крик, что лопнула тетива на луке Рудры. Лишь тогда они осмелились приблизиться к нему и стали молить о пощаде. Мудрому Брихаспати, сыну Ангираса, жрецу и наставнику богов, удалось умиротворить обидчика. Рудра бросил свой гнев в воду, и он стал огнем, от которого вода обратилась в пар.
Рудра тогда сказал Брахме:
– Ты сотворил меня раньше этих богов. Почему же им дана была доля в жертвоприношении, а мне – нет?
И Брахма повелел, чтобы отныне и боги, и асуры приносили жертвы Рудре, восхваляли его и почитали.
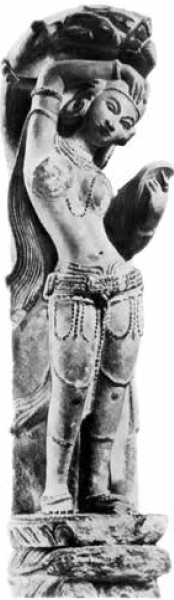
Апсара. XII в.
Грозен был великий бог Рудра, и таким же было его потомство. Всюду следовало за ним ужасное воинство исчадий – существ, обликом подобных змеям. Шипящие, дико завывающие, они носились по лесам в поисках добычи. Повинуясь воле Рудры, из дремучих лесов и гор приходили к человеческому жилью злые духи, сея невзгоды, насылая мор на людей и скот.
Иными были его сыновья, именовавшие себя Маруты – боги бури. Некогда Рудра, обратившись в быка, вступил в брак с Землей, принявшей облик пятнистой коровы. От этого брака родилось трижды семь сыновей, могучих и прекрасных. Хотя отцом их был Рудра, они стали дружиной Индры, принявшего мужей как родных детей. В золотых доспехах и шлемах, с огненными молниями в руках, отправлялись Маруты в поход на сверкающих колесницах, запряженных пятнистыми оленями. Неистовые, как буйные ветры, мчались они по небу, закрывая око солнца. И сотрясались горы, и леса склонялись в страхе, когда Маруты сопровождали Индру в его битвах с асурами и чудовищами.
Старшими детьми Кашьяпы, внука Брахмы, были асуры и боги, рожденные его тремя старшими женами. Другие жены дали жизнь существам, населившим землю, поднебесье и подземные миры. Супруга Сураса родила чудовищных драконов; Аришта стала прародительницей ворон и сов, ястребов и коршунов, попугаев и других пернатых; Вината породила гигантских солнечных птиц, Сурабхи – коров и лошадей.
От жен Кашьяпы, дочерей Дакши, произошли и другие божественные и демонические создания. Кадру стала матерью нагов, а Муни – гандхарвов. Наги – исполинские змеи – поселились в подземном мире Патала, где воздвигли себе великолепные дворцы, блистающие золотом и драгоценными камнями. Мудрый змей Васуки стал царем нагов; он правил в их подземном городе Бхогавати, полном невиданных сокровищ. Некоторые из нагов поселились в подземных водах, в реках, на дне океана, в царстве владыки ночи Варуны.
Змеи обитали и на поверхности земли, где они стерегли сокровища и клады. Царственные змеи, трехглавые, семиглавые и десятиглавые, владели несметными богатствами, а головы их были увенчаны драгоценными коронами. Змей отличали могущество и мудрость, а потому они снискали милость и дружбу богов.
Гандхарвы, сыновья Кашьяпы и Муни, жили в поднебесье. Некогда они были стражами божественного напитка сомы, но затем утратили его. Сарасвати, дочь Дакши, богиня мудрости и красноречия, сумела очаровать гандхарвов и похитила у них сому. Гандхарвы хотели оставить прекрасную Сарасвати у себя взамен утраченной сомы, но она все же ушла к богам.
Подругами гандхарвов стали апсары, прелестные девы, рожденные из вод первозданного океана. Пленив взоры богов и смертных, они стали танцовщицами в небесном царстве Индры. А сами гандхарвы, прекрасные обликом и вечно юные гении небесных пространств, стали певцами и музыкантами, услаждая слух богов звуками лютни и чудесными песнопениями. Сладкоголосые и очаровывающие, они поют на вершинах, где небожители проводят время в беззаботных развлечениях. Порой в ясную погоду перед взорами смертных предстает призрачный город гандхарвов с высокими дворцами и башнями. Говорят, что того, кто его ненароком увидит, ждет большое несчастье.
Некогда гандхарвы во главе со своим царем Вишвавасу напали на своих родичей нагов в их подземном царстве, победили их и отобрали драгоценности и сокровища. Наги попросили защиты у Вишну, тот спустился в подземный мир, изгнал оттуда гандхарвов и заставил их вернуть нагам награбленное.
Тысячеглавый вселенский змей Шеша, прозываемый также Ананта («бесконечный»), брат царя Васуки, самый огромный из змеев, стал другом и спутником Вишну. Плавая на поверхности вселенских вод, он – опора и ложе Вишну во время его отдыха.
И наги, и гандхарвы могли менять свой облик и нередко являлись среди людей в человеческом образе. Порой земные цари и герои брали себе в жены нагини – дев несравненной красоты, которые были по рождению змеями.
Некоторые сладострастные гандхарвы очень опасны для смертных женщин. Они преследуют их, соблазняя чарующим обликом и неподражаемой игрой на лютнях.
В самой сердцевине земли возвышается гора Меру. Ее вершины, недосягаемые для людей, упираются в небесный свод и отражают блеск солнца. С ее склонов, покрытых дивными деревьями и травами, сбегают вниз быстрые реки, а высочайшие ее утесы украшены сверкающими, как солнечные лучи, драгоценными камнями. Там высятся великолепные дворцы богов. Боги, асуры, гандхарвы и апсары гуляют в прекрасных рощах, предаваясь играм и развлечениям.
Но время идет неумолимо, и однажды, собравшись на горе, боги вдруг вспомнили о недугах и старости, которые неизбежны даже для небожителей.

Рама (слева) и Кришна (справа). Южная Индия
Конечно, срок их земной жизни неизмеримо велик, но и ему положен конец. «Как бы избавиться от недугов и старости навсегда и стать бессмертными и вечно молодыми?» – говорили они.
Долго думали боги, и наконец Вишну сказал:
– Ступайте вместе с асурами к великому океану и там сбивайте его, чтобы добыть амриту – напиток бессмертия.
Заключив мир с асурами, боги стали готовиться к пахтанью океана, пообещав участникам равную долю добытого напитка бессмертия.
Вместо веревки они решили взять царя змей Васуки, а мутовкой сделать гору Мандара. Эта гора высоко возвышалась над землей и настолько же глубоко уходила в землю. Сначала боги и асуры попытались вырвать гору Мандара из земных недр, но у них ничего не получилось. Тогда они пошли за советом к Брахме и Вишну, и те дали им в помощь могучего змея Шешу, брата повелителя нагов. Обладая непомерной силой, Шеша обвил своими кольцами неколебимую гору и вырвал ее из земли вместе с лесами, реками и всей обитающей на ней живностью.
С горой Мандара и змеем Васуки боги и асуры пришли к океану и просили у него позволения сбить его воды, чтобы добыть амриту. Владыка вод дал свое согласие, но за то попросил долю амриты и для себя.
Царя черепах – правителя, который держит мир на своей спине, – боги и асуры попросили спуститься на дно океана, чтобы стать опорой для горы Мандара.
Исполинская черепаха подставила спину, и боги вместе с асурами водрузили на нее подножие Мандары, а вокруг той горы обернули змея Васуки, как веревку. Ухватились асуры за голову великого змея, а боги – за хвост и начали пахтать океан.
Так продолжалось много сотен лет. Асуры и боги попеременно рывками тянули к себе тело змея, и при каждом рывке из пасти его вырывались дым и пламя. С великим шумом, подобным грому, вращалась гора Мандара, а ее вершины и склоны низвергались в воды океана. Сталкивались в полете огромные деревья с птицами и горные леса с множеством зверей. И вершина, и склоны горы окутывались губительным пламенем.
Но вот дожди погасили пожар, и соки деревьев и трав, росших на горе Мандара, излились в океан, чтобы придать амрите целебную силу. Сначала воды океана, смешанные с соками, превратились в молоко, затем молоко стало сбиваться в масло. Но амрита все не появлялась. Наконец, когда и асуры, и боги уже изнемогали от непосильного труда, появился из вод океана ясный месяц и поднялся на небосвод, сияя холодным светом. Вслед за ним вышла из океана Лакшми, богиня красоты и счастья, и предстала перед изумленными богами и асурами. Она приблизилась к Вишну и прильнула к его груди. Обратила богиня свои взоры и на возликовавших богов, а вот асуров не удостоила даже взглядом, чем вызвала их великое негодование.
Вслед за Лакшми вышла из вод океана прелестная дева Рамбха. Но ее не приняли ни боги, ни асуры, зато взяли к себе гандхарвы, поставив красавицу во главе апсар – полубогинь, духов облаков.
Затем вышла из молочного океана блистательная Сура – божество вина и хмеля. Боги приняли ее, а вот сыновья Дити и Дану – отвергли. Говорят, с тех пор они стали асурами, а боги – сурами.
Далее поднялся из волн океана чудесный белый конь Уччайхшравас – его забрал себе Индра, царь богов. Вслед за ним на поверхности вод появился Каустубха, волшебный камень, сверкающий как солнце, – он украсил грудь великого Вишну.
Следующим появился огромный белый слон Айравата, подобный облаку; и его взял себе Индра. Затем возникла Париджата – чудесное дерево, наполнившее мир благоуханием своих цветов; его тоже взял Индра в свое небесное царство, где оно стало отрадой прекрасных апсар. И наконец, вышел из моря Дханвантари, бог врачевания и исцеления, неся в руках драгоценную чашу с напитком бессмертия – амритой.
Когда асуры увидели драгоценный сосуд, они словно обезумели. С криками «Это мое!» жаждущие устремились к драгоценной чаше, и каждый хотел завладеть ею. Тогда Вишну обернулся женщиной необычайной красоты и вступил в толпу асуров. Увидев перед собой чудную деву, соперники прекратили борьбу и, смущенные явлением красавицы, отдали ей чашу с амритой.
Когда асуры опомнились и увидели, что амрита исчезла, их охватило смятение. Но боги во главе с Вишну были уже далеко и, не теряя времени, принялись по очереди пить желанную влагу. Лишь одному из асуров – дракону Раху, сыну Випрачитти, владыки данавов, удалось отведать напитка бессмертия. Приняв облик бога, он тайком подобрался к амрите, приложился к чаше, но тут солнце и месяц узнали Раху. В гневе Вишну отсек Раху голову острым сверкающим диском. Амрита между тем успела дойти Раху до горла, поэтому его голова осталась бессмертной. Она вознеслась на небо, а тело рухнуло вниз. С тех пор голова Раху остается на небе. Ненавидя солнце и месяц, она вечно преследует их, чтобы отомстить за разоблачение, время от времени хватает их своей пастью, отчего происходят солнечные и лунные затмения. А хвост Раху порой появляется на небесах в виде кометы.
Асуры между тем настигли богов, похитителей напитка бессмертия, и на берегу великого океана между ними завязалась жесточайшая битва. Враги метали друг в друга острые дротики и копья, разили тяжелыми палицами и мечами. Грозный диск Вишну, подобный испепеляющему пламени, наводил ужас на сыновей Дити и Дану.
Тысячами гибли асуры, горы поверженных тел, залитых кровью, высились на берегу океана. Но асуры не хотели сдаваться и, забравшись на небеса, обрушили оттуда на богов груды каменных глыб вместе со скалами. Но и в поднебесье настигали асуров стрелы богов и губительный диск Вишну.

Сканда, бог войны. Беллур
Не выдержав натиска богов, отступили асуры и ушли под землю и на дно океана. Боги же, одержав победу, поставили гору Мандара на прежнее место, отпустили змея Васуки в его царство и, ликуя, разошлись в свои обители, доверив Наре, сыну Дхармы, сосуд с бессмертным напитком.
После победы богов над асурами и завладения амритой Индра воцарился над всей обозримой Вселенной. Наступили счастливые времена. Тучи проливали обильные дожди, земля дарила богатые урожаи, жители миров благоденствовали, следуя стезей добродетели и долга. Цари правили по справедливости, заботясь о благе подданных, брахманы совершали предписанные обряды и исполняли благочестивые обеты в мирных обителях. Увидев, что все живые существа во Вселенной наслаждаются миром и процветанием, могучий Индра и сам преисполнился великой радости.
Счастливо правил он в своем небесном царстве, в тысячевратном городе Амаравати, полном золота и драгоценных камней. Путь в тот небесный город лежал через северные горы, до вершины Меру и от нее далее по звездной дороге. Однако для глаз грешника город небожителей был всегда невидим.
В те времена близ города зеленела дивная роща Нандана – место отдохновения богов и небесных мудрецов. У входа стоял на страже божественный слон Айравата, огромный, как облако, прародитель слонов, возникший из вод молочного океана. На нем объезжал свои владения Индра, когда во Вселенной царит мир и покой.
В самом городе построены сто великолепных дворцов, самый большой из них украшен цветками лотоса. Во дворце Индра восседает на троне под белым опахалом со своей супругой Шачи, окруженный богами и святыми мудрецами. Туда, в царство Индры, уходят герои, павшие в битве. Там простирает ветви с благоухающими цветами чудесное дерево Париджата, которое Индра добыл при пахтанье океана и подарил богине Шачи. Там вечно цветут сады, ни холод, ни жара не угнетают обитателей небесного града. Они не ведают ни старости, ни недугов, ни страха. Взоры их услаждают плясками прекрасные апсары, а гандхарвы нежат их слух восхитительными мелодиями.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.












