 «Музыкальная культура и традиции казаков Ставрополья».
«Музыкальная культура и традиции казаков Ставрополья».
«Моё родное Ставрополье –
Орлиный солнечный простор.
Люблю степей твоих раздолье,
Твои папахи Синих гор.
Люблю продутые ветрами
Твои курганы и поля,
Казачьи песни над дворами,
Где рукоплещут тополя».
Рыбалко Сергей «Моё родное Ставрополье».
Ставрополье - гордое звучное имя исконно казачьего края. Слышится в нём и музыка вольного степного ветра, оставляющего на губах привкус седого ковыля, и звон покрытых боевой славой шашек дедов и отцов, молодецкая удаль перепляса и задушевность казачьей лирики, искромётность станичной кадрили и безудержный задор частушки.
Природно-климатические и социально-культурные особенности того или иного региона наложили особый отпечаток на мелодику, интонацию и манеру исполнения песен. Все это обусловило некоторые отличительные черты и типологию песенного фольклора той или иной местности. Сложились так называемые местные традиции песенного фольклора, под которыми понимается совокупность условий бытования, черт стиля и приёмов исполнения, придающих своеобразие и характерные отличительные свойства песенному фольклору определенного народа в одной ограниченной местности.
Столетиями летят над краем, над сельскими поселениями, хуторами и станицами Ставрополья прекрасные песни. Они, как бессмертные души наши, живут среди нас, напоминая, что вечность - это память народная. Казачьи песни - это река времени, река полноводная, могучая, своей духовностью питающая наши души, нашу добрую память. А у того человека, который забывает о песне, душа чахнет, сердце черствеет.

Главная особенность песенного творчества казаков заключается в том, что казачьи песни не поют, а играют. В каждой песне эмоции плещут через край, и их просто необходимо выразить мимикой, пластикой тела, какими-то театральными элементами. Песня увлекает настолько, что хочешь - не хочешь, а вживаешься в образ, пропускаешь через себя всё, о чем в ней поётся. Песня выражает традиции, взгляды, верования казаков, рассказывает о каких-то событиях прошлого.
Песня, как жанр художественного фольклора, исторична. Органично вплетая в историю, песня выражала время и изменялась в соответствии с жизнью. Поэзия управляла «умом и воображением в домашнем быту, в увеселениях, в печали, встречала рождение, сопровождала от колыбели до могилы их жизнь, и передавала потомству их дела».
Песни Ставропольской губернии, отражают быт и историю военной общины, фольклора донских, кубанских и терских казаков, проживающих как за пределами губернии, так и на территории Ставрополья.
В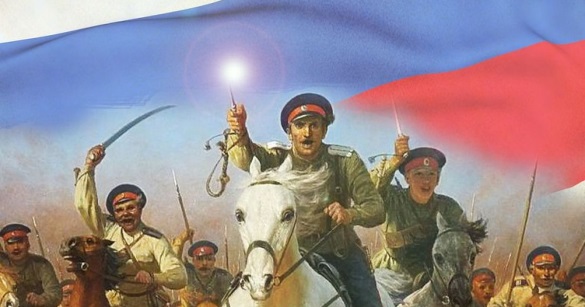 о времена войны на Кавказе с горцами боевые сражения шли почти непрерывно и сложенные в то время песни живо рисуют картину тех событий, когда штык стал товарищем, конь братом. Почти в каждой из них выражалось и настроение, и боевая обстановка:
о времена войны на Кавказе с горцами боевые сражения шли почти непрерывно и сложенные в то время песни живо рисуют картину тех событий, когда штык стал товарищем, конь братом. Почти в каждой из них выражалось и настроение, и боевая обстановка:
«Шашка острая милее
Чернобровеньких девчат,
Штык товарища вернее,
Конь ретивый просто брат».
Г лавная опора казака в походе - его верный друг конь. Без коня казак, хоть плачь, сирота; с ним делил он хлеб и бурку. Ни казак - малолетка (до 20 лет), ни служилый (до 55 лет), ни домоседный (до 60 лет), ни отставной (свыше 60) - не могли и казаками называться, если не имели коня: «Ой, ты конь, ты мой конь, друг - товарищ боевой». К коню было особое отношение: в нем олицетворялась честь, слава и все счастье казака. Не один раз он спасал жизнь своему хозяину, носил в огонь и из огня:
лавная опора казака в походе - его верный друг конь. Без коня казак, хоть плачь, сирота; с ним делил он хлеб и бурку. Ни казак - малолетка (до 20 лет), ни служилый (до 55 лет), ни домоседный (до 60 лет), ни отставной (свыше 60) - не могли и казаками называться, если не имели коня: «Ой, ты конь, ты мой конь, друг - товарищ боевой». К коню было особое отношение: в нем олицетворялась честь, слава и все счастье казака. Не один раз он спасал жизнь своему хозяину, носил в огонь и из огня:
«Конь боевой всего дороже,
И ты, мой сын, им дорожи;
И лучше сам ты ешь поплоше,
А лошадь в холе содержи!»
Под влиянием исторических, географических, бытовых факторов в контексте формирования сельской общины культура переселенцев неизбежно теряла элементы былой малой родины и приобретала новые черты, которые на Ставрополье сложились в традицию, существуя стабильно, и вариативно подвергаясь каким-либо модификациям. Варьирование - одно из самых ярких, постоянных качеств фольклора.
Конечно, сейчас нельзя утверждать, что исполняемые произведения народного творчества на момент своего рождения были именно такими. Но в процессе истории они обрели устойчивые формы, ассоциируемые с соответствующими историко-возрастными стилевыми признаками.

Сегодня вас познакомлю с историей происхождения песни «Ойся, ты ойся, ты меня не бойся...».
По мнению музыкальных историков, история возникновения этой плясовой казачьей песни, часто называемой терской казачьей лезгинкой началась еще во времена Кавказской войны позапрошлого века.
В течение нескольких десятилетий и череды военных компаний, солдаты Русской императорской армии и казаки Терского казачьего войска присоединили к Российской Империи территории Северного Кавказа.

Что такое «Ойся»? Всё просто. Слово «Ойся» является бытовавшим в те времена среди казаков обобщающим шуточным прозвищем некоторых кавказских народов.
Так казаки называли горцев, а «ойся» не что иное, как искаженный гортанный крик «хорса». Именно «хорса», со временем исказившись в «асса», джигиты Кавказа выкрики-вали, танцуя традиционную лезгинку.
Мотив этого «танца воинов», имеющего различные названия у кавказских народов, а затем получившее обобщающее название «лезгинка» и лег в основу мелодии песни «Ойся, ты ойся, ты меня не бойся...».
До наших времён дошли несколько вариантов песни.
В первом варианте, часто называемой «Казачьей молитвой», стоящий на горе воин просит у Бога правды и свободы. Звучат обычные для казачьих военных поселений просьбы: «чтобы жены дождались, и отцы, и дети», «чтобы были хлеб да соль, во мирных селеньях», «чтобы крови не лилось у отчего порога» и т.д.
В припеве песни казак призывает горцев его не бояться. Пока он молится. Пока у него хорошее настроение.
Иногда на горе стоял и молился не казак, а его заклятый враг Шамиль. Тогда у песни появлялся другой, более зловещий смысл.
О стальные варианты шуточные или оскорбительные. Когда они появились доподлинно неизвестно. Многие куплеты песни добавлялись, как и куплеты русских народных частушек, в зависимости от окружающей обстановки. Надо ли писать, что воинская культура далека от понятий мирной жизни. Что на войне разговаривают другим языком. Что на ней существуют иные ценности и правила, далекие от нынешней «политкорректности». Но даже в этих куплетах, надсмехаясь над врагом, и порой очень жестко надсмехаясь, казаки не допускали оскорблений его веры и близких людей.
стальные варианты шуточные или оскорбительные. Когда они появились доподлинно неизвестно. Многие куплеты песни добавлялись, как и куплеты русских народных частушек, в зависимости от окружающей обстановки. Надо ли писать, что воинская культура далека от понятий мирной жизни. Что на войне разговаривают другим языком. Что на ней существуют иные ценности и правила, далекие от нынешней «политкорректности». Но даже в этих куплетах, надсмехаясь над врагом, и порой очень жестко надсмехаясь, казаки не допускали оскорблений его веры и близких людей.

В Ставропольских станицах этот вид казачьей лезгинки называют «шамиля» и она начинается со слов «на горе стоял Шамиль, Богу он молился, за свободу, за народ низко поклонился». Горцев в этих куплетах с одной стороны шутливо подкалывали, но в целом всегда относились уважительно, поэтому мелодия «Ойся-ойся» популярна и у кавказцев.
Переоценить значимость песен казаков, любящих свою родину, Бога, землю, поистине, невозможно. Это не просто фольклорный жанр, это исторический документ, в котором хранятся важные сведения о культуре, традициях и быте народа.








 «Музыкальная культура и традиции казаков Ставрополья».
«Музыкальная культура и традиции казаков Ставрополья».
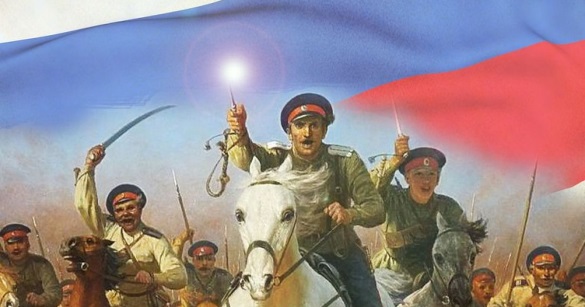 о времена войны на Кавказе с горцами боевые сражения шли почти непрерывно и сложенные в то время песни живо рисуют картину тех событий, когда штык стал товарищем, конь братом. Почти в каждой из них выражалось и настроение, и боевая обстановка:
о времена войны на Кавказе с горцами боевые сражения шли почти непрерывно и сложенные в то время песни живо рисуют картину тех событий, когда штык стал товарищем, конь братом. Почти в каждой из них выражалось и настроение, и боевая обстановка: лавная опора казака в походе - его верный друг конь. Без коня казак, хоть плачь, сирота; с ним делил он хлеб и бурку. Ни казак - малолетка (до 20 лет), ни служилый (до 55 лет), ни домоседный (до 60 лет), ни отставной (свыше 60) - не могли и казаками называться, если не имели коня: «Ой, ты конь, ты мой конь, друг - товарищ боевой». К коню было особое отношение: в нем олицетворялась честь, слава и все счастье казака. Не один раз он спасал жизнь своему хозяину, носил в огонь и из огня:
лавная опора казака в походе - его верный друг конь. Без коня казак, хоть плачь, сирота; с ним делил он хлеб и бурку. Ни казак - малолетка (до 20 лет), ни служилый (до 55 лет), ни домоседный (до 60 лет), ни отставной (свыше 60) - не могли и казаками называться, если не имели коня: «Ой, ты конь, ты мой конь, друг - товарищ боевой». К коню было особое отношение: в нем олицетворялась честь, слава и все счастье казака. Не один раз он спасал жизнь своему хозяину, носил в огонь и из огня:
 стальные варианты шуточные или оскорбительные. Когда они появились доподлинно неизвестно. Многие куплеты песни добавлялись, как и куплеты русских народных частушек, в зависимости от окружающей обстановки. Надо ли писать, что воинская культура далека от понятий мирной жизни. Что на войне разговаривают другим языком. Что на ней существуют иные ценности и правила, далекие от нынешней «политкорректности». Но даже в этих куплетах, надсмехаясь над врагом, и порой очень жестко надсмехаясь, казаки не допускали оскорблений его веры и близких людей.
стальные варианты шуточные или оскорбительные. Когда они появились доподлинно неизвестно. Многие куплеты песни добавлялись, как и куплеты русских народных частушек, в зависимости от окружающей обстановки. Надо ли писать, что воинская культура далека от понятий мирной жизни. Что на войне разговаривают другим языком. Что на ней существуют иные ценности и правила, далекие от нынешней «политкорректности». Но даже в этих куплетах, надсмехаясь над врагом, и порой очень жестко надсмехаясь, казаки не допускали оскорблений его веры и близких людей.











