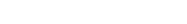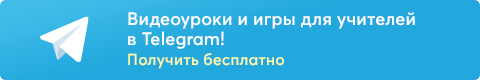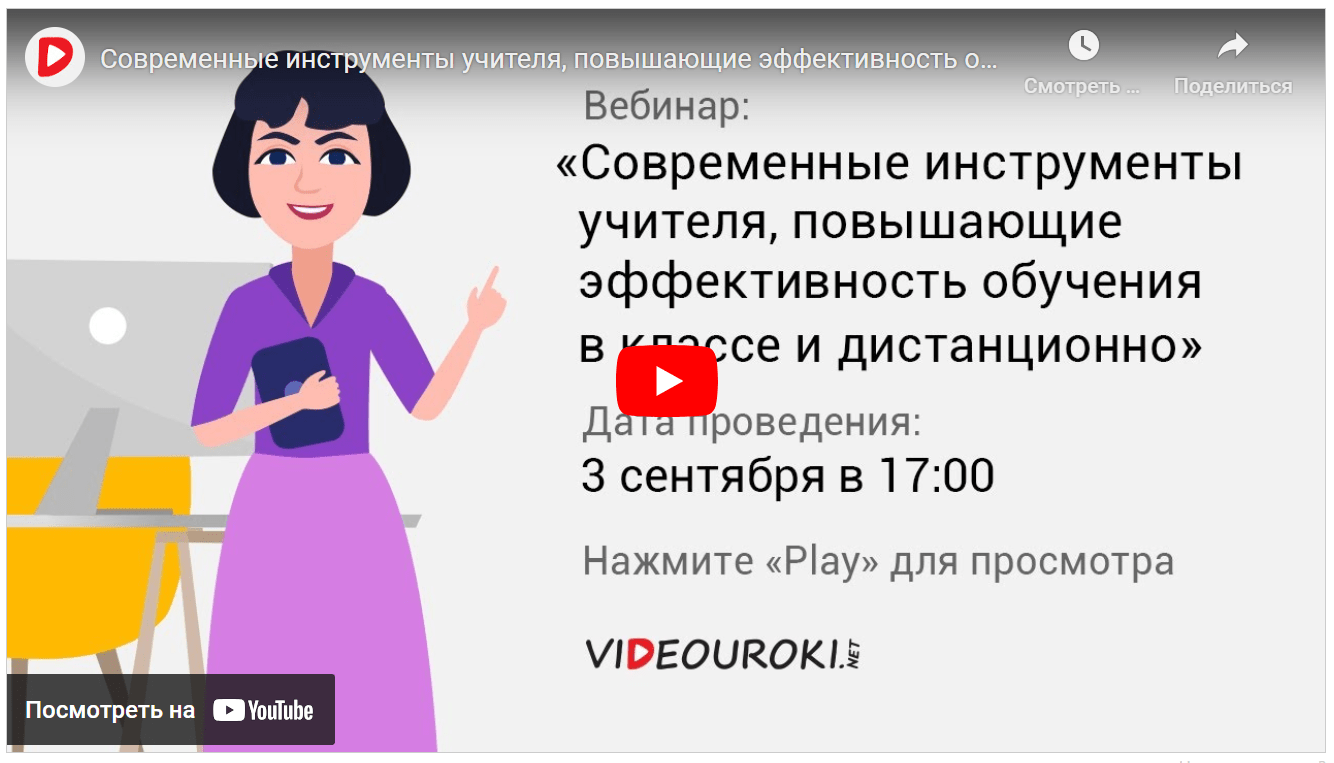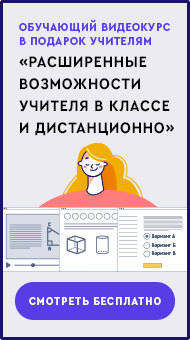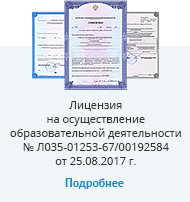ОЧЕРК ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА М.И. ЦВЕТАЕВОЙ. ОСНОВНЫЕ МОТИВЫ ЛИРИКИ
ЦВЕТАЕВА МАРИНА ИВАНОВНА (1892-1941) - поэтесса.
Марина Цветаева родилась в Москве 26 октября 1892 года в высококультурной семье, преданной интересам науки и искусства. Отец ее, Иван Владимирович Цветаев, профессор Московского университета, известный филолог и искусствовед, стал в дальнейшем директором Румянцевского музея и основателем музея изящных искусств (ныне Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина).
Мать происходила из обрусевшей польско-немецкой семьи, была натурой художественно одаренной, талантливой пианисткой. Умерла она еще молодой в 1906 году, и воспитание двух дочерей, Марины и Анастасии, и их сводного брата Андрея стало делом глубоко их любившего отца. Он старался дать детям основательное образование, знание европейских языков, всемерно поощряя знакомство с классиками отечественной и зарубежной литературы и искусства.
В шестнадцать лет Марина Цветаева осуществила самостоятельную поездку в Париж, где прослушала Сорбонне курс старофранцузской литературы. Учась же в московских частных гимназиях, она отличалась не столько усвоением предметов обязательной программы, сколько широтой своих общекультурных интересов.
Уже в шестилетнем возрасте Марина Цветаева начала писать стихи, и притом не только по-русски, но и по-французски, по-немецки. А когда ей исполнилось восемнадцать лет, выпустила свой первый сборник «Вечерний альбом» (1910), включавший в основном все то, что писалось еще на ученической скамье. Сборник был замечен, появились рецензии.
Одним из первых на «Вечерний альбом» откликнулся Валерий Брюсов. Он писал: «Стихи Марины Цветаевой... всегда отправляются от какого-нибудь реального факта, от чего-нибудь действительно пережитого». Еще более решительно приветствовал появление цветаевской книги поэт, критик и тонкий эссеист Максимилиан Волошин, живший в то время в Москве. Он даже счел необходимым посетить Цветаеву у нее дома. Непринужденная и содержательная беседа о поэзии положила начало их дружбе — несмотря на большую разницу в возрасте.
За «Вечерним альбомом» последовали еще два сборника: «Волшебный фонарь» (1912) и «Из двух книг» (1913), изданные при содействии друга юности Цветаевой Сергея Эфрона, за которого она вышла замуж в 1912 году. Две последующие ее дореволюционные книги по сути своей продолжают и развивают мотивы камерной лирики. И вместе с тем в них уже заложены основы будущего умения искусно пользоваться широкой эмоциональной гаммой родной стихотворной речи. Это была несомненная заявка на поэтическую зрелость.
Октябрьскую революцию Цветаева не поняла и не приняла. Лишь много позднее, уже в эмиграции, смогла она написать слова, прозвучавшие как горькое осуждение самой же себя: «Признай, минуй, отвергни Революцию — все равно она уже в тебе — и извечно... Ни одного крупного русского поэта современности, у которого после Революции не дрогнул и не вырос голос, — нет». Но пришла она к этому сознанию непросто. Продолжая жить в литературе и для литературы, Цветаева писала много, с увлечением. Стихи ее в ту пору звучали жизнеутверждающе, мажорно. Только в самые трудные минуты могли вырваться у нее такие слова: «Дайте мне покой и радость, дайте мне быть счастливой, вы увидите, как я это умею!» В эти годы Государственное издательство выпускает две книги Цветаевой: «Версты» (1921) и поэму-сказку «Царь-Девица» (1922).
В мае 1922 года ей было разрешено выехать за границу к мужу, Сергею Эфрону, бывшему офицеру белой армии, оказавшемуся в эмиграции, в то время студенту Пражского университета. В Чехии она прожила более трех лет и в конце 1925 года с семьей переехала в Париж. В начале 20-х годов она широко печаталась в белоэмигрантских журналах. Удалось опубликовать книги «Стихи к Блоку», «Разлука» (обе — 1922), «Психея. Романтика», «Ремесло» (обе — 1923), поэму-сказку «Молодец» (1924).
Вскоре отношения Цветаевой с эмигрантскими кругами обострились, чему способствовало ее возраставшее тяготение к России («Стихи к сыну», «Родина», «Тоска по родине! Давно...», «Челюскинцы» и др.). Последний прижизненный сборник стихов — «После России. 1922—1925» — вышел в Париже в 1928 году. Отчуждение от эмигрантской среды было связано с позицией, занятой её мужем. В начале 30-х годов С. Эфрон подал прошение о получении советского паспорта. Условием «прощения» его белогвардейского прошлого было поставлено участие в работе просоветского «Союза возвращения», курируемого органами НКВД. Замешанный в ряд скандалов, С. Эфрон был вынужден бежать из Франции. Эмиграция отшатнулась от жены «агента из Москвы», хотя она, поглащённая бытовыми и творческими проблемами, была крайне далека от политики.
В одну из самых тяжких для себя минут Марина Цветаева с горечью писала: «... Мой читатель остается в России, куда мои стихи... не доходят. В эмиграции меня сначала (сгоряча!) печатают, потом, опомнившись, изымают из обращения, почуяв не свое — тамошнее!»
Начало второй мировой войны она встретила трагически, о чем свидетельствует последний поэтический цикл Цветаевой — «Стихи к Чехии» (1938—1939), связанный с оккупацией Чехословакии и пронизанный горячей ненавистью к фашизму.
Летом 1939 года, после семнадцати лет эмигрантской жизни, получив советское гражданство, Марина Цветаева вернулась на родную землю. Первое время она живет в Москве, ей предоставлена возможность заняться переводами, она готовит новую книгу стихов. Затем арестованы муж и дочь. Гослитиздат задерживает книгу стихов. «Благополучные» поэты отпускают в её адрес иронические шпильки, устраняясь от какой-либо помощи. С начала Великой Отечественной войны начались скитания Цветаевой по городам России. Ей отказали даже в должности судомойки, на которую она была готова, чтобы прокормить сына.
31 августа 1941 года в маленьком городке Елабуга, под гнетом личных несчастий, в одиночестве, в состоянии душевной депрессии, она кончает с собой.
Художественный мир
В 1934 году была опубликована одна из программных статей М. И. Цветаевой «Поэты с историей и поэты без истории». В этой работе она делит всех художников слова на две категории. К первой относятся поэты «стрелы», т. е. мысли и развития, отражающие изменения мира и изменяющиеся с движением времени,— это «поэты с историей». Вторая категория творцов — «чистые лирики», поэты чувства, «круга» — это «поэты без истории». К последним она относила себя и многих любимых своих современников, в первую очередь — Пастернака.
Одна из главных черт этого «чистого лирика» — самодостаточность, творческий индивидуализм и даже эгоцентризм. Индивидуализм и эгоцентризм в ее случае — не синонимы эгоизма; они проявляются в постоянном ощущении собственной непохожести на других, обособленности своего бытия в мире иных — нетворческих — людей, в мире быта. В ранних стихах это отъединенность гениального ребенка-поэта, знающего свою правду, от мира взрослых:
Мы знаем, мы многое знаем
Того, что не знают они!
(В зале, 1908—1910)
В юности — обособленность «безмерной» души в опошленном «мире мер». Это первый шаг к творческому и житейскому антагонизму между «я» и «они» (или «вы»), между лирической героиней и всем миром:
Вы, идущие мимо меня
К не моим и сомнительным чарам,—
Если б знали вы, сколько огня,
Сколько жизни, растраченной даром... ...
Сколько темной и грозной тоски
В голове моей светловолосой...
(Вы, идущие мимо меня..., 1913)
Раннее осознание противостояния поэта и «всего остального мира» сказалось в творчестве молодой Цветаевой в использовании излюбленного приема контраста. Это контраст вечного и сиюминутного, бытия и быта: чужие («не мои») чары «сомнительны», ибо они — чужие, следовательно, «мои» чары — истинные. Это прямолинейное противопоставление осложняется тем, что дополняется контрастом тьмы и света («темная и грозная тоска» — «светловолосая голова»), причем источником противоречий и носителем контраста оказывается сама героиня.
Своеобразие цветаевской позиции — и в том, что ее лирическая героиня всегда абсолютно тождественна личности поэта: Цветаева ратовала за предельную искренность поэзии, поэтому любое «я» стихотворений должно, по ее мнению, полновесно представительствовать за биографическое «я», с его настроениями, чувствами и цельным мироощущением.
Поэзия Цветаевой — прежде всего вызов миру. О любви к мужу она скажет в раннем стихотворении: «Я с вызовом ношу его кольцо!»; размышляя о бренности земной жизни и земных страстей, пылко заявит: «Я знаю правду! Все прежние правды — ложь!»; в цикле «Стихи о Москве» представит себя умершей и противопоставит миру живых, хоронящих ее:
По улицам оставленной Москвы
Поеду — я, и побредете — вы.
И не один дорогою отстанет,
Главное противостояние в мире Цветаевой — это вечное противостояние поэта и черни, творца и мещанина. Цветаева утверждает право творца на свой собственный мир, право на творчество. Подчеркивая вечность противостояния, она обращается к истории, мифу, преданию, наполняя их собственными чувствами и собственным мироощущением. Вспомним, что лирическая героиня Марины Цветаевой всегда равна ее личности. Поэтому многие сюжеты мировой культуры, вошедшие в ее поэзию, становятся иллюстрациями к ее лирическим размышлениям, а герои мировой истории и культуры — средством воплощения индивидуального «я».
Так рождается поэма «Крысолов», в основе сюжета которой лежит немецкое предание, под пером поэта получившее иную трактовку — борьбы творчества и мещанства. Так в стихах появляется образ Орфея, разорванного вакханками,— усиливается мотив трагической участи поэта, его несовместимости с реальным миром, обреченности творца в «мире мер». Себя Цветаева осознает «собеседницей и наследницей» трагических певцов:
Крово-серебряный, серебро-
Кровавый след двойной лия,
Вдоль обмирающего Гебра —
Брат нежный мой! Сестра моя!
(Орфей, 1921)
Для поэзии Цветаевой характерен широкий эмоциональный диапазон. разговорной или фольклорной речевой стихии (ее поэма «Переулочки», например, целиком построена на мелодике заговора) и усложненной лексики. В ее стихах встречаются, например, слова «уста», «очи», «лик», «нереида», «лазурь» и т. п.; неожиданные грамматические формы вроде уже знакомого нам окказионализма «лия». Контраст бытовой ситуации и обыденной лексики с «высоким штилем» усиливает торжественность и патетичность цветаевского слога.
Лексический контраст нередко достигается употреблением иноязычных слов и выражений, рифмующихся с русскими словами:
О-де-ко-лонов
Семейных, швейных
Счастий (kleinwenig!)
Взят ли кофейник?..
(Поезд жизни, 1923)
Для Цветаевой характерны также неожиданные определения и эмоционально-экспрессивные эпитеты. В одном только «Орфее» — «отступающая даль», «крово-серебряный, серебро-кровавый след двойной», «осиянные останки». Эмоциональный накал стихотворения повышается инверсиями («брат нежный мой», «ход замедлялся головы»), патетическими обращениями и восклицаниями:
И лира уверяла: — мира!
А губы повторяли: — жаль!
...Но лира уверяла: — мимо!
А губы ей вослед: — увы!
...Волна соленая,— ответь!
Вообще в поэзии Цветаевой оживают традиции позднего романтизма с присущими ему приемами поэтической риторики. Выразительность стихотворения достигается при помощи эллипсиса (эллипсис — пропуск, умолчание). Цветаевская «оборванная фраза», не завершенная формально мыслью, заставляет читателя замереть на высоте эмоциональной кульминации:
Так, лестницею, нисходящей
Речною — в колыбель зыбей,
Так, к острову тому, где слаще,
Чем где-либо — лжет соловей.
Отличительная особенность цветаевской лирики — неповторимая поэтическая интонация, создаваемая искусным использованием пауз, дроблением лирического потока на выразительные самостоятельные отрезки, варьированием темпа и громкости речи. Интонация у Цветаевой часто находит отчетливое графическое воплощение. Так, поэтесса любит с помощью многочисленных тире выделять эмоционально и семантически значимые слова и выражения, часто прибегает к восклицательным и вопросительным знакам. Паузы передаются с помощью многочисленных многоточий и точки с запятой. Кроме того, выделению ключевых слов способствуют «неправильные» с точки зрения традиции переносы, которые нередко дробят слова и фразы, усиливая и без того напряженную эмоциональность:
Крово-серебряный, серебро-
Кровавый след двойной лия...
То же самое во многом можно отнести и к цветовой символике. Цветаева любит контрастные тона: серебро и огонь особенно близки ее бунтующей лирической героине. Огненные цвета — атрибут многих ее образов: это и горящая кисть рябины, и золото волос, и румянец и т. д. Нередко в ее стихах противостоят друг другу свет и тьма, день и ночь, черное и белое. Краски Марины Цветаевой отличаются смысловой насыщенностью. Так, ночь и черный цвет — это и традиционный атрибут смерти, и знак глубокой внутренней сосредоточенности, ощущение себя наедине с миром и мирозданием («Бессонница»). Черный цвет может служить знаком неприятия мира, погубившего поэта. Образу Поэта в цветаевских стихах всегда соответствуют «крылатые» символы: орел или орленок, серафим (Мандельштам); лебедь, ангел (Блок). Себя Цветаева тоже постоянно видит «крылатой»: ее душа — «летчица», она «в полете // Своем — непрестанно разбита».
Поэтический дар, по мнению Цветаевой, делает человека крылатым, возносит его над житейской суетой, над временем и пространством, наделяет божественной властью над умами и душами. Примирение поэта с миром возможно только в случае его отказа от поэтического дара, от своей «особости».
Осмысляя свое место в русской поэзии, Цветаева отнюдь не принижает собственных заслуг. Так, она естественно считает себя «правнучкой» и «товаркой» Пушкина, если не равновеликой ему, то стоящей в том же поэтическом ряду:
Вся его наука,—
Мощь. Светло — гляжу:
Пушкинскую руку
Жму, а не лижу.
(Цикл «Стихи к Пушкину», 1931)
Свое родство с Пушкиным Цветаева видит и в подходе к сути творческого процесса. Поэт, по ее мнению,— всегда работник, созидатель нового, в этом отношении она сравнивает Пушкина с Петром Первым, себя тоже видит труженицей.
Вечный цветаевский конфликт бытового с бытийным не мог не породить романтического двоемирия в ее поэзии. Цветаева не любила свою эпоху, часто искала душевную гармонию в обращении к прошлому: «Томных прабабушек слава, // Домики старой Москвы» противостоят в ее мире современным «уродам в пять этажей», а XX веку, в котором Цветаевой было трудно,— романтическое прошлое XVII—XVIII веков. Так приходят в ее художественный мир Казанова (драма «Феникс»), Кавалер де Грие и Дон Жуан, которым она, каждому на свой лад, признается в личной любви. XIX век представляют герои Отечественной войны 1812 года; Смутное время русской истории воплощено в образах Лжедмитрия и Марины Мнишек; об античности, средних веках и Ренессансе напоминают Федра, Орфей, Орлеанская Дева, герои «Гамлета» и т. д. Цветаева утверждает в своих стихах идеал мужского рыцарства, отсюда ее стремление к героическим и страдающим натурам, отсюда и увлечение романтическими художественными деталями.
Частыми атрибутами ее произведений становятся меч (шпага, кинжал, клинок) и плащ. Это многомерные художественные образы, ставшие знаками рыцарства, чести и мужества. Меч приобретает дополнительное значение единства противоположностей (двуострота клинка): любви и ненависти, связанности и разрозненности в рамках единой лирической ситуации:
Двусторонний клинок — рознит?
Он же сводит! Прорвав плащ!
Так своди же нас, страж грозный,
Рана в рану и хрящ в хрящ!
(Клинок, 1923)
Плащ — неизменный атрибут высокого ученичества и служения, любви и преданности, плащ — своеобразное лирическое «пространство дома», защищающее «от всех обид, от всей земной обиды», плащ — это верное сердце и воинственность (цикл «Ученик», 1921).
Одиночество лирической героини Цветаевой раскрывается по-разному. Это одиночество несбывшейся любви или дружбы, одиночество поэта, противостоящего миру. Исполнена символической значительности в поэзии Цветаевой лирическая ситуация сиротства (циклы «Ученик», «Деревья», «Стихи к сироте» и др.). С одиночества начинается творческая самостоятельность, считает поэт; час одиночества сменяет время ученичества:
Час ученичества! Но зрим и ведом
Другой нам свет,— еще заря зажглась,
Благословен ему грядущий следом
Ты — одиночества верховный час!
(Ученик. 1921)
От этой юношеской жажды полноты бытия ее героиня будет принимать самые различные облики: бунтарки, страдалицы, цыганки, странницы, женщины, стремящейся к уютному семейному счастью. Но главное проявление ее души, ведущий символ ее личности — море, глубокое, неисчерпаемое, непостижимое и самодостаточное. Усиливает эту символику и семантика ее имени Марина — «морская». И себя, и свою душу она всегда видит «морской»:
Но имя Бог мне иное дал:
Морское оно, морское!
...Мечты иные мне подал Бог:
Морские они, морские!
...Но душу Бог мне иную дал:
Морская она, морская!
(Душа и имя, 1911)
Образ моря у Цветаевой семантически многослоен: он включает в себя значения бунта, стремительности, глубины, опасности, любви, неисчерпаемости и т. д. Море приносит в палитру Цветаевой все оттенки синего, зеленого и аквамарина (о зелени своих глаз поэтесса не раз упоминает в стихах). Море отражает в себе небо и тем объединяет морское и небесное начала. Для Цветаевой, следовательно, море становится символом «чистой лирики» (вспомним ее классификацию лирики).
«Морское» лирическое начало пронизывает все творчество поэта и выражается в том, что все ее произведения предельно лиричны, будь то собственно лирические жанры, поэмы или жанры письма, эссе, статьи. Все подчинено личному, субъективному началу. Эссе о Пушкине она дала «лирическое» название — «Мой Пушкин» — и передала в нем подчеркнуто личностное видение и понимание великого поэта и его произведений. Стилистика статей Цветаевой близка поэзии ориентацией на эмоционально-экспрессивную разговорную речь. Даже пунктуация цветаевской прозы любого жанра совершенно субъективна.
Цветаевой неуютно в современности, «время ее души» — это всегда недостижимые и безвозвратно ушедшие эпохи прошлого. Когда же эпоха становится прошлой, она обретает в душе и лирике Цветаевой черты идеала. Так было с дореволюционной Россией, которая в эмигрантскую пору стала для нее не только утерянной любимой родиной, но и «эпохой души» («Тоска по родине», «Дом», «Лучина», «Наяда», «Плач матери по новобранцу» и т. д., «русские» поэ?яы — «Молодец», «Переулочки», «Царь-Девица»).
О восприятии поэтом времени Цветаева написала в статье «Поэт и время». Цветаева считает современными не поэтов «социального заказа», а тех, кто, даже не принимая современности (ибо каждый имеет право на собственное «время души», на любимую, внутренне близкую эпоху), пытается ее «гуманизировать», бороться с ее пороками.
В то же время каждый поэт, по ее мнению, сопри-частен вечности, ибо гуманизирует настоящее, творит для будущего («читателя в потомстве») и впитывает опыт мировой культурной традиции. Почти не затронув трагической истории XX века в своем творчестве, она раскрыла трагедию мироощущения человека, живущего, по словам О. Мандельштама, в «огромное и жестоковыйное столетие».
Анализ стихотворений «Душа», «Жизни»
«Душа»
Главным героем цветаевского творчества всегда была ее душа. Национальное буйство, своеволие, безудержный разгул души («крик») выражаются в интонационно «дискретном» стихе, в «рваной» фразе Цветаевой. «Я не верю стихам, которые льются, рвутся — да?» — вот символ веры Цветаевой-поэта. Это качество ее лирики заявляет о себе в большинстве ее зрелых стихотворений. Ограничимся одним примером:
Первое, что бросается в глаза при чтении,— обилие тире, призванных «рвать» стих, лишать его плавности; насыщенность текста восклицательными знаками, задающими стихотворению предельную напряженность звучания. Проставленные автором ударения акцентируют формально служебные, но в мире Цветаевой обладающие значимостью слова «и», «не». В результате антитеза души, полета, крыл, сердца, кипения и — трупов, кукол, счетов, всего ненавистного поэту,— эта вечная цветаевская антитеза бытия и быта — воспринимается почти физически, становится явственно ощутимой.
При более внимательном чтении нетрудно заметить, что важную роль в создании эмоционального напряжения играют и лексические контрасты: «лира, нереиды, Муза», с одной стороны,— и «туши, игра, трупы», с другой. Цветаева прибегает к стилистической антитезе: традиционно «поэтическая» лексика, связанная с миром души, противопоставляется нарочито разговорной, даже просторечной («туши»), характеризующей мир бездуховности.
Тончайшие лексические нюансы позволяют глубже почувствовать художественную идею стихотворения. Так, в первом четверостишии душа названа «летчи-цей» — слово, новое для времени Цветаевой, введенное в обиход Велимиром Хлебниковым. «Летчица» стремится «выше!» и «выше!». Она бунтарка — улетает «без спросу». Но полощется в лазури душа не птицей, а «нереидою». Нереиды в античной мифологии — дочери морского божества Нерея. Поэтическая душа Цветаевой вмещает в себя и небо, и море, которое вводится в стихотворение ассоциативно — через упоминание нереиды и лазурного цвета (лазурь в поэтической традиции — цвет неба и моря).
Важную роль в стихотворении играет звукопись: аллитерации в-л-н-н-л; л-л-вл-пл-сп в первых строфах и ш-р-ш в сочетании с ассонансами у-а — в последней передают и значения тяжеловесности, характерной для мира «сытых», и оттенки легкости полета, плавности волны, разбега, ассоциирующиеся с жизнью души.
Звукопись вообще очень любима Цветаевой и часто выполняет самостоятельные эмоционально-экспрессивные функции в стихе, способствуя фонетическому противопоставлению двух полярных миров (с этой точки зрения особенно интересно стихотворение «Пунш и полночь»).
И в разбираемом выше стихотворении, и во множестве других Цветаева дробит фразы на небольшие фрагменты, использует лексические повторы, синтаксический параллелизм.
В 1924 году Цветаева создает цикл из двух миниатюр «Жизни». В этом цикле она снова обращается к теме жизни души. Обратимся к первому стихотворению. Мы уже не раз могли убедиться, что значительные темы часто находят у поэта свое воплощение в обобщающих миниатюрах. В этом стихотворении две строфы и противостоят друг другу, и отражаются. Первая строфа кажется сугубо интимной из-за антитезы ты—я: лирическая героиня Цветаевой декларирует свою неуловимость, недоступность и непокорность. По сравнению с первым стихотворением здесь в конфликт вовлечены существа одного мира. Вспомним, что в первом стихотворении бытовой бездушный мир Цветаева наделила качествами, характеризующимися статикой, неподвижностью, неспособностью к движению («туши», которые в читательском сознании сразу ассоциируются с чем-то неповоротливым; «трупы» и «куклы», не способные к самостоятельному движению). Здесь же и лирической героине («я»), и подразумеваемому противнику («ты») сообщается движение: задана ситуация погони, бега, охоты.
В поэтике Цветаевой движение и непокорность означают жизнь — и физическую, и духовную. В раннем стихотворении «О, сколько их упало в эту бездну» она связывает смерть с прекращением движения: «Застынет все, что пело и боролось, // Смеялось и рвалось...» — а жизнь, соответственно, с порывом, движением. В анализируемом стихотворении конфликт разворачивается в мире жизни и динамики (погоня, предельное напряжение жизненных сил). Такой «внутренний» конфликт в любовной поэзии Цветаева называла «поединком своеволий».
Интимный характер первой строфы раскрывается первой строчкой, в которой речь идет о чисто портретной детали — румянце (вспомним цветаевское же «И не краснеть удушливой волной // Слегка соприкоснувшись рукавами»). Но портрет сразу же переводится в общий природно-бытийный план благодаря указанию на масштаб и интенсивность проявления качества — «сильный, как разливы рек»: вода и мир природы вообще выступают в поэзии Цветаевой символом вечности.
Для любовной лирики Цветаевой характерна, как мы помним, трагическая ситуация «разрозненной пары»: «Не суждено, чтобы равный — с равным... Так разминовываемся — мы» («Двое»). Эта трагедия часто воплощается в «поединке своеволий», в любовной битве. К этому ряду принадлежит и лирическая ситуация миниатюры «Жизни».
Во второй строфе начальное риторическое восклицание еще больше обостряет ситуацию, возводя качество непокорности в статус бытийных, универсальныхкачеств. И, что характерно для цветаевских миниатюр, эта завершается чувственно-конкретной зарисовкой, заданной еще одним сравнением — развернутой метафорой: непокорность воплощается в остановленном воображением поэтессы «кинематографическом» кадре (аравийский скакун вырывается — теперь уже навсегда — на волю).
Цветаевское сравнение многомерно. В обеих строфах портретные и психологические качества бунтарки-героини соотносятся с явлениями природного мира: румянец, сильный, как разлив реки; вольнолюбие как у аравийского коня. Цветаева обращается к преданию о вольнолюбивом аравийском коне, не позволяющем обуздать и в крайней ситуации убивающем себя. Чувственно-конкретные фрагменты в рамках миниатюры способствуют тому, что эмоционально-эстетическое воздействие стихотворения достигает удивительной силы.
Одним из главных средств художественной выразительности, одним из условий самобытности поэтического голоса Цветаева считала темп. Своеобразен и темп анализируемой миниатюры. Цветаева здесь не «рвет» слова и фразы. Патетика и экспрессия — результат повторов главной лексической единицы текста — восклицания «не возьмешь...».
Торжественность поэтической дикции в первой строфе подчеркивается синтаксическим и, соответственно, логическим параллелизмом 3-й и 4-й строк (характерный для Цветаевой риторический прием!), а также спецификой использованных глагольных форм. В конце строфы Цветаева вводит в именное сказуемое устаревшую глагольную форму-связку «есмь». В целом первая строфа логически сбалансирована и синтаксически завершена.
Во второй строфе от синтаксической симметрии не остается и следа. Первый стих зеркально повторяет первую строчку предыдущей строфы, создавая тем самым ритмическое ожидание общего повтора интонационного рисунка (читатель ждет, что по законам синтаксического параллелизма вторая строфа повторит синтаксическую схему первой).
Однако выделенное авторским ударением слово «так» во втором стихе строфы резко меняет ритмический рисунок текста и взвинчивает — почти до своеобразной лирической истерики — напряженность интонации. Растянутая пауза после «так», обусловленная форсированием голоса на этом слове, будто предвещает грозовую развязку. Так и происходит: финал стихотворения — самая динамичная его часть. За «предгрозовым» перебоем ритма следует последний (и самый стремительный) фрагмент — поданная как завершающий элемент сравнения сцена гибнущего скакуна-аравийца.