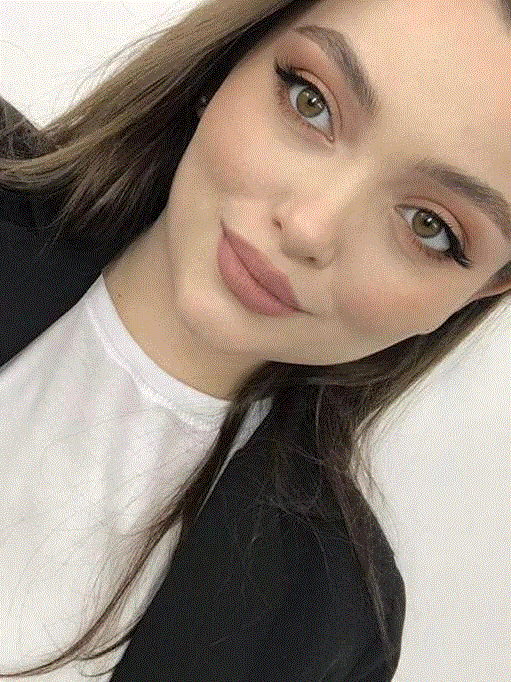УДК 908
ГАЙТУРКАЕВ МАНИ — УЧИТЕЛЬ И ПРОСВЕТИТЕЛЬ
© М.М. Ибрагимов1, Э.Ю. Дадаева2
1 Чеченский Государственный педагогический Университет, Грозный
2 Чеченский Государственный педагогический Университет, Грозный
Аннотация. В данной биографической статье рассматривается личность и профессиональный путь одного из самых выдающихся и значимых педагогов Чечни - Гайтуркаева Мани. В рамках изложенных фактов освещаются как его личностные качества, так и обстоятельства, послужившие тому, что Гайтуркаев стал на путь преподавания и просвещения учащихся, создание и сохранение культно-значимых языковых и литературных элементов. Основная информация и логистика статьи базируется на семейных архивах семьи Гайтуркаева и его научных трудах, кроме того берется во внимание внешний процесс формирования образовательной системы в Чечне.
Ключевые слова: Гайтуркаев Мани, педагог Гайтуркаев, биография Гайтуркаева, образование в Чечне, школьное образование в Чечне.
Гайтуркаев Мани — один из видных деятелей чеченского народа, сказитель и наставник, известный знаток чеченского языка, специалист чеченской словесности, краевед, «мастер острословия» (так его звали односельчане и знакомые), педагог, учитель чеченского языка и литературы. Гайтукаев был одним из тех людей, которые существенно повлияли на наше сегодняшнее представление о лексике и этимологии чеченского языка.
Что касается его личностных качеств, то это был человек высокодуховный и принципиальный, всей душой любивший свой родной край, его обычаи и культурные особенности, ратовавший за сохранение исторической памяти и разговорного языка как в сфере повседневной жизни, так и в научной и педагогической деятельности.
Гайтуркаев Мани родился 1900 году, по другим данным 1895 году, в семье ГIайтIуркъа из села Гуни Веденского района ЧИАССР. В семье ГIайтIуркъа кроме Мани было еще три дочери и сын. Старший сын умер в детском возрасте. Сам отец Мани — ГIайтIуркъа, скончался за несколько месяцев до рождения сына и мать Забар воспитывала единственного сына и дочерей одна.
В раннем возрасте Мани был определен на учебу в медресе (хьуьжар) в родном селе Гуни, открытой внучкой Шейха Ташев-Хаджи Саясановского — ЗехIилой. Она по рождению была слепой, но по милости Аллаха знала Коран наизусть. ЗехIила открыла в селе Гуни свое медресе и учила других Корану. Именно в этом медресе Мани научился читать Коран и писать по-арабски.
1926 году, когда «по социальному и образовательному проекту» тогда еще молодой Советской республики, в горных районах Чечни начали открывать «школы грамоты», они же «ликпункты». Каждый населенный пункт, где количество неграмотных было больше 15, должен был открыть школу. Исключением не были и Гунинские села.
Тем не менее, обучение в такой школе полноценным образованием не считалось. Окончивших называли малограмотными. Обучались грамоте на родном или русском языке граждане от 8 до 50 лет. «Грамотность была не целью, а средством», ведь время тогда располагало считать в качестве основного человеческого ресурса не сами знания, как таковые, а труд и увеличение его качественности и производительности.
В начале население Гунинских сел были против открытия школ, называя их «шайтанскими гнездами». Дурная слава распространялась за счет специфики преподавания и «рекламы» таких ликпунктов, хотя постепенно осторожность и даже опасения жителей удалось перебороть, убедив их в необходимости учения и пользе посещения светских школ. Но достигалась эта цель небольшими осмотрительными шагами. Даже редактору Веденской районной газеты «Красный пахарь», гунинцу Халаеву Ширвани Муслиевичу, пришлось приехать в родное село для разъяснения необходимости школ.
Только когда в школах стали учить науку агрономию и методы животноводства многие жители начали с интересом посещать школы. Постепенно пришло понимание того, что наука необходима не только как источник знаний о мире, но и в повседневной рабочей жизни, и даже те, кто были изначально против советских школ начали сами учиться и преподавать. Немаловажно, что были открыты и пункты общественного питания в этих школах.
1930 году в СССР было введено всеобщее начальное обучение. Повсеместно открылись советские школы и многие гунинские молодые люди, которые учились в медресе, пошли учиться светским наукам и окончили эти школы.
Школьное строительство в 1920-1936-е гг. явилось исторически важным событием в становлении и развитии образования в Чечне. Это явление стало основополагающим при ликвидации неграмотности населения. Наряду с политическим, экономическим и аграрным секторами, образование нуждалось в восстановлении и развитии.
Культурная революция, функционально подчиненная целям индустриализации в Чечне и Ингушетии способствовала быстрому распространению грамотности и появлению национальной интеллигенции.
Несмотря на издержки, наблюдался рост школ и учащихся в них. Из года в год росло и финансирование народного образования. Школа становилась центром общественно-политической жизни районов, особенно горных.
Национальная школа оставалась школой чтения и письма, и давая элементарные навыки грамоты и счета. Эта ситуация усматривалась в плачевном состоянии педагогических кадров, их низкой квалификации, отсутствием жилья и пр.
В этих условиях и проходило обучение Мани. Учителями и наставниками у Гайтуркаева были Гудаев Эми Белг1ато из Ведено, Кантаев Шедид из Эрсиноя, который был директором школ Гуни, Первомайска (имя Первомайск был присвоен о по его инициативе).
После окончания такой «школы грамоты» Мани в 1930 году с другими его товарищами был направлены в Грозный для подготовки в ускоренных курсах учителей чеченского языка.
После окончания курсов 1932 году Мани был направлен в село ГIордали учителем чеченского языка, в двадцати километрах от родного села Гуни и проработал там один год. За все время работы Мани всего три раза из-за непогоды оставался ночевать в ГIордали, в другое время всегда пешком добирался на работу и обратно домой. Подобная самоотверженность одновременно и делу, и своей семье достойна восхищения. Тем более, что дороги вековой давности не отличались безопасностью и комфортом передвижения. Не раз по пути домой Мани сталкивался с трудностями, что однако не умоляло его пыл.
Один раз, добираясь пешком на работу из села Гуни в ГIордали, его встретили на речке Гумс абреки (чеч. «обарг» — вне рода, обычно партизан или разбойник) и угрожая ему, как пособнику установления Советской Власти, хотели убить. Мани заявил им: «Убейте скорее, если оставите в живых, мне придется рассказать о сегодняшнем своим родственникам по матери». Выказав уважение его семье и смелости слов самого Мани, абреки отпустили его.
После отработки в ГIордали Мани начал работать в селе Марзой Мохк учителем чеченского языка и литературы. В это же время вместе с ним (в 1939 году) в селе Марзой Мохк также работали и учителя Инзиев Iели, Iумар, Магомадов Дука, Гайтуркаев Мани, Арсанов Каплан, Селимсултанов Имамшепи, Хасай Дада (Гуьнара ЦIадахьро), Аслбек, Мевли. Все эти личности в той или иной мере повлияли как на растущую заинтересованность нохчи в получении образования, так и на путь самого Мани Гайтуркаева. (Из домашнего архива Гунаева Iадсалама).
Именно благодаря этим людям началось систематическое изучение чеченского языка, его истоков и связей с мифосложением. Так в Чеченской республике «формировалась новая интеллигенция» — «Интеллигенция первого поколения».
Сам Мани в конце концов вернулся в родное село, но теперь уже опытным и состоявшимся учителем. Первая школа в селе Гуни была построена еще в 1930 и вплоть до выселения в 1944 году Мани работал в Гунинской начальной школе учителем чеченского языка и литературы.
После возвращения из депортации Мани продолжил преподавать, хотя теперь он был не просто учителем, но и признанным деятелем молодой еще в Чечне словесной науки.
За время своей жизни Мани очень много занимался сбором материалов по истории края, топонимического материла и сведений о жизни и истории религиозных авторитетов Чечни. Записи Мани и по сей день можно считать одними из самых значимых письменных сведений о развитии ранней чеченской исторической и филологической науке, к которым обращаются исследователи в поисках ответов к самым запутанным вопросам.
Гайтуркаев Мани дружил с известным чеченским исследователем-краеведом, просветителем, народным поэтом, педагогом, фольклористом, Ахмад Сулеймановым.
Ахмад приезжал в село Гуни и оставался в гостях у Мани, и они вместе с Мани собирали полевой материал для написания книги Ахмада Сулейманова «Топонимия Чечено-Ингушетии». В 1978 году вышла вторая часть этой фундаментальной работы. «Топонимия» даже сегодня является наиболее авторитетным и полноценным источников в своей области.
К сожалению, не все собранные материалы дошли до наших дней. Многие материалы по истории края, о святых местах на родовых землях Гуной были изъяты КГБ, и не вошли в книгу. О причинах подобного мы сейчас можем только догадываться, но тяжесть потери весьма ощутима, так как традиция устной передачи знаний на сегодня изжила себя, и только письменные источники помогли бы историкам разобраться во многих слепых пятнах исторической географии.
Был знаком Гайртукаев и со знаметимым литературным гением, советским и чеченским писателем и поэтом Абузаром Абдулхакимовичем Айдамировым. Результатом этой были различные издания Абузара по истории чеченского народа, событиям в Чечне в 18-19 веках. Это был великолепный симбиоз знаний и творчества, трудолюбия и целеустремленности.
Абузар подарил Мани свою первую книгу «Еха буьйсанаш» («Длинные ночи», которая позже превратилась в полноценную трилогию и вошла в бессмертную классику чеченской литературы) с подписью «Гуьнарчу нохчийн метта хьехархочунна шегара совг1атана» (Личный подарок учителю чеченского языка из Гуни). Самой этой формулировкой Абузар Айдамиров признает непоколебимую уверенность в профессионализме Гайртуркаева и свою личную привязанность и уважение к этому человеку.
Мани очень любил чеченский язык и глубоко знал старые слова и термины. Считал, что смысл чеченского языка заложен в названиях местности (топонимии), в именах чеченцев, в названиях предметов обихода и домашней утвари чеченцев. Мани видел неразрывную связь образа жизни с формированием языка и его самобытностью, связь поколений, говоривших и говорящих не только на языке созвучий, но и на языке того культурного единства, что непременно складывается у народа в процессе истории.
Сам Мани был очень строг к себе и своим товарищам в том, что касалось чистоты чеченского языка в разговоре, не допускал использования иноязычных заимствований. Он был образцом учителя языка, соблюдавшего порядок и преемственность изучения и применения языковых знаний.
В период, когда постепенно начались урбанизация и централизация языкового вектора, и в жизнь чеченцев начал проникать русский язык, Гайртуркаев Мани показал пример того, как должен говорить, учить и писать чеченец, чтобы сохранить красоту и незапятнанность родного языка.
При беседе с людьми он уважительно относился к собеседнику, и с почтением говорил о персонажах темы разговора. Не только в устной, но и в письменной речи всем своим существом он почитал чеченский язык. У Мани был очень красивый почерк, а стиль письма крайне строгий и глубокий.
Гайртуркаев Мани красиво читал Мовлид, многие суры из Корана знал наизусть. Сам писал стихи и назмы, но никогда их не обнародовал, умел рифмовать любые тексты, причем занимался этим интеллектуально-творческим трудом исключительно на родном языке. Любил тексты перекладывать на мелодии и играл на дечиг пондуре. Не зря говорят, что талантливый человек талантлив во всем, и не сложно заметить, что чем бы ни занимался Гайртуркаев, все его действия, чаяния и задумки были направлены на сохранение языка и культуры Чечни, проистекали из его любви к нашему народу, к его многовековой истории и бесконечному богатству и красоте речи.
Очень много его высказывания до сих пор живут в народе. В своем разговоре Мани использовал пословицы, поговорки, примеры из жизни исторических героев-чеченцев. Известно, что язык базируется не только на словах-значениях, но и на словах-символах, и именно их стремился пестовать в своей повседневной речи Гайтуркаев Мани, чем вызывал неприкрытое уважение. Сельские дети и взрослые любили собираться у Мани и часами слушать его складные и красивые речи.
Мани проработал учителем до 1974 года, после чего вышел на пенсию. В 1977 году в апреле месяц его не стало.
Его единственный сын Гайтуркаев Арби после 1966 года пошел по стопам отца и начал работать в Гунинской средней школе.
Красота человека проявляется через красоту его речи, через богатство слов мы видим богатство души и через жизнь человека мы видим жизнь народа. Гайтуркаев Мани был образцов человека и человечности, примером того, каким должен быть чеченец, учитель и настоящий патриот своего народа.
Он прославился не только как ученый, но и как друг, товарищ по общему делу, радетель за чистоту языка и наставник для будущих поколений. Светлая память о его труде и гордость за достижения великого по сути своей человека по сей день живет в сердцах не только гунийцев, его односельчан, но и всех чеченцев, так или иначе знакомых с его биографией.
Список литературы:
Домашние архивы сына Гайтуркаева Мани Арби Гайтуркаева, односельчанина, учителя Гунаева Iадсалама, старейшины села Гуни.
Умаров М. У. По пути ко всеобщему среднему образованию. Грозный, 1982. 110 с.
Эльбуздукаева, Тамара Умаровна. Социально-экономическое, политическое и культурное развитие Чечни и Ингушетии в 20-30-е годы XX века. Ростов-на-Дону, 2013. - 46 с.
3