

СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ
Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно
Скидки до 50 % на комплекты
только до
Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой
Организационный момент
Проверка знаний
Объяснение материала
Закрепление изученного
Итоги урока

В.Берестов "Ранняя любовь Пушкина" (Рассказы о детстве поэта) 5 класс
Просмотр содержимого документа
«В.Берестов "Ранняя любовь Пушкина" (Рассказы о детстве поэта) 5 класс»
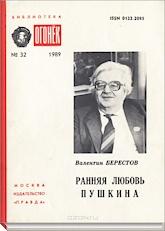
В.Берестов Ранняя любовь Пушкина
«Рождение мое»
В переломные эпохи, как при переходе из возраста в возраст или из одного времени года в другое, все видится в новой связи и в новом свете. Даже Пушкин. Давно ли Т. Г. Цявловская, изучив свежую публикацию, восклицала: «Новый вклад в отечественное дантесоведение!» А Эдуард Бабаев меж юбилеями Льва Толстого и Пушкина шутил: «Отметили Софью Андреевну, теперь почтим Наталью Николаевну!»
И вдруг выяснилось, что про целую треть жизни Пушкина почти нечего сказать. Всех раззадорил Ю. М. Лотман. В новой биографии поэта он заявил, что тот был «человеком без детства», что «детство он вычеркнул из своей жизни». Но постепенно все менялось. Празднества в честь Пушкина-ребенка в подмосковном Захарове, хлопоты общественности о судьбе пушкинских мест в Москве и Подмосковье. И, наконец, в 1987 году — сразу две книги с отдельными главами о долицейском, допожарном, довоенном детстве поэта. В «Русском гении» Н. Скатова сказано, что «подобного дара детства потом уже не получит ни один из русских поэтов и писателей», а в книге «Жизнь Пушкина, рассказанная им самим и его современниками» (составитель, комментатор и автор вступительных очерков В. В. Кунин) нам дана возможность как бы своими глазами увидеть Пушкина-ребенка и самим делать выводы из документов.
Итак, дом Бутурлиных. Поэт-моряк торжественно возглашает стихи с такими строчками:
И этот кортик,
И этот чертик!
Малыш, который любит сидеть со взрослыми и слушать стихи, хохочет. Мать делает ему знак уйти. Гости осуждают шалуна. А ученый француз Жилле жмет руку мальчику: «Чудное дитя! Как он рано начал все понимать!» Вот ключ к детству Пушкина. Оно и в самом деле необычное. Не всякий ребенок станет сидеть в компании взрослых, слушать стихи и разговоры, не каждому это и позволят. Мать хочет только, чтобы ребенок при этом вел себя хорошо. Но есть люди, которые и в его шалости видят истинный интерес к миру литературному, духовному, раннее понимание и вкус.
И все же Ю. М. Лотман прав: Пушкин зачеркнул свое детство. Вернее, он его утаил. В начале 20-х годов он писал записки, где, конечно, речь шла и о детстве. Но после поражения декабристов вышло так, что записки «могли замешать многих» и увеличить число жертв.
Есть и программа новых записок. Поэт хотел написать их в 30-х годах. А в ней важные пункты, посвященные детству. Скажем, такие как пункт о воспитании отца (видимо, оно отозвалось на сыне!), или «Свадьба отца», или «Рождение мое», или «Первые впечатления», а также «Первые неприятности» (значит, их какое-то время не было), и даже «Ранняя любовь». Итак, одни записки уничтожены, другие не написаны, Пушкин остался человеком без детства.
И все же он написал о своем детстве и указал, где и как искать сведения об этом предмете. В ноябре 1825 года Пушкин пишет Вяземскому: «Зачем жалеешь ты о потере записок Байрона? черт с ними! слава Богу, что потеряны. Он исповедался в своих стихах невольно, увлеченный восторгом поэзии… Мы знаем Байрона довольно». Поищем в невольной исповеди Пушкина то, что относится к первым десяти годам его жизни.
Пункт «Рождение мое». Об этом рукою Пушкина написано вот что: «Оно, кажется, и мудрено помнить свое рождение, но рассказы, слышанные в детстве, так сильно врезываются в память нашу, что впоследствии нам кажется, что мы были свидетелями всего, о чем в самом деле мы только слышали». Так о чем слышал Пушкин
в связи со своим рождением? Что врезалось ему в память? Чему он потом как бы стал свидетелем? Предположение об этом мы выскажем ниже, а пока отметим, что в приведенной записи речь идет о рождении П. В. Нащокина.
Один раз поэт заставил друга продиктовать ему свои записки, в другой раз усадил его писать, а сам правил написанное, и оба раза записки обрывались на впечатлениях о родне, о слугах и раннем детстве Нащокина, будто остальное Пушкина и не интересовало. Нащокину о его рождении рассказывал буфетчик Севолда, подавший по сему случаю рюмку мадеры Нащокину-старшему, который распил ее вместе «с крепостным подлекарем, вывезенным из Польши жидком». (Так национальные, классовые предрассудки рухнули перед великим событием, рождением человека.)
А вот еще одно рождение. Речь идет о Льве Александровиче Пушкине, деде поэта. «Вторая жена его, урожденная Чичерина, довольно от него натерпелась. Однажды велел он ей одеться и ехать с ним куда-то в гости. Бабушка была на сносях и чувствовала себя нездоровой, но не смела отказаться. Дорогой она почувствовала муки. Дед мой велел кучеру остановиться, и она в карете разрешилась — чуть ли не моим отцом. Родильницу привезли домой полумертвую и положили на постель всю разряженную и в бриллиантах».
«Все это знаю я довольно темно, — замечает поэт. — Отец мой никогда не говорит о странностях деда, а старые слуги давно перемерли». Пушкин любил не только мать своей матери, но и сестру матери отца, «бабушку Чичерину», так он ее величал. Биографам поэта нужно обратить на нее внимание. Узнав о смерти Варвары Васильевны в июне 1825 года, в письме из Михайловского он умолял Дельвига: «Ради Бога, напиши мне что-нибудь: ты знаешь, что я имел несчастье потерять бабушку Чичерину и дядю Петра Львовича— получил эти известия без приуготовления и нахожусь в ужасном положении — утешь меня, это священный долг дружбы (сего священного чувства)». Горе, которое было трудно вынести в одиночку.
Так что же все-таки было сказано при рождении Пушкина? Почему этот пункт выделен? Намек на это, кажется, звучит в черновиках «Цыган». В таборе у опростившегося беглеца из большого света рождается сын, наполовину цыганенок:
Прими привет сердечный мой,
Дитя любви, дитя природы,
И с даром жизни дорогой
Неоценимый дар свободы!..
А что было бы, родись такой ребенок не в таборе, а в той среде, откуда вышел Алеко? Судя по черновикам, над этим бьется мысль поэта: «Безмолвны здесь предрассужденья / И нет их раннего гоненья / Над вольной люлькою твоей». Значит, где-то когда-то над другой люлькой эти предрассужденья отнюдь не молчали, и поэт воспринял их как «раннее гоненье». Под его пером возникает то «крик предрассужденья жадный», то «крик предрассужденья хладный», то «смех предрассужденья» над младенцем, он ищет, как бы поточнее это назвать. «Не страшусь сто презренья над дикой люлькою твоей», — успокаивает себя и сына добровольный изгнанник. И опять об этой бесчеловечной реакции на улыбку младенца: «Твоей улыбки средь степей / Не встретит смех предрассужденья /И нет безумного презренья / Над вольной люлькою твоей». «Безумного», то есть глупого, бессмысленного, ничем не оправданного.
Представим себе, что не в степи, а в дворянском доме кто-то наклоняется над люлькой, а перед ним даже не цыганенок, а несомненный «потомок негров безобразный», как сказал о себе поэт. И кто-то сберег и потом передал мальчику воспоминание о чьем-то смехе или обидном восклицании, вызванном привычными предрассудками. Кто и что крикнул или посмеялся над младенцем, кто запомнил это и потом пересказал Пушкину, мы, видимо, никогда не узнаем. Но современникам запомнилась реакция мальчика и на непроизвольное «Посмотрите, ведь это настоящий арабчик», которое вырвалось у поэта Дмитриева. «По крайней мере отличусь тем и не буду рябчик»,— ответил ребенок, в свою очередь обращая внимание на внешность рябоватого И. И. Дмитриева. Примерно то же в воспоминаниях сестры поэта: «Однажды, гуляя с матерью, отстал и уселся посреди улицы: заметив, что одна дама смотрит на него в окошко и смеется, он привстал, говоря: «Ну, нечего скалить зубы».
«Неоценимый дар свободы»… Эта свобода с самого рождения мальчика необычного облика как бы стеснена из-за того, что африканская кровь, полученная им в наследство от матери, проявилась слишком сильно:
О лучше, если б мать моя
Меня родила б в юрте дымной
Или в кавказском табуне
И без преграды весь бы мне
Открылся мир гостеприимный.
В 1831 году в «Литературной газете» Пушкин процитировал строки Делорма, посвященные рождению сына у Виктора Гюго: «Это еще один мальчик; небо даровало его вам. Прекрасного, свежего, радостно улыбающегося этой горькой жизни».
Рождение человека — для Пушкина историческое событие, включение в историю. Сам младенец изначально прекрасен и создан для прекрасной жизни. Детство — это надежда. Голос ребенка — голос самой надежды. «Надежда им лжет детским лепетом своим», — сказано в «Онегине» про гадающих стариков. Детский лепет — тайна из тайн, чудо из чудес:
А речь ее… какие звуки могут
Сравниться с ней — младенца первый лепет,
Журчанье вод, иль майский шум небес,
Иль звонкие Баяна славья гусли.
Это тоже одно из впечатлений детства, имеющее прямое отношение к пункту «Рождение Льва», нежно любимого младшего брата. Кстати, детская дружба всех маленьких Пушкиных: Ольги, «подруги весны моей златой», Александра, Льва и рано почившего Николая — скорее всего, еще одно свидетельство о том, что весна жизни поэта и впрямь была «златой».
Наверное, для поэта важным было и то, что в 1801 году, через полтора года после его рождения, родился новый, XIX век.
Вместе с писателем-пушкинистом И. А. Новиковым дадим волю фантазии. А для этого положим перед собой миниатюрный портрет Пушкина-младенца, подаренный Московскому музею А. С. Пушкина артистом В. С. Якутом. Если верить Новикову, то в семье Пушкиных была такая легенда. Встречали сразу Новый год и новый век. Шум разбудил малыша, и он в самую торжественную минуту возник на пороге перед гостями. Такой же, как на миниатюре: рыжеватые волосы, блестящие глаза, рубашонка с кружевным воротом сползла на плечо. И его мать Надежда Осиповна предложила гостям полюбоваться на человека нового столетия. Не в память ли об этом событии она и заказала его портрет? И не думал ли художник о смене веков, дав справа от ребенка темный, ночной, а слева голубой и розовый фон? Не заря ли это нового века?
«Первые впечатления»
Пункт «Первые впечатления». Поэт придает им, как потом Лев Толстой в «Исповеди», очень большое значение. «Я начинаю помнить себя с самого нежного младенчества» — так написал сам Пушкин, но от лица героя «Русского Пелама». Эти впечатления тут иные: «Солнце светит во все окошки, и мне очень весело. Монах с золотым крестом на груди благословляет меня, в двери вносят длинный гроб». Похороны матери — первое впечатление героя неоконченного пушкинского романа.
А вот первое впечатление Петра Великого: «Рассказывают, будто на третьем году его возраста, когда в день именин его, между прочими подарками, один купец подарил ему детскую саблю. Петр так ей обрадовался, что оставя все прочие подарки, с нею не хотел даже расставаться ни днем ни ночью. К купцу же пошел на руки, поцеловал в голову и сказал, что его не забудет».
Детской сабельке под подушкой Петра Первого у Пушкина соответствует завороженная свирель, ее будто бы оставила «меж пелен» сама муза, которая «детскую качая колыбель» его «юный слух напевами пленила». Муза учила будущего поэта пока что пленяться чужими напевами, а не пленять своими! В «Наперснице волшебной старины» она является в виде «веселой старушки» в шушуне, «в больших очках и с резвою гремушкой». Погремушка вместо лиры! В Захарове ее зовут громушкой, захаровскую громушку я видел в музее Клуба друзей игры в Лесном Городке под Москвой.
Стихам «Наперсница волшебной старины» предшествует «Сон», отрывок, написанный еще в Лицее. Та же самая старушка, но еще не муза, а просто «мамушка»- сказочница. Для няни или кормилицы эта «мамушка» слишком стара, да и ночной ее наряд вполне барский: большие очки (могла читать «Бову» и по книжке), и даже семейная реликвия, видимо, украшенная драгоценностями,— «драгой антик, прабабушкин чепец». Так и видишь ее «в чепце, в старинном одеянье» (шушуне?), когда она, «духов молитвой уклоня», шепчет малышу «о мертвецах, о подвигах Бовы», а тот не шелохнется от ужаса, едва дыша, прижмется под одеялом и глядит на «под образом простой ночник из глины», чуть освещающий «глубокие морщины» старушки и ее «длинный рот, где зуба два стучало». Но вот та, кого он в одних стихах назвал мамушкой, а в других веселою старушкой, уходит. И во тьме, как это, наверное, со всеми бывает в младенчестве, возникают уже другие видения. Они «на ложе роз» слетают крылатыми волшебницами и волшебниками, малыш превращается в русского богатыря, кто «средь муромских пустыней/Встречал лихих Полканов и Добрыней», —
И в вымыслах носился юный ум.
Таким он хотел быть и в старости, до которой не дожил:
Над вымыслом слезами обольюсь.
Об этой детскости души мечтал гений, кому еще в колыбель муза положила свою завороженную свирель и кто с самого раннего детства сберег в себе это чувство.
Итак, его первые впечатления (интересно, как написал он про них в уничтоженных записках?) — это глиняный ночник под образом и длинный рот беззубой старушки. И — чудо из чудес! Она оказалась божеством поэзии, музою. Как же повезло поэту в его «волшебной старине», в детстве! И кто была эта старушка муза, даже одетая по-сказочному?
А ведь она, как он сам считает, еще с колыбели пробудила его душу («душа в заветной лире») и вдохновила будущего гения. Счастливец! Стоп! Но ведь эти свидетельства самого Пушкина совершенно расходятся с привычными представлениями о его детстве!
Бабушка-муза
В хорошей книге «Мифы и легенды о Пушкине» пока не изучается миф о его горестном детстве: как не любили его родители, как дурно готовили в их доме, как бездарно велось хозяйство и т. п. Мифы держатся на подсознании. А в нем страшное понятие — крепостничество, крепостники, секущие кнутом, продающие и покупающие людей. И вдруг у крепостников рождается «наш человек» Пушкин, певец свободы.
Как примут его крепостники? Ужасно! Лишь крепостная няня сразу признает в нем своего. «Жестокий век, — писал видный пушкинист в 1972 году,— в пределах которого Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Белинский проходили свой жизненный путь и осуществляли свой творческий подвиг, наложил мрачные краски на биографии каждого из них». Миф, подсознание ученых и их читателей требовали, чтобы трагическому концу предшествовало трагическое начало.
Миф этот рухнул для меня, когда я спросил самого поэта о его детстве. В 1982 году прочел у замечательного ученого: «Бросается в глаза, что, когда в дальнейшем Пушкин хотел оглянуться на начало своей жизни, он неизменно вспоминал только Лицей». «Но детских лет люблю воспоминанье»,— как бы отозвался Пушкин-лицеист. Тот, кто на экзамене читал Державину про «края Москвы, края родные / Где на заре цветущих лет / Часы беспечности я тратил золотые / Не зная горестей, ни бед!» И это еще не все. В послании к другу-лицеисту помянет ушедшие вслед за детством «свободу, радость, восхищенье». А другому лицеисту сообщит, что в младенчестве «счастлив был, не понимая счастья». «Краткий путь, усыпанный цветами, / Которым я так весело протек» — таким он видит свое детство.
Только и слышишь: «С какою тихою красою / Минуты детства протекли» или «детства милые виденья» (чуть не начал «Онегина» этими словами). Но подсознание сильнее сознания, миф всемогущ. Никто из тех, кто писал о несчастном детстве поэта, не оспорил утверждений самого Пушкина и даже не упомянул о них, хотя правила науки этого требуют.
Родители поэта любили друг друга. После смерти Надежды Осиповны Сергей Львович написал о ней: «прекрасная жена», «ангел-утешитель». Взаимная любовь родителей — условие счастья детей. Не о том ли сказал поэт еще в Лицее?
Хвала, о боги! вам, вы мощною рукою
От ярых гроз мирских невинность отвели.
Эти слова тоже не приводятся, словно их и не было. Значит, детство Пушкина было мирным, безбурным. Это про молодость сказано: «Я возмужал среди печальных бурь».
Волю богов как бы осуществляла его бабушка Мария Алексеевна Ганнибал, родственница Сергея Львовича Пушкина. Тот был для ее дочери не только мужем, но и троюродным дядей. Бабушка делала все для того, чтобы дочь и зять-кузен были счастливы в своем браке, а их дети — в своем детстве. Она продала собственный дом в Петербурге и поселилась с молодыми. А в Москве, наоборот, купила дом по соседству с ними, но поселила там своих слуг, а сама жила у дочери и зятя охраняя и поддерживая их семейное счастье, уют и благополучие.
«Пушкины жили весело и открыто,— пишет современница, — и всем домом заведовала старуха Ганнибал, очень умная, дельная и рассудительная женщина: она умела дом вести как следует, и она также больше занималась с детьми: принимала к ним мамзелей и учителей и сама учила». То есть занята была именно тем, чем должны заниматься родители.
Без всякой’ натяжки Марию Алексеевну можно назвать главой этой семьи. Добавим, что и Захарово купила она, все семейство летом жило у нее. Она же дала Пушкину в няни Арину Родионовну, которая в год рождения поэта получила вольную, но предпочла остаться с внуками своей барыни. А ведь могла бы крепостница-бабка вместе с имением Кобрино и кобринскими крестьянами продать и Арину Родионовну с дочерью и сыновьями. Но ведь не продала!
Няня стала «доброй подружкой бедной юности» поэта, его «дней суровых». Детство же свое он, как мы уже видели, никогда не называл ни бедным, ни суровым, оно было для него «утром дней златых».
Письма бабушки к внуку-лицеисту до нас не дошли. Но, как пишет В. В. Вересаев в книге «Спутники Пушкина», Дельвиг «еще в Лицее приходил в восторг от письменного слога Марии Алексеевны, от ее сильной и простой русской речи».
После смерти бабушки, избаловавшей своими заботами дочь и зятя (она, напомним, «всем домом заведовала» и «умела дом вести как следует»), дом Пушкиных, по свидетельству бывшего лицеиста М. А. Корфа, «был всегда наизнанку». А тот же Дельвиг писал (в отличие от пушкинских строк о своем детстве, эти строки его друга цитируют без конца):
Друг Пушкин, хочешь ли отведать
Дурного мяса, яйц гнилых,
Так приходи со мной обедать
Сегодня у своих родных.
У многочисленных знаменитых посетителей московского дома Пушкиных, когда его вела Мария Алексеевна Ганнибал, таких шуток не найдешь, ни Иван Дмитриев, ни Карамзин, ни Батюшков не прошлись стихами насчет «дурного мяса, яйц гнилых». При бабушке такого не было. Между тем еще у одного, в остальном вполне добросовестного, пушкиниста читаем: «В московском доме пушкинского детства отсутствовала атмосфера прочной и объединяющей семейственности». Не в московском, а в питерском, не в детстве поэта, а в его юности!
Посетив Михайловское в 1819 году, почти сразу после смерти бабушки, Пушкин написал стихотворение «Домовому» («Поместья мирного незримый покровитель»), и в нем, как мне кажется, все то, что делала бабушка для него и всей его семьи, переложил уже на незримые, сверхъестественные силы: «Останься, тайный страж, в наследственной сени». Многое значит это «останься» и не зря в стихотворении поминается «счастливый домик мой». Выходит, уже и мифологический персонаж противоречит мифу о несчастном детстве поэта.
«Замечательна по своему влиянию на детство и первое воспитание Александра Сергеевича, — пишет сестра поэта, — была их бабушка Мария Алексеевна». Замечательна по влиянию, но миф сделал ее почти незаметной. Ольга Сергеевна пишет, что бабушка «любила вспоминать былые времена» и что была она «ума светлого и по своему времени образованного, говорила и писала прекрасным русским языком». Стихи брата подтверждают справедливость рассказов сестры. Был среди них и такой: «До шестилетнего возраста Александр Сергеевич не обнаруживал ничего особенного, напротив, своей неповоротливостью, происходившей от тучности тела, и всегдашней молчаливостью приводил иногда мать в отчаяние. Она почти насильно водила его гулять и заставляла бегать, от чего он охотнее оставался с бабушкой Марьей Алексеевной, залезал в ее корзину и смотрел, как она занималась рукоделием».
Словно видишь, как мать тащит толстого ребенка гулять, а тот упирается и зовет на помощь бабушку. У бабушки больше власти в доме, чем у матери, и ребенок остается с ней, сидит в ее корзинке с клубками и слушает ее речи. Вот как сам Пушкин вспомнил об этом в Лицее, в стихах «Городок»:
Фома свою хозяйку
Ни за что наказал,
Антошка балалайку
Играя разломал, —
Старушка все расскажет:
Меж тем как юбку вяжет,
Бормочет все свое.
А что же внук?
А я сижу смиренно
В мечтаньях углубленный,
Не слушая ее.
При этом она поила внука чаем:
У добренькой старушки
Душистый пью чаек…
Днем он мог и пропускать мимо ушей многие рассказы бабушки о житейских случаях и домашних делах. Совсем по-другому слушал он речи бабушки ночью. Об этом — в лицейском отрывке «Сон»:
Ах! умолчу ль о мамушке моей,
О прелести таинственных ночей,
Когда в чепце, в старинном одеянье,
Она, духов молитвой уклоня,
С усердием перекрестит меня
И шепотом рассказывать мне станет
О мертвецах, о подвигах Бовы…
Оборвем стихи, чтобы напомнить: мамушками тогда называли не старух, а молодых кормилиц. Бабушка- «мамушка» в этих стихах — как бы духовная кормилица будущего поэта. Сказкой было даже ее появление в детской: обряжалась для внука в старинную, словно из сказки, одежду.
Она была религиозна: ночник-лампадка под образом, молитва, отгоняющая нечисть от постели мальчика. И все же рядом с «подвигами Бовы» — жуткие рассказы о мертвецах, что могли потом войти в стихи ее гениального внука и начинаться почти теми же словами: «Прибежали в избу дети» или «Три дня купеческая дочь Наташа пропадала». От богатырских фантазий и страшных рассказов ребенок долго не мог уснуть. Не отсюда ли его дневная молчаливость и малоподвижность?
Становятся понятными удивительные заявления поэта про то, что он «лирных звуков наслажденье / Младенцем чувствовать умел». Слова эти можно отнести ко всем малышам, но они подрастают и забывают об этом, а Пушкин не забыл. Поэтом он ощущает себя с колыбели, а голосом музы для него были рассказы бабушки и сказки няни, которую он, как пишет его сестра, любил, но по-настоящему оценил только в молодости. Они-то, бабушка и няня, и были для будущего поэта «богинями песнопенья», которые «еще в младенческую грудь/Влияли искру вдохновенья / И тайный указали путь». Благодаря им муза «осенила» его, когда «горним светом оза- рясь, / Влетала в скромну келью» и «чуть дышала, преклонясь / Над детской колыбелью». (Впрочем, в раннем младенчестве у поэта была другая няня — Ульяна, а главным лицом тут, надо полагать, была бабушка).
Прочитав «От двух до пяти» Корнея Чуковского, понимаешь, что муза приходит к каждому ребенку. Но такого, как у Пушкина, образа музы еще не было в мировой поэзии. Может, где-нибудь ее и рисовали с младенцем, но им мог быть разве что крылатый Эрот. У Пушкина она впервые беседует с настоящим ребенком. В 1821 году Пушкин подарил античности сюжет, какого тогда не было, написав стихи «Муза», включенные потом в раздел «Подражания древним». Пушкин начинает свое «подражание» так: «В младенчестве моем она меня любила/И семистовольную цевницу мне вручила». Однако мальчик уже не только слушает, а и сам наигрывает «слабыми перстами» и «гимны важные, внушенные богами», / И песни мирные фригийских пастухов». А потом муза, «откинув локоны от милого чела», сама берет у ребенка свирель, оживляя ее «божественным дыханьем» и наполняя детское сердце «святым очарованьем».
А через год поэт, как пишет первый пушкинист П. В. Анненков, соединил «в одной, удивительно изящной раме» свои лицейские воспоминания в 17 лет «с портретом бабушки, Марьи Алексеевны, занимавшей все его ребяческие лета». Именно так, «все ребяческие лета»! Бабушка является в этой «удивительно изящной раме» не кем иным, как «наперсницей волшебной старины», то есть ближайшей подругой, поверенной всех тайн, он потом назвал свою лиру: «наперсница моих сердечных дум». Волшебная старина — это сказочный мир раннего детства. А еще он назвал музу первых лет жизни «другом вымыслов, игривых и печальных».
А теперь— вновь волшебные строки про старушку музу:
Я ждал тебя.
В вечерней тишине
Являлась ты веселою старушкой
И надо мной сидела в шушуне,
В больших очках и с резвою гремушкой.
Ты, детскую качая колыбель,
Мой юный слух напевами пленила
И меж пелен оставила свирель,
Которую сама заворожила.
Но «младенчество прошло, как легкий сон», хотя муза и «отрока беспечного любила». Пришла юность, а с ней — муза с совсем иным обликом и убором: «Вся в локонах, обвитая венком, / Прелестная глава благоухала». Муза эта в «Онегине» стала совсем русской барышней.
И все же. Родная бабушка в роли музы — такого еще не было в мировой поэзии. Ее простонародный наряд для поэта— символ Москвы («В почтенной кичке, в шушуне/Москва премилая старушка»). Образ музы пушкинского детства, «веселой старушки» слился с образом «премилой старушки» Москвы, где это детство прошло. И еще. Мамушка-бабушка… Тут и крестьянские и дворянские черты, кичка крестьянки и «драгой антик», чепец дворянки. Потом, уже на уровне юности, а не старости, это выразится в повести «Барышня-крестьянка». В этом названии — желанное для поэта слияние двух далеко разошедшихся культур, дворянской и крестьянской. Да и в стихах «Наперсница волшебной старины» муза чудесным образом превращается из бабушки в шушуне в барышню, «всю в локонах».
Итак, Пушкин в детстве не был обделен родственной любовью. Бабушка, глава семьи, больше всех любила странного внука, радовалась его фантазиям, не мешала его творческим бессонницам. Родители поневоле должны были уделять больше внимания другим детям.
Осталось добавить, что ни отрывок «Сон», на мой взгляд, один из лучших образцов лицейской лирики поэта, ни блестящие зрелые стихи «Наперсница волшебной старины» Пушкин при жизни не печатал, видимо, не желая этим принизить кого-нибудь из других своих родных. Как-никак, всю славу первой вдохновительницы первого поэта России он отдавал Марии Алексеевне. Потом он и сам понял, что тут славу она разделяет с няней Ариной Родионовной. Но это его детство, его тайна. Рассказы няни, как он писал, затвержены им с детства, «как песни давние или страницы / Любимой старой книги, в коей знаем / Какое слово где стоит». Строчки о рассказах няни он исключил из стихотворения «…Вновь я посетил…», они слишком личные. Все это — его заветные воспоминания, как и отрывок «Сон» и «Наперсница волшебной старины».
Может, Пушкин и вправду слышал мало ласковых слов, сказанных ему, ребенку, по-французски. Зато он наслышался их по-русски! «Эх, Сашка! — говаривала бабушка озорнику-внуку.— Не сносить тебе головы!» Нет, никаких пророчеств, просто слишком его разбаловала.
Уже в Лицее Пушкин задумывался над этим и установил, что муза посещала в младенчестве не его одного. Он ведь не только показывал Дельвигу письма бабушки, не только вспоминал с ним, скажем, про бабушку Чичерину, тетку отца, про дядюшку Петра Львовича, как мы знаем по письму из Михайловского после смерти той и другого. Он внимательно слушал и обдумывал ответные признания друга-лицеиста. Оказалось, что «с младенчества дух песен в нас горел». Его судьба и тут не исключение!
А еще, по словам сестры, бабушка научила Пушкина читать и писать. Наверное, водила его детским пальчиком по строчкам. Лишь недавно издан ее предполагаемый портрет, да и то в молодости, до замужества. Если это Мария Алексеевна, то и тогда она любила носить чепец, а ее тонкие губы и брови были такими же, как на рисунке внука, о чем мы еще расскажем.
Миф о горестном детстве поэта не нужно заменять мифом о детстве блаженном и безоблачном. Недаром Пушкин в плане своих записок наметил пункты «Первые неприятности» и «Мои неприятные впечатления», а в Михайловском, слушая и записывая родные с детства сказки няни, как бы преодолевал этим последствия оторванного от русской жизни «проклятого воспитания», какое он получил и от учителей и «мамзелей», нанятых для него бабушкой. И все-таки она была его первой музой!
«Детства милые виденья»
Образ музы в ее античном воплощении тоже неразрывен со всей жизнью Пушкина, связан он, конечно, и с его московским детством. Муза была и на фронтонах
домов, и на сосудах, и в эстампах, какие показывали детям. Ей клялись в верности и отец, и дядя мальчика, известный поэт, и столько их пишущих друзей. В стихотворении «Муза» мальчик играет на свирели, а потом муза берет ее из рук ребенка и играет сама. Так было «с утра до вечера в немой тени дубов». Восприятие ребенка: дуб над ним полон шелеста, пения птиц, а тень его движется молча.
Пушкин всегда точен. Помнит себя не с «минут бесчувственных рожденья», а с чудом оставшихся в памяти минут младенчества:
С младенчества дух песен в нас горел
И дивное волненье мы познали, —
вспомнит он в знаменитых стихах на 19 октября 1825 года. «Роняет лес багряный свой убор…» Даже воспевая Лицей, детства не «зачеркнул»!
Чудо самопознания! Поэт помнит даже свои ночные и дневные видения в классическом возрасте «от двух до пяти». Задолго до Чуковского открыл для себя, что в этом возрасте сказочность и непреодолимая тяга к стихам — обыденная норма. Мысль о детстве приходит Пушкину на каждому шагу. Вот поэт-пророк выносит скрижали «бессмысленным детям». И тут же, как Пушкин-ребенок, «прямой поэт» летит «во след Бовы и Еру слана». Все начинается с видений детства, даже «Евгений Онегин». Черновик первой главы:
И детства милые виденья
В усталом, томном вдохновенье,
Волнуясь, легкою толпой
Несутся над моей главой.
Вот с чего начинается пушкинский творческий процесс, вот в чем его тайная свобода!
Если мы попробуем снять из этого сугубо «взрослого» романа все «детства милые виденья», если исчезнут оттуда все, кого мы видим детьми, что останется? Уйдут «мальчишек радостный народ», который «коньками звучно режет лед», и дворовый мальчик, изображающий коня, с седоком-собачонкой в санках. Уйдет «ребят дворовая семья», что защитила Татьяну от собак в опустевшем имении Онегина. Уйдут не только внук няни, передавший письмо Татьяны Онегину, но и сама няня со страшной картиной венчания детей («Мой Ваня / Моложе был меня, мой свет, / А было мне тринадцать лет»).
Уйдет Татьяна, что «в семье своей родной / Казалась девочкой чужой» и «дитя сама в толпе детей / Играть и прыгать не хотела». Уйдут и Ольга, для кого няня собирала на широкий луг «всех маленьких ее подруг», дворовых детей, и «чуть отрок» Ленский, «свидетель умиленный ее младенческих забав». Уйдет Онегин, питерский ребенок, который «был резов, но мил». Исчезнет и сам автор, отрок, безмятежно расцветающий в садах Лицея. А что останется? Светское общество. Но Пушкин решительно отказывает ему во взрослости:
Среди лукавых, малодушных,
Шальных, балованных детей…
На черновике «Руслана и Людмилы» в соседстве с портретом Карамзина нарисован нарядный мальчик. Кнутиком он не дает упасть кубарю, деревянному волчку. Пушкин изобразил ребенка, когда писал, как Рогдай гонится за Фарлафом. И в стихах — детскость, интонации мальчишеской игры:
Презренный, дай тебя догнать!
Дай голову с тебя сорвать!
Детским впечатлением мог быть вызван и этот образ:
Так точно заяц торопливо,
Прижавши уши боязливо,
По кочкам, полем, сквозь леса
Скачками мчится ото пса.
Чем объединены впечатления детства, мальчик с кубарем и профиль великого историка? В «Городке» Пушкин-лицеист, ненароком заглянув в детство, вспомнил шуто-героическую пьесу Крылова «Подщипу»:
В трагическом смятенье
Плененные цари,
Забыв войну, сраженья,
Играют в кубари.
Он и царям откажет во взрослости. Вот как отзовется эта связанная с детством тема в одном из предсмертных творений Пушкина:
Игралища таинственной игры,
Металися смущенные народы;
И высились и падали цари;
И кровь людей то славы, то свободы,
То гордости багрила алтари.
Как он рано начал все понимать!
Счастье
Итак, Пушкин в своих сочинениях невольно, сам того не подозревая, очень многое рассказал о своем детстве. Но ему не поверили. Многое из сказанного им, видимо, сочли поэтическим преувеличением, даже штампом. Сюда входят, например, многочисленные уверения поэта, что в детстве он был счастлив.
И когда он пишет: «С подругой обнимуся / Весны своей златой», это означает, что лицеист Пушкин вспомнил, как в Москве и в Захарове он играл со своей старшей сестрой Ольгой. Мы можем даже стать свиде-телями их детской игры, когда —
…моську престарелу,
В подушках поседелу,
Окутав в длинну шаль
И с нежностью лелея,
Ты к ней зовешь Морфея.
Сие означает, что Ольга в детстве играла, как с куклой, со старенькой комнатной собачкой, закутывала ее в шаль, как ребенка, клала на подушки и баюкала.
Края Москвы, края родные,
Где на заре цветущих лет
Часы беспечности я тратил золотые,
Не зная горестей и бед.
Снова часы детской беспечности названы золотыми. И как по-пушкински сказано о времени, даже самом счастливом: «тратил». Неужели и эти строки из «Воспоминаний в Царском Селе» были поэтическим преувеличением, одическим штампом? А возьмем странные строки из стихотворения «Мечтатель». Они обращены к музе:
На слабом утре дней златых
Певца ты осенила,
Венком из миртов молодых
Чело его покрыла…
Что это значит? Ведь муза прилетает к тому, кто бряцает на лире, то есть пишет. Зачем она младенцу, лежащему в колыбели? И за что она увенчала этого младенца венком из молодых миртов? Ведь он еще ничего не создал! И не слишком ли много берет на себя поэт, не в первый и не в последний раз утверждая, что богиня песнопений увенчала его еще в колыбели, склонялась над ним и даже преклонялась перед ним, подобно тому как цари, пастухи и волхвы преклонялись перед избранным младенцем? И вообще, где она в допожарной Москве взяла мирты для венца? А вот это единственный вопрос, на который им можем ответить. В «Путешествии из Москвы в Петербург» поэт вспомнит сады своего детства: «Плошки и цветные фонари не освещают английских дорожек, ныне заросших травою, а бывало уставленных миртовыми и померанцевыми деревьями». Вот они, московские мирты! А муза могла слететь с любой виньетки в книге, с фронтона любого дома, украшенного барельефами на темы античности. Шутки шутками, но ведь Пушкин не только ощущал себя избранным с младенчества певцом, но и помнил счастье, испытанное еще в колыбели и связанное именно с поэзией. И еще. Пушкин не утверждает, что муза преклонилась перед ним, как перед избранным младенцем, в самый день его рождения. Если бы он так считал, это было бы дешевым кощунством и штампом, достойным пародии. Минуты рождения поэт еще в лицейских стихах назвал бесчувственными. Он помнил другое время, когда маленький человек уже способен упиваться колыбельными, а потом сказками бабушек и мамушек.
Пушкин не говорит, что человек рожден для счастья. Он утверждает нечто другое: человек рождается счастливым. Даже если он— сирота, подкидыш. В жестоком «Романсе», том самом, где «Под вечер осенью ненастной / В далеких дева шла местах», несчастная мать, кладя «тайный плод любви несчастной» на порог чужого дома, баюкает его последней материнской колыбельной:
Пока лета не отогнали
Беспечной радости твоей,
Спи, милый! горькие печали
Не тронут детства тихих дней.
В сущности, великий поэт уверяет нас, что в раннем детстве он был счастлив, как счастлив всякий здоровый ребенок. Даже в унылейшем послании «Князю А. М. Горчакову» поэт, говоря о своем печальном жребии, презрев требования жанра, сделал исключение для раннего детства:
Две-три весны, младенцем, может быть,
Я счастлив был, не понимая счастья.
Как поэт он понял, осознал, что в его жизни было счастье, и не собирается от него отказываться. Эти две- три весны всегда с ним, они нужны ему:
Они прошли, но можно ль их забыть?
Как мы уже знаем — в послании Горчакову есть нечто пророческое. И когда он счел юность Горчакова «зарей весны прекрасной», а свою юность осеннею зарей, то, как оказалось, он был прав. Автору послания и его адресату по 18 лет. Горчаков к тому времени не прожил и четверти своей долгой жизни. А Пушкин уже подходил к перевалу, ко второй половине ее. «Они пришли, твои златые годы»,— писал он товарищу. Златые годы, златые дни весны у Пушкина, как и у его героя Ленского, в 18 лет уже далеко позади.
Тогда же в послании к Дельвигу Пушкин писал:
Я лирных звуков наслажденье
Младенцем чувствовать умел.
То есть он в эти годы («две-три весны», говоря словами поэта-лицеиста, «от двух до пяти», говоря словами Чуковского) испытал, а мы теперь знаем, что это происходит со всяким младенцем этого возраста, счастье, связанное с овладением словом, наслаждение поэтическим словом, которое, как он настаивает, и предопределило его судьбу («И лира стала мой удел»). Обычное явление стало в жизни Пушкина великим, поворотным событием, которое нельзя забыть. А в ранней редакции того же послания Пушкин (он умел быть благодарным) благословил свое детство:
В младенчестве моем я чувствовать умел,
Все жизнью вкруг меня дышало;
Все резвый ум обворожало.
И первую черту я быстро пролетел.
С какою тихою красою Минуты детства протекли;
Хвала, о боги, вам! вы мощною рукою
От ярых гроз мирских невинность отвели.
Но все прошло — и скрылись в темну даль
Свобода, радость, восхищенье.
Вот оно каково, наследие его детства, его золотой запас: «свобода, радость, восхищенье». Как быстро прошло само детство и как огромна была каждая его минута! Сколько могло быть несчастий, утрат, но все как-то обошлось без «ярых бурь мирских», которые так потрясли детство его отца и его матери. «В семейственной жизни прадед мой Ганнибал так же был несчастлив, как и прадед мой Пушкин»,— сообщает поэт в «Начале автобиографии». То же и с бабками. Мать Сергея Львовича, как мы уже видели, «довольно натерпелась» от своего мужа. Она была второю женой Льва Александровича. «Первая жена его, урожденная Воейкова,— пишет внук, — умерла на соломе, заключенная им в домашнюю тюрьму за мнимую или настоящую ее связь с французом, бывшим учителем его детей, и которого он весьма феодально повесил на воротах». Что же касается его бабушки Марии Алексеевны Пушкиной и деда Осипа Абрамовича Ганнибала, то «и сей брак был несчастлив. Ревность жены и непостоянство мужа были причиною неудовольствий и ссор, которые кончились разводом». Ничего подобного не было во вполне благополучном браке родителей Пушкина. И это, как признал сам поэт, немало значило в его жизни.
«В младенчестве моем я чувствовать умел», то есть обладал, как всякий нормальный ребенок, всею полнотой чувств, когда все окружающее не только давало пищу «резвому», то есть стремительно развивающемуся уму, познающему мир, но и «обворожало» его, давало познанию, говоря научно, ярко выраженную положительную эмоциональную окраску. Пушкин настаивает на том, что он все это помнит. И он действительно помнил! Обдумывая эти слова, я сначала счел, что все-таки нельзя сказать, будто он умел чувствовать, это же давалось само собой. Уметь чувствовать, делать все, чтобы не растерять свое эмоциональное богатство, — этому он начал учиться, когда сознательно стал писать стихи, когда принял решение быть поэтом.
«Я был рожден для наслажденья», — читаем мы в наброске посвящения к «Бахчисарайскому фонтану». Штамп? Поэтическое общее место? Как бы не так! Вот в чем состояло это наслажденье:
В моей утраченной весне
Так мало нужно было мне
Для милых снов воображенья.
В зрелые годы для работы творческого воображения нужно гораздо больше. Нужно иной раз и «будить мечту сердечной силой», случается, что и «напрасно чувство возбуждал я», и вообще, чтобы пробудить лирой чувства добрые в других людях, нужно не давать им уснуть и в самом себе. Поверим Пушкину в его с виду неточном утверждении, что он «лирных звуков наслажденье младенцем чувствовать умел». Ведь хоть и мало, но что-то было ему нужно и для «милых снов воображенья». Думаю, он очень рано оценил и полюбил в самом себе творческое состояние и умел если не вызывать его в себе, то хотя бы распознавать приход вдохновения и, не отвлекаясь, вновь отдаваться ему. Итак, Пушкин открыл для себя, далеко обогнав свое время, то, что человек рождается счастливым, даже слезы ребенка не опровергают для него этого постулата:
От радости в постеле
Заплакало дитя.
А еще он открыл для себя закономерности возраста «от двух до пяти» и наилучшим образом воспользовался своим открытием. Он сохранял и культивировал в себе эмоциональное богатство, которое с младенчества дается каждому человеку. Он всем своим существом сопротивлялся равнодушию, охлаждению, омертвлению души, хотя знал, что подобно тому как «цветок полей, листок дубрав / В ключе кавказском каменеет», в житейской суете и дрязгах, в том, что он называл «волненьем жизни», и вправду «мертвеет и ветреный и нежный нрав». Ветреный и нежный, то есть детский. Пушкин осознал, запомнил, сохранил и развил в себе общечеловеческую гениальность, что дается нам в раннем детстве. Это и было главным событием его «младенчества», главным его итогом, рядом с которым ушли в тень живые подробности, лица, картины, конфликты этого младенчества, и потому в стихах Пушкина детство изображено несколько абстрактно, с виду неубедительно. Детство в его стихах казалось таким взрослым, будто Пушкин, как его иногда рисуют нынешние малыши, и в колыбельке лежал с бакенбардами. Поэт и сам, видимо, понимал это, и потому многие из стихов, связанных с детством, либо вычеркнул, либо не опубликовал, как это было с «Посланием к Юдину».
Лишь случайно, между прочим он написал, скажем, во что они в детстве играли со старшей сестрой Ольгой. А с младшим братом Левушкой? Об этом он нечаянно сказал в письме к брату из Михайловского весной 1825 года. Пушкин только что прочел повесть Антония Погорельского «Лафертовская маковница» и восхитился ее героем-котом: «Душа моя, что за прелесть бабушкин кот! Я прочел два раза и одним духом всю повесть, теперь только и брежу Трифоном Фалалеичем Мурлыкиным, выступаю плавно, повертывая голову и выгибая спину». А теперь встаньте, дорогой читатель, и плавно пройдитесь поступью кота, не забывая повертывать голову и выгибать спину, и вы поставите себя на место Пушкина- поэта и Пушкина-ребенка. Он и в Лицее привадил к себе в комнатушку кота, это связывало его с детством, с семейным уютом:
Мурлыча, в келье дремлет
Спесивый старый кот.
Можно представить себе, какие позы принимал поэт, когда в том же Михайловском он изображал и графа Нулина, и тамошнего кота не только стихами, но и собственными движениями:
Так иногда лукавый кот,
Жеманный баловень служанки,
За мышью крадется с лежанки:
Украдкой медленно идет,
Полузажмурясь, подступает,
Свернется в ком, хвостом играет,
Разинет когти хитрых лап
И вдруг бедняжку цап-царап.
И, наверное, точно так же, стихами и движениями, он в том же Михайловском изобразил еще одного кота, хорошо знакомого с детства по сказкам няни:
У лукоморья дуб зеленый.
Златая цепь на дубе том:
И днем и ночью кот ученый
Все ходит по цепи кругом.
Идет направо — песнь заводит,
Налево — сказку говорит.
Направо-налево, налево-направо, иначе и не взберешься на дуб по цепи, обвитой вокруг ствола, и не спустишься с него. И все время приходится менять жанры: лирика-эпос, лирика-эпос. Написав вступление к своей молодой поэме «Руслан и Людмила», Пушкин превратил ее в сказку ученого кота.
Корней Чуковский уже перед смертью добавил к своим заповедям для детских поэтов последнюю, четырнадцатую: «Писатель, пишущий для маленьких детей, непременно должен быть счастлив. Счастлив, как и те, для кого он творит». Вступление к «Руслану и Людмиле» дети любят с малых лет потому, что его создатель был счастлив, как ребенок, изображая ученого кота. А все эти русалки, лешие, Баба Яга в своей ступе, богатыри, королевич, царевна с бурым волком, колдун, несущий богатыря,— это же и есть те самые «детства милые виденья», о которых он пишет в черновике первой главы «Онегина». (Заметим, что для крестьянского мальчика русалки и лешие не были сказочными персонажами, они в его сознании были реальными героями быличек, в их существовании он не сомневался. Для Саши Пушкина, юного поклонника энциклопедистов, они уже стали такими же героями волшебных сказок, как королевич или Баба Яга.) Эти вот виденья и заполняли те самые «две-три весны», встречи с ними и были главными событиями детства Пушкина.
Наверное, так же был счастлив Пушкин и когда писал свои стихотворные сказки. Думаю, именно это, говоря словами Чуковского, сумасшедшее счастье и диктовало ему «Салтана» и «Балду». Поэт не подозревал (это потом несказанно удивило исследователя детской психики и сказочника XX века), что пишет для малых детей, что они-то и станут его самыми восторженными читателями на все века, как он сам был восторженным, очарованным слушателем бабушек и мамушек. Но когда он писал стихотворные сказки, к нему возвращалась его детскость, которая временами его, великого поэта и поднадзорного ссыльного, вдруг превращала, скажем, в кота Трифона Фалалеича. Он как бы переселялся в свое раннее детство, когда, как и каждый человек в этом возрасте, был просто обязан чувствовать себя счастливым. Этой детскости мы не найдем в его стихах о собственном детстве.
Впрочем, однажды в его более чем «взрослом» «Борисе Годунове» прорвался голос малого ребенка, да еще в ритме и с интонациями Корнея Чуковского. Гришка Отрепьев на миг и впрямь ощутил себя царевичем Димитрием:
Что, когда бы наш царевич из могилы вдруг воскрес
И вскричал: А где вы, дети, слуги верные мои?
А дальше уже совершеннейший дедушка Корней:
Вы подите на Бориса, на злодея моего,
Изловите супостата, приведите мне его!..
Могли эти строки повлиять на Чуковского, пусть неосознанно? Разумеется, могли. «У Пушкина —до чего одинаково распределены все грамматические категории слов,— писал Чуковский в 1908 году,— Пушкинская грамматика— чудо душевного равновесия, душевной гармонии. И если воспринять пушкинскую поэзию как некую норму человеческой речи, можно сразу заметить, как сильно отклоняется от нормы творчество Валерия Брюсова — из-за чрезмерного скопления обдуманных, но не пережитых им эмоций». Эмоции, какими до краев наполнены его стихотворные сказки, Пушкин, как мы видели, пережил еще в раннем детстве. Человек, который подсчитывал, как распределены грамматические категории у Пушкина, не мог не заметить у него необычный ритм, необычные интонации, необычную поэтическую речь от имени семилетнего ребенка.
Ты, детскую качая колыбель,
Мой юный слух напевами пленила.
Эти слова Пушкина приходится теперь считать столь же достоверными, как и наблюдение автора «От двух до пяти»: «Еще в колыбели, еще не научась говорить, ребенок восьми или девяти месяцев уже услаждается ритмическим лепетом, многократно повторяя какой-нибудь полюбившийся звук».
В главке «Первые стихи» Чуковский снова берет в союзники Пушкина: «О тяготении маленьких детей к зву-ковым арабескам, имеющим часто орнаментальный характер, я впервые узнал из биографии Пушкина. У его приятеля Дельвига был брат, семилетний Ваня, которого Дельвиг называл почему-то романтиком. Услышав, что Ваня уже сочиняет стихи, Пушкин пожелал познакомиться с ним, и маленький поэт, не конфузясь, внятно произнес, положив обе ручонки в руки Пушкина:
Индияди, Индияди, Индия!
Индиянда, Индиянда, Индия!
Александр Сергеевич, погладив поэта по голове, поцеловал его и сказал:
— Он точно романтик…
Видимо, Чуковский запомнил этот эпизод из воспоминаний А. П. Керн наизусть и не сверял его с текстом. Между тем стихи мальчика звучали так:
Индиянди, Индиянди, Индия!
Индиинди, Индиинди, Индии!
А самому Ване было не семь лет, а четыре. Чуковский считал этот эпизод достойным войти в биографию поэта И верно. До двадцатого века в мире не было никого кроме Пушкина, кто считал бы, что такие стихи внушены четырехлетнему ребенку самою музой, богиней песнопений. А дело было в том, что, держа в своих руках доверчивые ручонки маленького стихотворца, Пушкин как бы вновь встретился со своим ранним детством.
Уединенный кабинет
Когда Николай I разрешил поэту покинуть Михайловское, место ссылки, Пушкину настала пора вернуться домой. Но где же он, этот Дом? Определить это оказалось не так-то просто. В 1827 году поэт писал П. А. Оси- повой в Тригорское: «Пошлость и глупость обеих наших столиц равны, хотя и различны, и так как я притязаю на беспристрастие, то скажу, что, если бы мне дали выбирать между обеими, я выбрал бы Тригорское». Тут он, может быть, вспомнил дом своего детства, где разыгрывались кукольные спектакли на французском. «Почти как Арлекин,— добавляет поэт,— который на вопрос, что он предпочитает: быть колесованным или повешенным? — отвечал: я предпочитаю молочный суп». Как, наверное, хохотал над этой репликой мальчик, услышавший ее впервые.
Определение своему Дому Пушкин дал через два года от имени Владимира, одного из героев неоконченного «Романа в письмах»: «Петербург прихожая, Москва девичья, деревня же наш кабинет». Это и есть пушкинский образ Дома. Дом— это прежде всего кабинет, мастерская, место для творческих занятий. «Порядочный человек, — добавляет пушкинский герой, — проходит через переднюю и редко заглядывает в девичью, а сидит у себя в своем кабинете».
Прообразом такого Дома-кабинета в детстве Пушкина был кабинет его отца, где, возможно, сын бывал чаще, чем отец.
В стихах Пушкина образ кабинета, чуждого пошлости и глупости, возник еще в Лицее, а в его сознании — еще в годы московского и подмосковного детства:
Случалось ли ненастной вам порой
Дня зимнего при позднем тихом свете,
Сидеть одним, без свечки в кабинете;
Все тихо вкруг; березы больше нет;
Час от часу темнеет окон свет;
На потолке какой-то призрак бродит;
Темнеет взор; «Кандид» из ваших рук,
Закрывшися, упал в колени вдруг.
И мальчик засыпает в кабинете у отца, который он в этих стихах считает и ощущает своим собственным и куда, по домашним воспоминаниям, хаживал он и со свечкой, просиживая ночи над книгами. Здесь, в кабинете или в библиотеке, он встречается с автором «Кандида», подобно тому как в младенчестве (об этом речь идет в том же отрывке «Сон») после сказки мамушки в мечтах «встречал лихих Полканов и Добрыней». О такой же встрече в детстве, в кабинете отца, Пушкин вспомнит еще раз, но уже в 1836 году:
Еще в ребячестве, бессмысленном и злом,
Я встретил старика с наморщенным челом,
С очами быстрыми, зерцалом мысли зыбкой,
С устами, сжатыми насмешливой улыбкой.
Перед нами впечатление от портрета Вольтера, увиденного мальчиком. После встречи с автором «Кандида» ребячество, надо полагать, стало уже не столь злым и бессмысленным.
А в Лицее Пушкин мечтает о собственном кабинете. Вот Дом, который он лелеет в воспоминании и в воображении. В «Послании к Юдину» Пушкин переносит этот кабинет в Захарово и наполняет его образами и строками еще не написанных им стихов. В «Городке» вновь мечты о чтении, о своих друзьях-книгах, в том числе запретных, переписанных в потаенную сафьяновую тетрадь на нижней полке:
Укрывшись в кабинет,
Один я не скучаю
И часто целый свет
С восторгом забываю.
Кабинета у Пушкина в Лицее не было. Это воспоминание и в то же время мечта об отцовском кабинете в Москве и в Захарове. Там он в восторге забывал целый свет. «И забываю мир», — отзовется это в «Осени», когда детская и отроческая мечта о кабинете осуществится.
Друзья мне — мертвецы,
Парнасские жрецы, —
сказал он в «Городке». А через 23 года, умирая, он обратится к книгам, верным спутницам детства, юности и зрелых лет, старым и новым: «Прощайте, друзья!»
Пушкинская Татьяна, став светской дамой, готова отдать «всю эту ветошь маскарада» «за полку книг, за дикий сад» своего детства. У автора «Городка» такие же книги «над полкою простою / Под тонкою тафтою». И такой же дикий сад: «окошки в сад веселый,/Где липы престарелы / С черемухой цветут».
Пушкин воспитывался вместе с сестрой, летнее время проводил в Захарове, и потому его детство просвечивает и в некоторых подробностях детства милых его сердцу уездных барышень. Голос самого поэта слышен в черновом варианте письма Татьяны:
Моя смиренная семья,
Уединенные гулянья
Да книги, верные друзья, —
Вот все, что так любила я.
Страсть к уединенным гуляньям Пушкин сохранил с детства на всю жизнь. Про таких, как Татьяна, в «Романе в письмах» сказано: «Эти девушки, выросшие под яблонями и между скирдами, воспитанные нянюшками и природою, гораздо милее наших однообразных красавиц, которые до свадьбы придерживаются мнения своих матерей, а затем— мнения своих мужей». О том же в «Барышне-крестьянке»: «Воспитанные на чистом воздухе, в тени своих садовых яблонь, они знание света почерпают из книжек. Уединение, свобода и чтение рано развивают в них чувства и страсти, неизвестные рассеянным нашим красавицам». Главным достоинством юных существ, воспитанных таким образом, Пушкин считает «особенность характера, самобытность (individualité), без чего, по мнению Жан-Поля, не существует и человеческого величия». «Самостоянье человека, залог величия его», — сказано о чувствах и страстях, неизвестных светским людям, в знаменитом стихотворном наброске, посвященном, кстати, «любви к родному пепелищу, любви к отеческим гробам». Как считает поэт, «навык света скоро оглаживает характер и делает души столь же однообразными, как и головные уборы».
Но ведь не об одних девушках тут речь. Ведь и сам Пушкин был воспитан на чистом воздухе, в тени своих садовых яблонь, и его детство прошло под яблонями и между скирдами, и его воспитывали природа и нянюшки. «Свобода, радость, восхищенье»,— писал он о детстве в послании к лицейскому другу. «Уединение, свобода и чтение» — так сказано о детстве, протекшем в «деревне, нашем кабинете», в дни Болдинской осени.
Итак, от самого детства идут самобытность, характер, индивидуальность, даже величие духа у тех, кто получил такое воспитание, как пушкинские деревенские барышни. И как он сам. Девушек этих он наблюдал в их и в своем собственном детстве, одна из них была ему родной сестрой, другая, как мы увидим ниже, ранней любовью, оказавшей влияние на всю его поэзию.
Похоже на детство Пушкина и детство Маши Троекуровой. Ее отец, как и Сергей Львович Пушкин, тоже не мешал ей читать. Маша «привыкла скрывать от него свои чувства и мысли, ибо никогда не могла знать наверно, каким образом они будут приняты. Она не имела подруг и выросла в уединении». И если уж девочки, героини Пушкина, становились независимыми от мнения матерей и скрывали свои мысли и чувства от отцов, не рассчитывая на их понимание, то что же можно сказать о детстве их автора!
Как и в детстве Пушкина, «огромная библиотека, составленная большею частью из сочинений французских писателей XVIII века, была отдана в ее (Маши Троекуровой.— В. Б.) распоряжение. Естественным образом, перерыв сочинения всякого рода…» Прервем цитату. Вот так, естественным образом, и сложился у Пушкина еще в детстве образ Дома-мастерской, Дом, душа которого — кабинет с библиотекой.
На книжной полке мечтателя, автора «Городка», среди «певцов красноречивых, прозаиков шутливых» есть, конечно, и книги его московского детства. В Лицей, по свидетельству Пущина, он явился весьма начитанным. Среди них, конечно, тот же Вольтер, который «всех боле перечитан, всех менее томит». А дальше— Вергилий, Тассо, Гомер, Державин с Горацием, «мудрец простосердечный Ванюша Лафонтен», Дмитриев с Крыловым (по свидетельству сестры, Пушкин до Лицея любил сочинять басни). Далее— любимцы отца, а потом и сына, легкомысленные Вержье, Парни, Грекур. Тут и драматурги: Еврипид, Расин и Озеров, Фонвизин и Княжнин. Не назван Мольер, вдохновлявший Пушкина на комедии в его долицейском детстве. А на нижней полке «Опасный сосед», написанный сначала его «парнасским отцом», а потом «дядей и на Парнасе», Василием Львовичем. Его героя Буянова Пушкин объявит своим двоюродным братом и заставит потанцевать в «Онегине» на балу у Лариных. Конечно, что-то в этом списке прибавилось к любимейшим книгам его детства, а что-то, например Мольер, почему-то и убавилось. И у нас нет возможности, как у героини «Романа в письмах», «найти на полях его замечания, бледно писанные карандашом; видно, что он был тогда ребенок. Его поражали мысли и чувства, над которыми стал бы он теперь смеяться; по крайней мере видна душа свежая, чувствительная». Видел ли Пушкин уже в зрелости на отцовских книгах свои детские пометки?
Такие пометки могли быть, например против строки Державина из оды «Водопад»: «Алмазна сыплется гора». В зрелые годы Пушкин привел ее как пример поэтической смелости.
Кабинет для Пушкина и есть то священное место, тот алтарь, где располагаются домашние божества, его лары и пенаты. Ради них он и в 1829 году был рад оставить «людское племя»:
Дабы стеречь ваш огнь уединенный,
Беседуя с самим собою. Да!
Часы неизъяснимых наслаждений!
Они дают мне знать сердечну глубь…
Они меня любить, лелелять учат
Не смертные таинственные чувства…
А дальше обратим внимание на слова «первая наука», наука, идущая от домашних божеств его детства:
И нас они науке первой учат
Чтить самого себя. О нет, вовек
Не преставал молить благоговейно
Вас, божества домашние.
Внутренняя независимость, собственное достоинство, тайная свобода (а какая еще свобода могла быть в родительском доме среди нянь, мамушек, гувернанток, а потом учителей!), основанные на самоуважении, понятиях чести и непрестанном труде мысли и воображения. А их внешнее выражение — книги, рабочие тетради, милые сердцу вещицы, а также вид в окно, виды, как тогда говорили о пейзажах, и другие картины на стенах, вид в зеркало. Это и есть его лары, его пенаты, его домашние божества.
Он радовался своим единомышленникам-единоверцам:
Благословляю новоселье,
Куда домашний свой кумир
Ты перенес — а с ним веселье,
Свободный труд и сладкий мир.
Свободный труд и есть святая святых Дома-кабинета. То, что отвлекает от труда, враждебно домашним божествам:
Ты счастлив: ты свой домик малый,
Обычай мудрости храня,
От злых забот, от лени вялой
Застраховал, как от огня.
Образ кабинета со списком прочитанных книг характеризует его любимейших героев. С Онегиным мы вместе с автором знакомимся сначала по его петербургскому кабинету, а потом вместе с Татьяной решаем, что же он собой представляет,— по кабинету деревенскому. Любя друга, например Чаадаева, поэт любит и его кабинет. Скучая по другу, скучает и по его кабинету:
Как обниму тебя! Увижу кабинет,
Где ты всегда мудрец, а иногда мечтатель
И ветреной толпы бесстрастный наблюдатель.
Приду, приду я вновь, мой милый домосед.
Вот что такое дом и вот ради чего стоит стать домоседом:
С тобою вспоминать беседы прежних лет,
Младые вечера, пророческие споры,
Знакомых мертвецов живые разговоры;
Поспорим, перечтем, посудим, побраним,
Вольнолюбивые надежды оживим,
И счастлив буду я…
Вот к таким спорам прислушивался он в детстве, до 12 лет, в кабинетах отца, дяди, Бутурлиных, в присутствии Карамзина, которого он, по свидетельству отца, и в 5–6 лет выделял из всех прочих знакомцев своих родителей, а также Дмитриева, Жуковского, Батюшкова…
Иногда при воспоминании о доме Лицей казался ему тюрьмой «с защелкой на дверях». «С тех пор», то есть после отъезда из Москвы, «гляжу на свет, как узник из темницы». В год выпуска из Лицея он вопреки всему, что сказал до и скажет после этого о своем юном лицейском счастье, вдруг заявил:
В кругу чужих, в немилой стороне
Я мало жил и наслаждался мало.
Он не стал развивать эту тему, возводить на Лицей такую напраслину. Но тоска по московскому дому была, она слышна, скажем, в лицейском послании к Батюшкову:
Пою под чуждым небом
Вдали домашних лар.
Теперь мы знаем, какие это были лары. Он скучал по ним, и по прежним, и по будущим. Уединенный кабинет, молчаливый кабинет…
Укроюсь с тайною свободой,
С цевницей, негой и природой.
Под сенью дедовских лесов.
Дом-кабинет, приют для творчества. А как же это сочетается с домом в обычном смысле этого слова? А жена? А дети? Ответ на это находим в «Моцарте и Сальери»:
…играл я на полу
С моим мальчишкой. Кликнули меня.
Это кабинет Моцарта. Приходит человек с заказом и все меняется:
Сел я тотчас
И стал писать.
В стихотворении «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит…» поэт зовет жену, мать своих детей «в обитель дальную трудов и чистых нег». Продолжение этих стихов Пушкин набросал прозой. Одна из фраз этого наброска звучит как некрасовская строка, написанная амфибрахием:
Блажен, кто находит подругу — тогда удались он домой.
И прежние, знакомые мотивы, бесстрашною рукой доведенные до конца: «О, скоро ли перенесу мои пенаты в деревню— поля, сад, крестьяне, книги; труды поэтические — семья, любовь — религия, смерть». Программа осуществленная Львом Толстым! «Поля, сад… книги»… «За полку книг, за дикий сад»…
Таков образ Дома-кабинета, Дома-мастерской у Пушкина. Образ, возникший в раннем детстве, когда он ребенком тихо сидел в кабинете отца и восторженно смотрел на Карамзина, когда не только отец, но и мать читали ему с сестрой книги, когда мальчик один со свечкой пробирался в кабинет и читал, читал… Дом- кабинет, погруженный в природу и в народную жизнь, где он, как его Моцарт, сочинял бы и играл с детьми. Играл сочиняя — и сочинял играя.
Ранняя любовь
Этот пункт внесен (и зачеркнут) Пушкиным во вторую программу его записок. Они, увы, не были написаны. И все же в 1835 году рука Пушкина перенесла на бумагу следующий текст: «Как это странно, что я был так безгранично предан и глубоко привязан к этой девушке в возрасте, когда я не только не мог испытывать страсть, но даже понять значение этого слова. И однако же это была страсть!» И это далеко не все из того, что мы можем прочесть у Пушкина о ранней любви.
Делая обширную выписку из дневника Байрона (во французском переводе), Пушкин, конечно же, думал и о себе. Заметка «Байрон» посвящена детству великого англичанина. Здесь Пушкина больше всего интересовало влияние детства на дальнейшую жизнь поэта. В особенности его ранней любви. Пушкин использует именно это понятие: «Осьмилетний Байрон влюбился в Марию Доф, — подчеркивает он. — 17 лет после этого в одном из журналов он описал свою раннюю любовь». И раз уж мы не располагаем пушкинским рассказом о его ранней любви, то почитаем вместе с Пушкиным рассказ о ранней любви Байрона.
«Я и сейчас спрашиваю себя, что бы это значило? Я не виделся больше с нею с этих пор». Мы не знаем, виделся ли Пушкин в юности или в зрелости с предметом своей ранней, детской любви, хотя в его стихах, кажется, есть свидетельство об этом. Но, скорее всего, он, как и Байрон, не искал встречи, а с удивлением вглядывался в воспоминания детства. «Мы были тогда детьми, — продолжает Байрон. — Я пятьдесят раз с тех пор влюблялся, и тем не менее я помню все то, о чем мы тогда говорили, помню наши ласки, ее черты, мое волнение, бессонницы и то, как я мучил горничную своей матери, заставляя ее писать Мери от моего имени; и она в конце концов уступала, чтобы меня успокоить».
Восьмилетний Пушкин мог бы сам писать письма по-французски. Но кто передавал его письма? И нет ли следов его детской бессонницы в сцене Татьяны с няней? Следы — в черновике:
И все молчало; при луне
Лишь кот мяукал на окне.
Это уже восприятие не влюбленной девушки, а влюбленного ребенка. Как жаль, что обо всем этом мы можем прочесть не в записках Пушкина, а лишь в его выписках из Байрона. И все же: «Я припоминаю наши прогулки и то блаженство, которое я испытывал, сидя рядом с Мери в ее детской (…) в то время как ее маленькая сестра играла в куклы, а мы с серьезностью, на свой лад ухаживали друг за другом». Тут уже вспоминается Ленский, «чуть отрок (в черновике — ребенок), Ольгою плененный», «свидетель умиленный ее младенческих забав». Мы еще поговорим об этом, а пока снова вернемся к байроновской записи, остановившей внимание Пушкина в последние годы жизни:
«Но как же это чувство могло пробудиться во мне так рано? Какова была причина и источник этого? И в ту пору, и несколько лет спустя я не имел никакого понятия о различии полов. И тем не менее мои страдания, моя любовь к этой маленькой девочке были так сильны, что на меня находит сомнение, любил ли я по-настоящему кого-нибудь с тех пор». «Ранняя любовь» как будто бы не стала соперницей влюбленностям Пушкина. Но проницательная дочь генерала Раевского Мария Волконская в своих записках предположила-таки, что Пушкин по- настоящему любил только свою музу.
«Как бы то ни было, — сообщает Байрон, — известие о ее замужестве как громом меня поразило. Я чуть не задохнулся, к великому ужасу моей матери и к неверию всех остальных». Может быть, предполагаемое «неверие всех остальных» и остановило Пушкина. Может, потому он и вычеркнул пункт «Ранняя любовь» из программы записок.
Память о ранней любви много значила для взрослого Байрона, великого поэта: «Это необычайное явление в моей жизни (ведь мне не было еще тогда полных восьми лет) заставило меня задуматься, и разрешение этого будет меня мучить до конца моих дней. С некоторого времени — сам не знаю почему — воспоминание о Мери (не чувство к ней) вновь пробудилось во мне с большей силой, чем когда-либо». Слово «воспоминание» подчеркнуто.
У Пушкина есть три образа любви: 1) любовь-реальность, 2) любовь-мечта, самая возможность любви, 3) любовь-воспоминание, более уже невозможная, невозвратная. Предмет такой любви может стать не только собирательным, но и множественным, как в черновиках «На холмах Грузии».
Прошли за днями дни. Сокрылось много лет.
Где вы, бесценные созданья?
Иные далеко, иных уж в мире нет,
Со мной одни воспоминанья.
В воспоминаниях невозвратная, невозможная любовь становится невинной, девственной, приобретает черты первой, идеальной любви. Все «бесценные созданья» вдруг входят в один образ:
Я твой по-прежнему, тебя люблю я вновь
И без надежд и без желаний.
Как пламень жертвенный, чиста моя любовь
И нежность девственных мечтаний.
Но вернемся к «нежности девственных мечтаний» Байрона: «Какой очаровательный образ ее сохранился в моей душе! Ее каштановые волосы, ласковые светло- карие глаза, все, вплоть до ее костюма. Я был бы поистине несчастен, если бы увидел ее теперь. Дей-ствительность, как бы ни была она прекрасна, разрушила бы или, по меньшей мере, возмутила бы черты восхитительной Пери, которой она тогда явилась и которая продолжает жить во мне, хотя с тех пор прошло более шестнадцати лет: ибо мне сейчас двадцать пять лет и несколько месяцев».
Образ маленькой пери жил и в сознании Пушкина. И может быть, он сделал этот перевод из другого англичанина, Барри Корнуола, когда в 1830 году впервые прочел о маленькой пери Байрона в книге Т. Мура «Мемуары лорда Байрона», вышедшей в Париже.
Можно краше быть Мери,
Краше Мери моей,
Этой маленькой пери;
Но нельзя быть милей
Резвой, ласковой Мери.
Резвой и ласковой, как ребенок. Но если Байрону ранняя любовь казалась необычным явлением, удивительным проявлением его неповторимой личности, то Пушкин щедро одарил ею своих героев. Даже казака из «Полтавы», того, кто вез донос на Мазепу. Казак любил Марию Кочубей:
Среди полтавских казаков,
Презренных девою несчастной,
Один с младенческих годов
Ее любил любовью страстной.
Младенческие годы и страстная любовь? Но ведь это то же самое, что «ранняя любовь» у самого Пушкина и «однако же это была страсть!» — у Байрона. Байрон- юноша, узнав о замужестве своей Мери, «задохнулся». Казак из «Полтавы», узнав про связь Марии с Мазепой, выразил свои чувства еще более энергичным образом. В черновиках поэмы сказано, что при одной мысли о Мазепе «все черты его угрюмы / Смех ярый зверски искажал». Зато его чувства к изменившей Марии выражены так, будто их испытывает великий поэт:
Убитый ею, к ней одной
Стремил он страстные желанья,
И горький ропот и мечтанья
Души кипящей и больной…
Еще хоть раз ее увидеть
Безумной жаждой он горел;
Ни презирать, ни ненавидеть
Ее не мог и не хотел.
Великие стихи! Но, может быть, Пушкин исключил их из поэмы потому, что они были для него слишком личными, слишком связанными с обстоятельствами его жизни, которые он не хотел раскрывать? Может быть, он пережил то же, что пережил Байрон, узнав о замужестве предмета своей детской любви? Но ведь никто этому не поверит, как не поверили Байрону.
В «Романе в письмах», наоборот, ранней, детской любви верна девушка: «Машенька не видела его семь лет, но от него в восхищении. Он провел у них одно лето, и Машенька беспрестанно рассказывает все подробности
его тогдашней жизни» и хранит его пометы на своих книгах. Ранней любви верны княжна Наталья Ржевская и стрелецкий сирота Валериан из «Арапа Петра Великого». Тот самый Валериан, который когда-то чуть не наделал пожара в комнате своего наставника, пленного шведа, стреляя из детской пушечки.
Верны ранней любви и герои «Дубровского»: «Дубровский узнал сии места; он вспомнил, что на сем холму играл он с маленькой Машей Троекуровой, которая была двумя годами его моложе и тогда уже обещала стать красавицей. Он хотел осведомиться о ней у Антона, но какая-то застенчивость удержала его». Так, видимо, и Пушкин хранил свою детскую тайну.
Владимиру Дубровскому перед отъездом в Петербург шел восьмой год. Значит, Маше было всего пять. Она обещала стать красавицей, и мальчик понимал это. Или понял, повзрослев и вернувшись к своим детским воспоминаниям. Кто знает, будь Дубровский поэтом, может, и он, вернувшись юношей в родные дубравы и вспомнив свою раннюю любовь, выразил бы эти чувства так же, как и двадцатилетний Пушкин:
Дубравы, где в тиши свободы
Встречал я счастьем каждый день,
Вступаю вновь под ваши своды,
Под вашу дружескую тень.
Вспомним стихотворение «Муза», где поэт в младенчестве своем беседует с богиней «с утра до вечера в немой тени дубов». И вот поэт снова вступает под их «дружескую тень»:
И для меня воскресла радость,
И душу взволновала вновь
Моя потерянная младость,
Тоски мучительная сладость
И сердца первая любовь.
Тут как бы предчувствуется будущий автор «Я помню чудное мгновенье…» и как бы уже слышится «и божество, и вдохновенье, и жизнь, и слезы, и любовь». Вот только «сердца первая любовь»— вроде бы не пушкинская тема. Это скорее тема его персонажа, Владимира, но не Дубровского, а Ленского. И кажется, будто он, «чуть отрок, Ольгою плененный», «свидетель умиленный ее младенческих забав», вдруг заговорил от первого лица в стихах юного Пушкина:
Любовник муз уединенный
В сени пленительных дубрав
Я был свидетель умиленный
Ее младенческих забав.
А вот и обещание красоты, угаданное мальчиком Дубровским. Оказывается, это чувства самого автора:
Она цвела передо мною,
И я чудесной красоты
Уже угадывал мечтою
Еще неясные черты.
И мысль о ней одушевила
Моей цевницы первый звук
И тайне сердце научила.
То же он потом скажет и про Ленского, кому подруга детских игр —
…подарила
Младых восторгов первый сон,
И мысль о ней одушевила
Его цевницы первый стон.
Сочинять, по свидетельствам близких, Пушкин начал лет в 8–9. Ранняя любовь научила его тайне. У Ленского же в этой тайне не было необходимости:
В тени хранительной дубравы
Он разделял ее забавы,
И детям прочили венцы
Друзья соседы, их отцы.
Ленский, как и Владимир Дубровский, надолго расстался со своей ранней любовью, но не забыл ее и в разлуке, верный будущей, обещанной красоте:
Ах, он любил, как в наши лета
Уже не любят; как одна
Безумная душа поэта
Еще любить осуждена;
Всегда, везде одно мечтанье,
Одно привычное желанье,
Одна привычная печаль.
С этой привычной печалью, если верить «Посланию к Юдину» (1815 г.), он не расстался и в Лицее:
Везде со мною образ твой,
Везде со мною призрак милый.
А как же лицейские увлечения поэта? Как они сочетаются с той любовью, которая по силам лишь одной безумной душе поэта? Впрочем, у Ленского тоже были «чужеземные красы». Но:
Ни охлаждающая даль,
Ни долгие лета разлуки,
Ни музам данные часы,
Ни чужеземные красы,
Ни шум веселья, ни науки
Души не изменили в нем,
Согретой девственным огнем…
Вот он, жертвенный пламень чистой любви, вот она, нежность девственных мечтаний, из первой редакции «На холмах Грузии». Значит, и это идет от детства. Значит, девственный огонь ранней любви долго согревал сердце поэта. Значит, он писал не только о Ленском, но и о себе:
Простите, игры золотые!
Он рощи полюбил густые,
Уединенье, тишину,
И ночь, и звезды, и луну,
Луну, небесную лампаду,
Которой посвящали мы
Прогулки средь вечерней тьмы,
И слезы, тайных мук отраду…
«Тоски мучительная сладость», «тайных мук отрада», «мне грустно и легко» — все это одно чувство, открытое еще в детстве. Байрон всю жизнь помнил «каштановые волосы, ласковые светло-карие глаза» своей Мери, но он не хотел «увидеть ее теперь». Пушкин увидел:
Глаза, как небо, голубые,
Улыбка, локоны златые,
Движенья, голос, легкий стан…
Это Ольга Ларина, но, наверное, не только она:
Ее портрет: он очень мил,
Я прежде сам его любил.
Любил, надо думать, не портрет, а оригинал. И верно. Эти черты в Марии, героине «Бахчисарайского фонтана», нравятся поэту и нисколько ему не надоели, даже «кудри легкие льняные» (черновик):
Все в ней пленяло: тихий нрав,
Движенья стройные, живые
И очи томно-голубые.
Что же касается голоса и движений, то Мария «домашние пиры волшебной арфой оживляла». В черновике арфа как-то по-детски названа веселой. И еще:
Никто сравняться с ней не мог,
Когда на играх Терпсихоры
Она полетом стройных (вариант: легких) ног
Невольно увлекала взоры.
Такими играми Терпсихоры могли быть, например, знаменитые (они даже в «Войну и мир» попали!) детские балы у московского танцмейстера Иогеля, где, как считает Н. О. Лернер, Пушкин и встретил Сонечку, дочь литератора Н. М. Сушкова. Лернер почему-то не обратил внимания на то, что видеть ее танец маленький Пушкин мог не только у Иогеля, а прямо дома у Сушковых, куда, как и к Бутурлиным и Трубецким, сестра и брат Пушкины ездили учиться танцам. Не отозвалось ли детство Сони Сушковой в детстве Марии? А если мы вспомним, что литератору Н. М. Сушкову, пожилому сенатору, было, скажем, в 1807 году шестьдесят лет, то черновики «Бахчисарайского фонтана» перенесут нас прямо в его дом времен детства Пушкина:
Для старика была закон
Ее младенческая воля.
Одну заботу ведал он:
Чтоб дочери любимой доля
Была, как вешний день, ясна,
Чтоб и минутные печали
Ее души не помрачали,
Чтоб даже замужем она
Воспоминала с умиленьем
Девичье время, дни забав,
Мелькнувших легким сновиденьем.
Столь же трогательным был поначалу и образ девочки Ольги в «Онегине», которая, в глазах родителей, «цвела, как ландыш потаенный». И вдруг поэт «задохнулся», как это было с Байроном, вдруг, как у казака из «Полтавы», «смех ярый» исказил черты лица, не только собственного, но и той, кого любил: «Как эта глупая луна/На этом глупом небосклоне». Даже луне досталось! В том, что возвышенная героиня молодой лирики стала обыденным персонажем «Онегина», есть, по-мо- ему, след какой-то юношеской драмы. Добавим, что Софья Николаевна Сушкова рано вышла замуж за пензенского гражданского губернатора Панчулидзева, прославленного, увы, своим казнокрадством.
Свою раннюю любовь вместе с пленительными и хранительными дубравами поэт отдал Ленскому:
Он пел дубравы, где встречал
Свой вечный, юный идеал, —
сказано в черновике. Кто знает, ограничивались ли встречи Пушкина-мальчика с его маленькой, годом моложе его вдохновительницей лишь Москвой? Не виделись ли они и летом в имении Пушкиных или Сушковых?
Так в Ольге милую подругу
Владимир видеть привыкал:
Он рано без нее скучал
И часто по густому лугу
Без милой Ольги, меж цветов
Искал одних ее следов.
«Рано без нее скучал», то есть не должен был еще по крайней малости лет испытывать такие чувства. В лицейском стихотворении «Осеннее утро» (1816 г.) тот же мотив, поиски следов своей милой:
Уж нет ее… я был у берегов,
Где милая ходила в вечер ясный;
На берегу, на зелени лугов
Я не нашел чуть видимых следов,
Оставленных ногой ее прекрасной.
Наступила осень, и девочку увезли родители:
Поля, холмы, знакомые дубравы!
Хранители священной тишины!
Свидетели младенческой забавы!
Забыты вы… до сладостной весны!
Не поверят, что младенческой! И Пушкин пишет «свидетели моей тоски, забавы», а в начале стихотворения вместо «с милою любви моей мечтой» появляется уже совсем взрослое — «с образом любовницы драгой».
«Вечный, юный идеал», девственный огонь ранней любви, вернее, как у Байрона, памяти о ней. Отсюда та детскость, без которой бедна жизнь взрослых людей, немыслима истинная любовь:
И ласковых имен младенческая нежность.
Но как раз детскости-то в стихах Пушкина о соб-ственном детстве и нет. Тогда детей часто рисовали как маленьких взрослых, и к восьмилетней девочке можно было обратиться так, как это сделал семнадцатилетний Пушкин:
Амур дитя, Амур на вас похож —
В мои лета вы будете Венерой.
Зато детскость есть и в «Арапе Петра Великого», и в «Дубровском». Там веришь ранней любви героев, словно она не исключительное, странное явление, каким она кажется Байрону, а общечеловеческая норма. Недаром образ маленькой девочки для Лермонтова будет дорог, как «розового дня над рощей первое сиянье», а в стихах Фета будет так много значить зловещий крик ворона в тот момент, когда «подруга игр моих надолго уезжала». Но у Ленского и у молодого Пушкина ранняя любовь лишена детскости, она выглядит романтическим преувеличением, не вводит в детство, а выводит из него. Может, потому мы так долго даже и не ощущали отзвуков долицейского детства в творчестве Пушкина. Поди пойми, что, так сказать, лирический герой этого отрывка начала двадцатых годов еще даже не лицеист, а ребенок, «дошкольник».
Скажи — не я ль тебя заметил
В толпе застенчивых подруг,
Твой первый взор не я ли встретил,
Не я ли был твой первый друг.
И еще замысел начала 20-х годов. Именно тогда Пушкин писал свои первые, уничтоженные записки:
В беспечных радостях, в живом очарованье,
О дни весны моей, вы скоро утекли.
Теките медленней в моем воспоминанье.
Этих воспоминаний нет, но все же они, как мы видели, существуют. В том числе и воспоминания о первой любви. Вот уж и впрямь «любви все возрасты покорны». Создавая эту формулу, Пушкин не исключал из нее и очень ранний возраст.
Впрочем, вымысел, воображение Пушкин ценил больше, чем воспоминания. Воображение, как он считал, для читателей Байрона должно было восполнить утрату записок поэта. И в Дневнике 30-х годов Пушкин делает «примечания для потомства», полагая, что оно своим воображением угадает пропущенное. Да и в самом детстве для него важнее всего, как мы видели, не столько события, сколько воображение, «милые виденья», мечты.
Тени в волшебном фонаре
Когда говорят о детстве Пушкина, то всегда поминают «Послание к Юдину» (1815 г.). Между тем эти стихи почти ничего не говорят о детстве поэта, они обращены не в прошлое, а в будущее поэта и наполнены его будущими, а не прежними, сохранившимися в воспоминаниях образами. На «Послании» словно бы лежит какое-то заклятие. Многим свидетельствам о детстве в творчестве поэта не верят скорее всего потому, что слишком поверили «Посланию к Юдину». Сейчас мы попробуем снять это заклятие.
«Послание к Юдину», написанное шестнадцатилетнем лицеистом, было опубликовано через 18 лет после смерти поэта. П. В. Анненков в своих «Материалах для биографии Пушкина» напечатал всего 12 из 227 стихов «Послания к Юдину», отбросив даже начало послания. Теперь оно начиналось так:
Мне видится мое селенье,
Мое Захарово; оно
С заборами в реке волнистой,
С мостом и рощею тенистой
Зерцалом вод отражено.
На холме домик мой; с балкона
Могу сойти в веселый сад,
Где вместе Флора и Помона
Цветы с плодами мне дарят,
Где старых кленов темный ряд
Возносится до небосклона
И глухо тополы шумят…
Веселый подмосковный сад пушкинского детства. Античные богини для дворянского мальчика вроде волшебниц из хорошо знакомых сказок. «Заборы» — не ограды, а мостки, с которых забирают воду из речки. Дальнейшее показалось Анненкову «нелепым, как мечта ученика»:
Туда зарею поспешаю
С смиренным заступом в руках,
В лугах тропинку извиваю,
Тюльпан и розу поливаю —
И счастлив в утренних трудах.
Во втором томе собрания сочинений Пушкина Анненков опубликовал еще три отрывка из послания в 22, 13 и 12 стихов. Видимо, стихотворение казалось исследователю нестерпимо длинным, и он боялся утомить читателя. Мол, сколько мог Пушкин рассказать о своем детстве в Захарове и как он все исказил и перепутал! Как справедливо отмечает Ю. М. Лотман, «в лицейское «Послание к Юдину» Пушкин вводит черты реального пейзажа села Захарова, с которым были связаны его детские воспоминания. Однако образ автора, который мечтает над Горацием и Лафонтеном, с лопатой в руках возделывает свой сад, в собственном доме за мирной сельской трапезой принимает гостей, конечно, насквозь условен и ничего личного не несет: Пушкин бывал в Захарьине с 1806 по 1810 год, т. е. между семью и одиннадцатью годами, и поведение его, конечно, не имеет ничего общего с этой литературной позой». (Захарово называли еще и Захарьином). Полностью «Послание к Юдину» напечатал в «Русской старине» (1884 г.) В. Е. Якушкин. И оказалось, что оно начинается не с детских воспоминаний, а с горячего юношеского обращения:
Ты хочешь, милый друг, узнать
Мои мечты, желанья, цели…
Не воспоминаниям детства, а мечтам юности, не прошлому, а будущему (даже возвращение в Захарово — в будущем!) посвящено это послание. Не с тем, что было раньше, а с тем, что будет с Пушкиным потом, надо было бы сопоставить это послание. Но было уже поздно. Сто с лишним лет в послании ищут лишь воспоминания детства, заимствованные идеалы да подражания готовым образцам. Это особенно досаждает. Все время ощущаешь, насколько послание отличается от тех прекрасных образцов, из которых взяты его наивные образы, строки, интонации, идеалы. Например:
Дымятся щи, вино в бокале,
И щука в скатерти лежит.
Явный Державин! А вот — Денис Давыдов:
Лежу — вдали штыки сверкают,
Лихие ржут, бразды кусают.
И опять привычные образы, знакомые интонации: «Соседи шумною толпою». «Подруга возраста златого, подруга красных дней моих». «Мечты находят, исчезают, / Как тень на утренней заре». Но погодите! Это нам с вами с детства знакомы строки: «Цыганы шумною толпой», «Подруга дней моих суровых», «Исчезли юные забавы,/Как сон, как утренний туман». А тут еще так далеко до «Цыган», до стихов «Няне» и «К Чаадаеву». Дальше — больше:
Все тихо: брезжит лунный свет;
Нахмурясь, тополь шевелится.
«Тиха украинская ночь»? И она пригрезилась Пушкину в Царском Селе при мысли о Захарове! Добавим же процитированный нами стих: «И глухо тополы шумят». И окажется, что здесь, как в «Полтаве», тополя уже одушевлены, они глухо шумят, хмурятся, шевелятся. В «Полтаве» эту картину видит не юный мечтатель, а старый мятежник:
И тополи, стеснившись в ряд,
Качая тихо головою,
Как судьи, шепчут меж собою.
Судьи Мазепы были свидетелями детства Пушкина!
Хрестоматийные строки из будущих сочинений Пушкина — автореминесценции, заимствования у самого себя, из «Послания к Юдину», где перед поэтом, как тени в волшебном фонаре (сравнение, восходящее к детству Пушкина), проносятся звуки, краски, образы его еще не написанных великих сочинений. Даже ветер тут словно бы веет из будущего:
Играет локоном власов И ногу стройную рисует Сквозь белоснежный твой покров.
Да это же «Буря», написанная в южной ссылке! Дева на скале «в одежде белой над волнами».
А ветер бился и летал
С ее летучим покрывалом.
На скале ей и место, а не под ивой у пруда, куда ее в мечтах поставил поэт-лицеист, заодно вообразив себя воином-ветераном на костылях.
И еще один замысел поэта-лицеиста:
Я жду красавицу драгую —
Готовы сани…
Неужели «Зимнее утро»? Да, ситуация та же, вот только прогулка не утренняя, а вечерняя:
Помчались кони, вдаль пустились,
По ветру гривы распустились,
Несутся в снежной глубине,
Прижалась робко ты ко мне.
Эта мечта не спешила сбыться. И в «Альбоме Онегина» поэт устами своего язвительного героя укорит столичных красавиц:
Мороз и солнце! чудный день.
Но нашим девам, видно, лень
Сойти с крыльца и над Невою
Блеснуть холодной красотою.
Куда там ночью в сани, днем на солнышко не заманишь:
Сидят; напрасно их манит
Песком усыпанный гранит.
То ли дело Татьяна Ларина! Потому она и «русская душою», что любит русскую зиму. Впрочем, есть и иные традиции:
Умна восточная система
И прав обычай стариков:
Они родились для гарема
Иль для неволи теремов.
Нет, воображаемая красавица из «Послания к Юдину» совсем не такая, она русская душою, она выйдет на крыльцо зимней ночью, хоть и живет «в тереме своем высоком»:
И вот уж шепот слышу сладкий, —
С крыльца красавица сошла,
Чуть-чуть дыша; идет украдкой,
И дева друга обняла.
Очень похожую сцену на крыльце поэт вообразит в стихотворении «Зима. Что делать нам в деревне?»:
И дева в сумерках выходит на крыльцо;
Открыты шея, грудь, и вьюга ей в лицо!
Но бури севера не вредны русской розе.
Как жарко поцелуй пылает на морозе!
Как дева русская свежа в пыли снегов!
Тогда же, в 1829 году, когда были написаны эти стихи, но уже не ночью и не в сумерках, а зимним утром, то ли сбудется, то ли с блеском воплотится в стихах мечта шестнадцатилетнего лицеиста:
Но знаешь: не велеть ли в санки
Кобылку бурую запречь?
Скользя по утреннему снегу,
Друг милый, предадимся бегу
Нетерпеливого коня.
Не следует переоценивать автобиографизм лирики Пушкина. То, что изображено в стихах тридцатилетнего поэта, намечено шестнадцатилетним. И сама прогулка в санях на «берег, милый для меня», может быть, так и осталась мечтою. А в «Осени» (1833 г.) опять то ли неосуществленная, то ли давно сбывшаяся мечта юноши о ночной прогулке с возлюбленной при свете луны:
…В присутствии луны
Как легкий бег саней с подругой быстр и волен,
Когда под соболем, согрета и свежа,
Она вам руку жмет, пылая и дрожа.
Какая опытность, какая точность, не то что наивное «в восторгах чувств мы обомлели» из юношеского послания!
И еще одно видение в волшебном фонаре:
Питомец муз и вдохновенья,
Стремясь фантазии вослед,
Находит в сердце наслажденья
И на пути грозящих бед.
Именно это и скажет потом Вальсингам в «Пире во время чумы»:
Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного сулит
Неизъяснимы наслажденья,
Бессмертья, может быть, залог.
Не знаю почему, но не было замечено, что почти треть послания посвящена не реальному другу-лицеисту, а отсутствующей, воображаемой подруге:
Везде со мною образ твой,
Везде со мною призрак милый:
Во тьме полуночи унылой,
В часы денницы золотой.
Так возник у Пушкина образ былой любви с неизменной рифмой «милый — унылый». Он уйдет из его поэзии в «Прощании» (1830), навсегда уступив место жене, Мадонне:
В последний раз твой образ милый
Дерзаю мысленно ласкать,
Будить мечту сердечной силой
И с негой робкой и унылой
Твою любовь воспоминать.
Как и в «Послании» к Юдину», в стихотворении «Прощание» это сразу и образ и призрак. Он тут как виденье гробовое, хоть речь идет о живой современнице поэта:
Уж ты для своего поэта
Могильным сумраком одета,
И для тебя твой друг угас.
Мечта должна умереть, чтоб не мешать жизни! Между «Посланием…» и «Прощанием» звон рифм «милый — унылый» раздался в стихотворении «Надеждой сладостной младенчески дыша…». «Младенчески» —то есть по-детски.
Поэт вспоминает свою детскую веру:
Когда бы верил я, что некогда душа,
От тленья убежав, уносит мысли вечны,
И память, и любовь в пучины бесконечны.
И вот поэт переживает чувства, роднящие его с Гамлетом: «Клянусь! давно бы я оставил этот мир». Но «ничтожество меня за гробом ожидает». И вопрос, быть или не быть, снимается:
Как, ничего! Ни мысль, ни первая любовь!
Неужели первая любовь значит для поэта не меньше, чем мысль? Но ради памяти о ней он мирится с «уродливым кумиром» реальности:
И долго жить хочу, чтоб долго образ милый
Таился и пылал в душе моей унылой.
Тут, как и в «Послании к Юдину», еще один тайный замысел, тайная мечта Пушкина. «Суровый Дант не презирал сонета». Но в сонетах Данте воспел свою первую любовь, он познакомился с ней, когда ему было 9 лет, а Беатриче — годом меньше, и она была одета в красное. Такая же разница в возрасте была между Пушкиным и его московской «подругой красных дней».
Данте встретился с Беатриче через девять лет. И ему «дивная Донна явилась… облаченной в белый цвет». Пушкин, не дождавшись восемнадцатилетия, вообразил себе будущую встречу, и Сонечка Сушкова, дочь московского литератора, подруга по детским урокам танцев, явилась перед ним в «белоснежном покрове» над захаровским прудом. «Дева на скале в одежде белой над волнами» — из того же круга поэтических мечтаний. Как и Данте, Пушкин хочет говорить о любви на языке народа:
Тебя ли вижу, взоров свет,
Друг сердца, милая Сушкова?
То есть свет очей, мил-сердечный друг! И уж совсем по-пушкински воспевается фамилия красавицы. Потом будут «глаза Олениной моей», «И блеск Алябьевой, и прелесть Гончаровой».
В программе записок пункт «Ранняя любовь» стоит перед «Рождением Льва», младшего брата. Пушкин со-всем еще ребенок. И вдруг эта ранняя любовь, как у Данте, как у Байрона, как это будет у Лермонтова, у Фета…
В «Послании…» столько будущих пушкинских строк, образов, ситуаций, что было бы странно, если б оно не перекликалось с «Евгением Онегиным». И верно. Близость этих юных стихов к «Онегину» поражает. Тут и «молчаливая келья» (у Онегина— «модная»), и «уединенный кабинет» и «волшебный фонарь» фантазии, который в пушкинском романе станет «магическим кристаллом», тут и желание «невольника мечты младой» (сравни «улан, свой невольник доли») «в картине верной и живой изобразить в порядке свету» (ср. «изображу ль в картине верной»), тут и «порфирные пустые вазы», «драгие куклы по углам» (ср. «столбик с куклою чугунной» в кабинете Онегина), тут «и сукны Альбиона. / И пышные чехлы Лиона / На модных креслах и столах», тут и «ложе шалевой в спальной», словом, примерно то, что потом украсит кабинет Онегина. И от чего гордо отказывается поэт-отшельник, каким рисует себя Пушкин-лицеист в «Послании к Юдину». «Где ж детства милые следы?» — спросит поэт в «Послании…». Он уже боится оскудения души, утраты даже младенческих чувств:
Уж сердце в радости не бьется
При милом виде мотылька,
Что в воздухе кружит и вьется
С дыханьем тихим ветерка…
А, вот они, эти следы! Мотылек детства, перелетев из послания в роман, превратился в Татьяну, ожидающую Онегина после того, как тот получил ее письмо:
Так бедный мотылек и блещет,
И бьется радужным крылом,
Плененный школьным шалуном.
А вот эти строки могли быть не только в «Послании к Юдину», но и в послании Татьяны Онегину, если бы она решилась так выразить свои чувства:
И в беспокойстве непонятном
Пылаю, тлею, кровь горит,
И все языком, сердцу внятным
О нежной страсти говорит…
Именно это и сказал Пушкин о Татьяне:
И в одиночестве жестоком
Сильнее страсть ее горит.
Нежная страсть поддержана непосредственностью и чистотой детского чувства. Это и есть Татьяна. Она «предается безусловно / Любви, как милое дитя». Вот как много, по мнению Пушкина, значат «детства милые следы», когда они живы во взрослом человеке!
Имени Данте в «Послании к Юдину» нет. Но зато есть имя Виланда («Вольтера, Виланда читать»). Из Виланда Пушкин потом взял немецкий эпиграф «О, чары первой любви» для того отрывка, где поэт признается, что он сам был «свидетель умиленный / Твоих младенческих забав». И эти чары не рассеялись до конца его дней. В 1830 году Пушкин начинает дантовскими терцинами странные стихи «В начале жизни школу помню я…». «Смиренная, одетая убого, / Но видом величавая жена… приятным сладким голосом… с младенцами беседует». Среди «младенцев» и рассказчик. Душу мальчика в чужом саду, как сказано в этом отрывке, то есть где-то рядом был свой, смущают «белые в тени дерев кумиры», статуи античных божеств. И кажется, что за последним стихом отрывка, где «всё кумиры сада / На душу мне свою бросали тень», вот-вот появится девочка в красном. И она, судя по черновику, должна была появиться:
Я помню деву юности прелестной,
Еще не наступила ей пора,
Она была младенцем.
А кто он? Младенец? Юноша? Чуть отрок? А она? Софья Сушкова? А может, Наталья Кочубей? Или просто «милый, вечный идеал», пушкинская Беатриче, «призрак милый»? И кому поэт хотел сказать в еще не написанном, но уже намеченном в лицейском послании «Зимнем утре»: «Друг милый, предадимся бегу / Нетерпеливого коня?» И кому сказал на самом деле? И сказал ли кому-нибудь? Тайна, мечта…
Есть в «Послании к Юдину» и зачаток онегинской строфы с рифмовкой АБАБВВГГДЕЕДЖЖ, но женские рифмы тут поменялись с мужскими:
Трепещет бранью грудь моя
При звуке бранного булата,
Огнем пылает взор, — и я
Лечу на гибель супостата.
Мой конь в ряды врагов орлом
Несется с грозным седоком —
С размаха сыплются удары.
О вы, отеческие лары,
Спасите юношу в боях!
Там свищет саблей он зубчатой,
Там кивер зыблется пернатый;
С черкесской буркой на плечах,
И молча преклонясь ко гриве,
Он мчит стрелой по скользкой ниве…
Пушкин на коне и в черкесской бурке на плечах. Да это же автопортрет времен путешествия в Арзрум. Он и это себе предсказал! А мысль об «отеческих ларах», о детстве, в миг смертельной опасности! Но вернемся к тому, кто «счастлив в утренних трудах» и хочет жить «с природной простотой, / С философической забавой / И Музой». Вот как эта мечта отзовется в его зрелые годы:
На свете счастья нет, но есть покой и воля.
Давно завидная мечтается мне доля,
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальную трудов и чистых нег.
Вон, оказывается, как давно, еще в Лицее, да с мыслью о Захарове! О чем же, как не о трудах и чистых негах, идет речь в «Послании к Юдину»? А в самом конце его — вызов судьбе и даже отказ от счастья во имя тех же покоя и воли, во имя творческой мечты:
Минуты счастья золотые
Пускай мне Клопфо не совьет:
В мечтах все радости земные!
Судьбы всемощнее поэт.
Покорность судьбе («прав судьбы закон») вместе с «подругой возраста златого» Пушкин отдаст своему герою Ленскому. А сам воскликнет: «Сохраню ль к судьбе презренье», вспомнив «непреклонность и терпенье» своей «гордой юности»». Автор послания сам строит свою будущую судьбу, провидит будущие творенья. Это богатырь, бросивший перчатку судьбе, полный великих замыслов.
Но стихи его пока столь несовершенны, столь неровны, что исследователи еще долго не обнаружат в юношеском послании того, что они так хорошо знают и любят в его позднейших сочинениях. Н. О. Лернер не нашел в «Послании к Юдину» сходства ни с «Зимним утром», ни с «Бурей», но ему почему-то вспомнилось «Каким я прежде был, таков и ныне я», где поэт утверждает верность самому себе. А Н. Н. Скатов в «Русском гении» (1987) обнаружил в воинственной «онегинской строфе» «Послания к Юдину» близость к картине Полтавского боя. Пушкин-лицеист еще не мог дать своим гениальным находкам ни формы, ни места, которых они заслуживают.
Чем же объяснить их обилие в стихах 16-летнего автора? Тем ли, что «поэтическое хозяйство Пушкина» (это название книги В. Ходасевича, где много говорится об автореминисценциях у поэта) было хорошо налажено; Но, может быть, и тем, что в этом возрасте преобразуется заложенная с детства и вновь закладывается в человеке программа всей его дальнейшей жизни. Рукопись гения показывает, насколько подробно и точно она закладывается. Уже видно, что Пушкин и под пули станет, и творческую свободу предпочтет всему остальному. И что он напишет «Зима. Что делать нам в деревне?..», «К Чаадаеву», «Надеждой сладостной младенчески дыша», «Бурю», «Няне», «Зимнее утро», «Прощание», «Гимн чуме», «Осень», ключевые строки «Цыган», «Полтавы», «Онегина». И на все это ляжет свет, идущий через его лицейскую юность из детства поэта.
Несколько выводов. Далеко не все стихи Пушкина связаны с датой и обстоятельствами их создания, с автобиографией. Читая его любовную лирику, мы, говоря его же словами, порою обливаемся слезами над вымыслом. Ведь пишет он не о себе, а о нас.
И если уж говорить о биографии, то лицеист Павел Юдин, с которым поэт выяснял, «мечта ли дружба и любовь», должен занять в ней больше места. Больше значила и в жизни и в творчестве Пушкина его «ранняя любовь» С. Н. Сушкова. Правда, ее фамилия в послании обозначена звездочками. Ее на место звездочек убедительно подставил Н. О. Лернер. Добавим и то соображение, что Ольга и Александр Пушкины ездили на уроки танцев то к Бутурлиным, то к Трубецким, то к Сушковым, а не только на детские балы по четвергам к Иогелю, и знакомство с Сонечкой Сушковой было еще более тесным и домашним. Возможно даже, что вся эта компания кочевала: то Пушкины, Трубецкие и Сушковы к Бутурлиным, то Бутурлины, Сушковы и Пушкины к Трубецким и т. д. Любопытно, что кузина Софьи Сушковой, тоже, но гораздо позже, танцевавшая у Иогеля, Евдокия Сушкова, впоследствии графиня Растопчина, стала поэтессой и — бывают странные сближения — вскоре после свадьбы Пушкина, на масленичное гулянье, совсем как героиня «Зимнего утра», каталась в одних санях с Александром Сергеевичем и Натальей Николаевной.
И еще один вывод, с виду незначительный, но очень важный. В детстве Пушкин полюбил волшебный фонарь, как мы любим кино или телевизор. Как сказано в «Послании к Юдину»:
…быстро привиденья
Родясь в волшебном фонаре,
На белом полотне мелькают.
Все послание и построено на этом принципе быстро сменяющихся картин в волшебном фонаре.
Пропало все. Не внемля детской пени,
На полотне так исчезают тени,
Рожденные в волшебном фонаре.
И если Пушкин вспомнил «детские пени» по поводу того, что картинки волшебного фонаря либо показывают детям слишком быстро, не дав вглядеться в какую-то одну из них, либо вообще гасят фонарь, если поэт вспомнил об этом не где-нибудь, а в «Гавриилиаде», то, возможно, в наборах картин для волшебного фонаря было немало религиозных. Их-то, видимо, и показывал на ярмарках мужикам поляк-управитель, о котором вспомнил Нащокин, рассказывая Пушкину о своем детстве.
Усвоенный с детства принцип смены кадров в волшебном фонаре, примененный поэтом и в «Послании к Юдину», оказал влияние на всю его поэзию. С. Эйзенштейн, говоря о кинематографичности пушкинского художественного мышления, некоторые пушкинские тексты рассматривал как готовый режиссерский сценарий, кадры которого осталось лишь пронумеровать.
Как все-таки много Пушкин рассказал о своем детстве, если даже, читая «Гавриилиаду», мы вдруг на какой-то миг можем увидеть курчавого мальчика, который вместе с другими детьми глядит на полотно, горько печалясь, что полюбившуюся ему картинку так быстро выводят из луча волшебного фонаря, просит подержать ее еще немножко.
Именно детство Пушкина дало импульс всей его поэзии, от романтических или иронических поэм, от «Евгения Онегина» до любовной лирики. Всему, что он делал в поэзии и в жизни, он «предавался безусловно», как его любимая героиня Татьяна Ларина, «как милое дитя».
С холста как с облаков
Пушкин прекрасно помнил свои детские чувства. Более того, он хранил их в себе и развивал, «лелеял», говоря его словами. И когда в стихотворении «В начале жизни школу помню я…» он пишет про свой «сладкий некий страх» и «слезы вдохновенья» перед статуями в «великолепном мраке чужого сада», то, надо полагать, поэт нисколько не преувеличивает «чужой сад» в отличие от своего, расположенного где-то рядом. В программе автобиографических записок есть пункт «Юсупов сад».
«Холод бежал по мне и кудри подымал» — так физически ощущал свои чувства кудрявый московский мальчик в прекрасном саду «у Харитонья в переулке». Мальчик сознавал, что в эти статуи вложены мысли и страсти, ему еще неведомые, но которые он, став взрослым, неизбежно испытает. Его томили предчувствия, томил «безвестных наслаждений темный голод». Он даже уставал от непостижимости предстоявшего ему мира взрослых. Его охватывали «уныние и лень», и «средь отроков» он «молча целый день бродил угрюмый», напрасно пытаясь разгадать «печать недвижных дум» на загадочных ликах мраморных мужчин и женщин. Взрослому знатоку достаточно лишь назвать имена божеств и героев, каким посвящены статуи, чтобы понять, зачем им эти «мраморные циркули и лиры, / Мечи и свитки в мраморных руках, / На главах лавры, на плечах порфиры». Но мальчику две самых поразивших его статуи показались даже бесами, волшебными дьяволами, искушавшими его. «Кумиры сада / На душу мне свою бросали тень». Говорят, будущее отбрасывает тень. Это будущее и предчувствовал мальчик, гуляя среди статуй в «чужом саду».
Страсть эта, возникшая в детстве, сохранилась у него до конца дней. «Весело мне. Но в толпе молчаливых кумиров грустен гуляю», — скажет он в 1836 году, посетив мастерскую скульптора. Но теперь его грусть вызвана истинной утратой, его радость уже не разделит почивший Дельвиг, «художников друг и советник». А весело поэту потому, что он давно сроднился с «молчаливыми кумирами», они ему близки и понятны, стоит лишь назвать их по имени:
Вот исподлобья глядит, дуя в цевницу, сатир.
Здесь зачинатель Барклай, а здесь совершитель Кутузов.
Тут Аполлон — идеал, там Ниобея — печаль…
В детстве он не знал, что перед ним Аполлон, древнее божество:
Один (Дельфийский идол) лик младой —
Был гневен, полон гордости ужасной,
И весь дышал он силой неземной.
Но самыми родными в 1836 году покажутся Пушкину такие статуи, каких в детстве он не мог увидеть. Среди «молчаливых кумиров» на выставках оказались образы его детства, русские крестьянские юноши. Он отнесся к ним как к античным статуям, облек их движения в античный стихотворный размер, пожелал подружить «Играющего в свайку» с «Дискоболом» Мирона, а перед «Играющим в бабки» готов был раздвинуть толпу предупреждением: «Вот уж прицелился». И «молчаливый кумир» заговорил по-русски:
…Прочь раздайся, народ любопытный,
Врозь расступись, не мешай русской удалой игре.
Само его четверостишие— игра со статуей и со зрителями. Он, конечно, и сам играл в детстве в бабки и в свайку и вместе с дворовыми мальчишками, товарищами игр, восхищался истинными мастерами, молодыми крестьянами, перед которыми они, дети, раздавались прочь, расступались врозь, разбегались, любуясь их игрой и завидуя им. Память детства оставалась с Пушкиным до конца.
А теперь — о картинах.
Не множеством картин старинных мастеров
Украсить я всегда желал свою обитель.
Обители Пушкиных (и отца, и дяди), так же как и Бутурлиных, Трубецких, Сушковых, куда брат с сестрой ездили учиться танцам и играть со сверстниками и сверстницами, видимо, были по обычаю украшены именно множеством картин. Пушкину в 1830 году хотелось, чтобы Мадонна с младенцем смотрели бы на него «с холста, как с облаков». Картина — не предмет обстановки, а живая реальность, как облака идущие сейчас по небу. Автор «Мадоны» ощущает себя художником, который пишет сразу и образ Мадонны, и образ младенца «с разумом в очах», и просто образ своей будущей жены с будущим сыном. Точно так же он воображал себя художником и в самых первых лицейских стихах, где, конечно же, чувствуются отголоски его московского, до- лицейского детства. Будь автор «Монаха» художником, у него «волной реки струилась бы холстина». Это то же самое, что «с холста, как с облаков», та же сила развитого в детстве воображения. По образам любимых картин он творит свой мир:
Возведши ночь с задумчивой луною,
Представил бы над серою скалою,
Вкруг коей бьет шумящий океан,
Высокие, покрыты мохом стены.
И, конечно же, на колеблемом зефирами челноке тут же поместил бы воображаемую возлюбленную.
Детство, его мечты, его творческие грезы, сохраненные на дне души «виденья первоначальных чистых дней», которые в черновиках «Онегина» он назовет «детства милыми виденьями», Пушкин сравнит с «созданьем гения». А то, что скрыло (уже в том же фривольном «Монахе») эту картину, скрыло «виденья первоначальных чистых дней», омрачив юную душу, он назовет «чуждыми красками», которые «с годами сползают ветхой чешуей».
Множество картин изобразил он в своих сочинениях, от классицистских и романтических полотен в лицейских стихах до «Последнего дня Помпеи» и галереи героев войны 1812 года в стихах последних лет. И множество подобных им картин, которых до него нельзя было увидеть ни на каком полотне, ни на каком графическом листе, написал стихами, словно кистью художника, дав работу художникам будущих времен. А иногда он давал просто перечни картин, являвшихся перед ним в памяти и в воображении, как бы каталоги. В их числе стихотворный перечень картин и жанровых сценок, какие развертываются перед Татьяной Лариной при ее въезде в Москву в седьмой главе «Онегина». Делай я экспозицию на тему «Пушкинская Москва», я бы пронумеровал этот перечень и постарался бы к каждому из номеров найти подходящее изображение времен детства поэта.
Итак: 1) будки, 2) бабы (мужики появятся позже, баб вызвала рифма «ухабы»; 3) мальчишки; 4) лавки; 5) фонари; 6) дворцы; 7) сады; 8) монастыри; 9) бухарцы; Ю) сани (Татьяна въезжает в Москву зимой); 11) огороды (зимние огороды, как и сады, не представляют интереса, я бы взял их летнюю картинку); 11) купцы; 12) лачужки; 13) мужики; 14) бульвары; 15) башни; 16) казаки1 17) аптеки; 18) магазины моды; 19) балконы; 20) львы на воротах; 21) стаи галок на крестах. Кроме того, я взял бы оставшиеся в черновиках: 22) ставни; 23) заборы; 24) попы; 25) игрушки в окнах на досках (как он их разглядывал в раннем детстве!); 26) немцы; 27) татары; 28) пустыри; 29) болваны в париках (реклама парикмахерской); 30) цветные вывески; 31) сбитенщики; 32) карлы, то есть карлики, живые игрушки бар допожарной Москвы; 33) колонны; 34) галки на трубах. Перечень в седьмой главе «Онегина» — широкая панорама московской жизни в памяти поэта и вереница теней в волшебном фонаре его воображения. Смуглый московский мальчик не был ленивым и нелюбопытным. Он жил во всем этом, а потом все это жило в нем. Москва его детства осмыслялась в памяти молодого, а потом зрелого человека. Вот что сказано двадцатилетним Пушкиным в послании Всеволожскому:
Ты скачешь в мирную Москву,
Где наслажденьям знают цену,
Беспечно дремлют наяву,
А в жизни любят перемену.
Прелестный парадокс: дремлющий наяву любитель перемен! То, что мы видим в седьмой главе «Онегина», здесь обобщено:
Разнообразной и живой
Москва пленяет пестротой.
Это черта его родного города и в то же время черта самого Пушкина. Таковы и «Евгений Онегин», и лирика, и «Повести Белкина», и «Маленькие трагедии», и просто его письма разным адресатам. Разнообразная и живая пленительная пестрота! Идет это от Москвы, причем от «мирной», довоенной, допожарной, исчезнувшей в огне, как град Китеж в воде. Именно из этой, живущей лишь в его памяти, Москвы отправляется по радищевскому маршруту, но в обратном направлении, автор «Путешествия из Москвы в Петербург». Он едет из прошлого, из страны своего детства, где «невинные странности москвичей были признаком их независимости». Но «куда девалась эта шумная, праздная, беззаботная жизнь? Куда девались балы, пиры, чудаки и проказники — все исчезло: остались одни невесты». Москва сделалась «девичьей» его необычного огромного дома. Он там женился, чтобы погибнуть в «прихожей» с мечтой о «кабинете», деревне.
«Мои неприятные впечатления»
Этот пушкинский рисунок, изображающий волчонка, которого волокут на веревке, обвязанной вокруг его шеи, помещен под наброском «Шумит кустарник…» (1830 г.). В стихах веселый олень пугливо озирает с кручи, с острой вершины, «подножный лес», светлые луга, берега Днепра и небо. «Недвижим, строен он стоит / И чутким ухом шевелит…» Но вдруг он дрогнул от какого-то нежданного звука, боязливо вытянул шею и прянул с кручи вниз. Кто спугнул оленя? Охотник? Волк?
Мысль о волке приходит при взгляде на рисунок поэта под стихами, так передающими состояние зверя, словно их писал натуралист. На длинной тонкой веревке, привязанной за шею, волокут какого-то зверя. Поза нелепая, он как бы едет на хвосте, растопырив задние и передние лапы. Веревка тянется к другому наброску, где зверь, как в мультфильме, повернут на 180 градусов, спиной к зрителю. Дан лишь низ туловища. Правая лапа упирается, левая едва намечена. Внизу то ли продолжение лапы, то ли длинный хвост.
В книге Т. Г. Цявловской «Рисунки Пушкина» подпись «Медведь». Кого же еще водят на веревке на задних лапах? Полагая, что зоологи разбираются в зверях все же лучше, чем филологи, я показал рисунок поэта доктору биологических наук В. С. Залетаеву. «Лапы не медвежьи, начало длинного хвоста тоже, —- услышал я. — Скорее не взрослый волк, а волчонок». А зоолог В. С. Лобачев, известный многим по передаче «В мире животных», воскликнул: «Дворняжка? Или волчонок? Бедняга! По мордочке, по всей позе видно, как его мучают!»
Почему Пушкин поместил одного за другим веселого оленя в стихах и бедного волчонка на рисунке? Ответ в поэме «Тазит» (1829—1830 гг.). Старый чеченец Гасуб проклинает сына-гуманиста, что вопреки обычаю не ограбил купца, не поймал беглого раба, не покарал кровника, ибо тот был безоружен и изранен:
…Чтоб мертвый брат тебе на плечи
Окровавленной кошкой сел
И к бездне гнал тебя нещадно,
Чтоб ты, как раненый олень,
Бежал, тоскуя безотрадно…
Вот и олень! А сейчас появится волчонок:
…Чтоб дети русских деревень
Тебя веревкою поймали
И как волчонка затерзали…
В черновике подробности детской расправы: «В тоске / Тебя поймав, тобой играли». Поймали, чтобы поиграть, подразнили и замучили. Но у старика горца не может быть памяти о детях из русской деревни. Пушкин ставит вместо волчонка «орленок», но зачеркивает. Как могут «дети русских деревень» поймать орленка? Эти странные строки про замученного зверька становятся понятнее, если обратиться к знаменитому «Не дай мне Бог сойти с ума…» (1833 г.):
…Посадят на цепь дурака
И сквозь решетку как зверка
Дразнить тебя придут.
Но это уже сделают взрослые со взрослым. Как и в наброске «Шумит кустарник…», как и в «Тазите», рядом с образом волчонка появляется и олень, правда, не названный. Поэт хотел бы, как веселый олень на острой вершине, пуститься в темный лес, заслушиваться волн и, полный счастья, глядеть в небеса. Поэт отождествляет себя и с оленем, о котором написал когда-то, и с волчонком, которого нарисовал под теми стихами. Оленя тоже ранят и затравят. Пушкинский «зверок» мелькнет и в «Капитанской дочке», в сцене пытки: «Он оглядывался на все стороны, как зверок, пойманный детьми».
Итак, волчонок, дети, деревня. Все это было, все это Пушкин видел и пережил. Но почему он, барин, не остановил крестьянских детей? Да потому что сам был ребенком и даже поменьше тех, кто поймал, поиграл, задразнил, затерзал бедного «зверка». Пушкин не мог забыть этого до конца своих дней. А временами и сам ощущал себя затравленным волчонком и загнанным оленем.
Когда же это было? Вот пункт программы ненаписанных записок (1830 г.) — «Мои неприятные впечатления». Перед ним— «Рождение Льва», а после — «Смерть Николая». Это младшие братья поэта. Неприятные впечатления были между апрелем 1805 года и августом 1807-го. Скорее всего, в Захарове, где будущий поэт проводил лето. И уж если неприятные впечатления тех дней значили для него, взрослого, почти столько же, сколько рождение одного и смерть другого брата, то они не могли не оставить следа в его сочинениях. И, как видим, сразу в четырех: на листке с наброском «Шумит кустарник…», в «Тазите», в «Не дай мне Бог сойти с ума…» и в «Капитанской дочке».
Итак, если верить поэту, в его биографию можно внести такой эпизод. В Захарове, когда Пушкину было лет 6—7, он стал невольным свидетелем, а поначалу, может, и участником жестокой игры деревенских детей с пойманным волчонком, привязанным на веревку. Это воспоминание преследовало его всю жизнь, особенно в последние годы. Он даже сам ставил себя на место затравленного звереныша.
Теперь понятнее строки его сонета «Поэту». Доволен ли он своим трудом?
Доволен? Так пускай толпа его бранит,
И плюет на алтарь, где твой огонь горит,
И в детской резвости колеблет твой треножник.
Мы видели, какой может быть эта «детская резвость»! Принято считать, что поэт — это большой ребенок в жестоком мире взрослых. Но дело обстоит как раз наоборот. Поэт сознавал себя чуть ли не единственным взрослым «среди лукавых, малодушных, шальных, балованных детей», так и не успевших нравственно развиться и созреть. Этому-то развитию и созреванию и служит поэзия Пушкина.
В том же сонете «Поэту» читаем: «Ты царь». А ведь было время, когда маленький Пушкин и вправду испытал это чувство, как бы ощутил себя царем. Это было, когда он в который раз поднимался на колокольню Ивана Великого. Свое переживание поэт подарил Гришке Отрепьеву. И «все тот же сон» мятежный монах видит по нескольку раз в одну ночь:
Мне снилося, что лестница крутая
Меня вела на башню; с высоты
Мне виделась Москва, что муравейник;
Внизу народ на площади кипел…
«Шаловливый и острый ребенок, — вспоминал Н. В. Сушков, — уже набирался ранних впечатлений, развиваясь и бегая на колокольню Ивана Великого и знакомясь со всеми закоулками и окрестностями златоглавой столицы». И в Лицее, еще в 1813 году, в озорной отроческой поэме «Монах» мысль его носилась «невдалеке от тех прекрасных мест, / Где дерзостный восстал Иван-великой, / На голове златой носящий крест». Ребяческие мечты будущего поэта, московского мальчика, бегавшего на колокольню Ивана Великого, сбылись:
Вознесся выше он главою непокорной
Александрийского столпа.
«Ты царь…» — сказано в том же сонете «Поэту». А дальше идет: «Живи один». Это может быть и выводом из истории с волчонком. Не поддавайся стадным чувствам, толпе, ее азарту, иначе и ты можешь стать, как это было в случае с волчонком, невольным соучастником расправы над невинным, беспомощным существом.
«И я считал когда-то восемь лет…»
Когда Пушкин правил новый вариант записок Нащокина о детстве, то, наверное, ему был памятен и понятен образ ведьмы, каким няня пугала Нащокина-малыша, чтобы тот уснул: «В жаркую лунную ночь бессонницы я, казалось, видел ее, стоявшую подле моей кровати». Пушкин, как сказано выше, видел над своей кроватью музу в образе «веселой старушки». Марья Алексеевна не могла не читать ему стихов. Но вот все изменилось:
Младенчество прошло, как легкий сон.
Ты отрока беспечного любила…
Вместо веселой старушки явилась уже совсем другая муза. Легкий сон сменился пробуждением. И в этом, как полагает поэт, он ничем не отличался от других детей. Первые впечатления жизни вечно живут в памяти. А дальше? А дальше — «легкий сон» младенчества. «С тех пор впечатления мои становятся слабы и неясны до 10-го года моего возраста»,— сказано у Нащокина. То же и у героя «Русского Пелама»: выносят гроб матери, и «тут воспоминания мои становятся сбивчивы. Я могу дать ясный отчет себе не прежде как уж с осьмилетнего возраста». Добавим к этому заметку «Байрон» (1835 г.): «Около того же времени осьмилетний Байрон влюбился в Марию Доф». И как в стихах «Наперсница волшебной старины», все чудно и быстро меняется, и вместо веселой старушки музой становится юная красавица, еще воображаемая, еще такая, какую ему и его героям обещала будущая красота маленьких Ольги Лариной, Маши Троекуровой, Сони Сушковой.
Какие же события произошли у Пушкина в восемь лет? О ранней любви уже сказано. Возможно даже, что переписка Дубровского с Машей, где совсем по-детски почтовым ящиком служит дупло дуба, а почтальоном, как и у Татьяны Лариной, — крестьянский мальчик, тоже идет от детских воспоминаний.
Но тогда же начались для мальчика беды и потери. В наброске Первой программы записок рядом стоят два пункта: «Первые неприятности. Смерть Николая». Брат Николенька, двумя годами моложе поэта, умер тогда, когда у Александра уже кончился «легкий сон» младенчества и он уже мог в дальнейшем, как герой «Русского Пелама», дать себе ясный отчет в том, что с ним происходило. Пушкин всю жизнь помнил смерть брата в 1807 году. С его слов запомнилась такая подробность: заметив Сашу среди родных, Николенька в последний миг своей жизни показал брату язык. Видимо, тот старался смешить, веселить умирающего до самого конца.
Николай Сергеевич Пушкин похоронен рядом с церковью в Больших Вяземах, это приходская церковь для жителей Захарова, Вяземы — бывшее имение Годуновых. Мысль Пушкина, конечно же, обращалась к этой церкви, когда он писал «Бориса Годунова»:
Три дня
Я труп его в соборе посещал…
Но детский лик царевича был ясен
И свеж и тих, как будто усыпленный.
Это увидено не только Шуйским, которому тринадцать лет «все снилося убитое дитя». Если так, то боярин был впечатлителен, как поэт. Вот кому и впрямь мог много лет сниться навсегда уснувший брат. Умирает брат и у одного из пушкинских героев:
Я уцелел — он изнемог,
С трудом дыша, томим тоскою,
В забвенье, жаркой головою
Склоняясь к моему плечу,
Он умирал, твердя всечасно:
«Мне душно здесь… я в лес хочу…»
Вариант из черновика:
Позвал меня, пожал мне руку,
Потухший взор изобразил
Одолевающую муку;
Рука задрогла, он вздохнул…
Так, работая над «Братьями-разбойниками», поэт еще раз пережил смерть брата. Пушкин ведь и сам видел эту «одолевающую муку». «Могила брата все взяла»,— сказано в поэме. А в детстве Пушкин скоро утешился. Его утешила слитая со сказкой детская вера, которой он предавался, «надеждой сладостной младенчески дыша». Вот как это утешение звучит в «Борисе Годунове»:
Так кто же ты? — спросил я детский голос.
— Царевич я Димитрий. Царь небесный.
Приял меня в лик ангелов своих
И я теперь могущий чудотворец.
И еще рад поэт коснулся темы смерти мальчика, столь связанной с его детскими переживаниями, когда писал «Эпитафию младенцу», сыну Волконских:
В сиянии и в радостном покое,
У трона вечного Творца,
С улыбкой он глядит в изгнание земное,
Благословляет мать и просит за отца.
У «изгнания земного», кроме религиозного, есть и политический смысл. Ребенок, ставший ангелом, благословляет мать, покинувшую его и уехавшую в «каторжную нору», и просит за отца-декабриста.
Детство всегда находит утешение. В сознании брата Николенька после смерти переселился в Царствие Небесное и стал чудотворным, не безразличным к его судьбе. Он— проситель за старшего брата и глядит на него весело, как в свой последний миг.
«Но если мы теряем брата», — мелькнет в черновиках «Онегина» вместе с воспоминанием про слезы отца…
И еще одно событие, которое очень много значило для Пушкина в его восьмилетнем возрасте. Это был 1807 год. Унизительный Тильзитский мир. Наполеон на Немане, у границ России. Это поразило мальчика, захватило его сознание. О том, как Пушкин в детстве воспринимал Наполеона, мы можем узнать из десятой главы «Евгения Онегина»:
Пред кем унизились цари,
Сей всадник, папою венчанный,
Исчезнувший, как тень зари.
Тень зари особенно поражает детскую душу. Зарей поэт называл свое детство, а тень на заре куда огромнее, чем тот, кто ее отбрасывает. В 1807 году тень зари, тень восходящего солнца Аустерлица, упала на волны Немана, пограничной реки, откуда через пять лет начнется наполеоновское нашествие. И тогда эта грандиозная тень дотянется до самой Москвы, родины поэта.
Пушкинские образы многозначны. Наполеон — тень зари. Но это была и заря жизни самого Пушкина. И в то же время Наполеон — тень еще одной зари, зари свободы:
Когда надеждой озаренный
От рабства пробудился мир…
Заря надежды, Великая французская революция.
И день великий, неизбежный —
Свободы яркий день вставал.
Вместо солнца свободы лишь его исполинская тень. Ведь Наполеон «человечество презрел», смирил буйную юность обновленного народа. И вместо яркого, великого, неизбежного дня снова ночь, как при полном затмении солнца:
Европа гибла: сон могильный
Носился над ее главой,
И се, в величии постыдном
Ступил на грудь ее колосс.
Тильзит!.. При звуке сем обидном
Теперь не побледнеет росс.
А тогда, в 1807 году, побледнел. И самый звук «Тильзит» был для него обиден, даже если этому россу было восемь лет. Как, наверное, вглядывался этот восьмилетний русский патриот и при этом друг свободы, как любимый им с детства Фонвизин, в изображения Наполеона, попадавшие в дом Пушкиных и в дома их родных и друзей. Как, наверное, еще в детстве его привлекал «чудный взор его, живой, неуловимый,/ То вдаль затерянный, то вдруг неотразимый».
Таков он был, когда в равнинах Австерлица
Дружины севера гнала его десница,
И русский в первый раз пред гибелью бежал.
Русский пред гибелью бежал! Это нестерпимо для восьмилетнего москвича, современника событий. И он вглядывается в лицо Наполеона:
Таков он был, когда с победным приговором
И с миром и с позором
Пред юным он царем в Тильзите предстоял.
Наполеон для Пушкина — «мятежной вольности наследник и убийца», Александр— «юный царь», так много обещавший, разочарование в нем было столь сильно, что осталось в душе поэта и после поражения Наполеона. «Под Австерлицем он бежал», — скажет поэт еще в лицейской эпиграмме, а в другой заявит, что царь хромает головою и сломал себе нос под Аустерлицем. В десятой главе «Евгения Онегина» то же презрение:
Его мы слишком смирным знали,
Когда не наши повара
Орла двуглавого щипали
У Бонапартова шатра.
Мы знали… В том числе и восьмилетний Пушкин. Наполеон был для него наследником и убийцей мятежной вольности, а Александр I — то творцом, то губителем «свободы просвещенной», которая должна была взойти над Россией, как «прекрасная заря», для чего царю, в сущности, нужно было сделать лишь одно движение, чтобы «по манию царя» пало рабство. Надежды на эту зарю то загорались, то гасли, и, вглядываясь в изображения царя, в его лик, Пушкин видел в нем персонажа своих детских спектаклей:
К противочувствиям привычен,
В лице и в жизни арлекин.
Противочувствия к Александру I были у Пушкина начиная с детства. То царь для него — арлекин, то «наш Агамемнон», то он — «владыка полунощи», то «раб молвы, сомнений и страстей». Можно ли ждать свободы от раба? Но в одном Пушкин был убежден всю жизнь. «Дней Александровых прекрасное начало», — сказал молодой Пушкин в «Послании к цензору». А 3 апреля 1834 года камер-юнкер, «придворный Данжо», записал в Дневник: «Сперанский у себя очень любезен. Я говорил ему о прекрасном начале царствования Александра». Опять пушкинская многозначность. «Дней Александровых прекрасное начало» — это и «младенчество» Александра Пушкина.
Противочувствия царя в разговоре со Сперанским поэт передал таким образом: «Вы и Аракчеев стоите в дверях противоположных этого царствования, как гении зла и блага». Эти слова настолько понравились самому автору, что он их у себя в Дневнике подчеркнул. Понравились они и Сперанскому: «Он отвечал комплиментами и советовал мне писать историю моего времени». «Мое время» — это вся жизнь поэта начиная с рождения. Возвращаясь к истории, он возвращался к детству. Возвращаясь к детству, возвращался к истории. С каждым годом он все больше узнавал о своем детстве.
И то, что он узнавал от людей или из книг о временах своего детства и о себе самом, в воображении поэта и историка делалось воспоминанием: «Видел я трех царей: первый велел снять с меня картуз и пожурил за меня мою няньку». Видеть-то видел, да вряд ли помнил, было ему тогда года два. Та же нянька, скорее всего, и рассказала. И в его памяти осталась картина: император обиделся на младенца за то, что тот не признал в нем своего царя. Как ни странно, то же самое было и при первой встрече двух Александров, поэта и царя. Пушкину— 11 лет. «В 1810 году в первый раз увидел я государя. Я стоял на высоком крыльце Николы на Мясницкой. Народ, наполнявший все улицы, по которым он должен был проехать, ожидал его нетерпеливо. Наконец показалась толпа генералов, едущих верхами. Государь был между ними. Подъехав к церкви, он один перекрестился, и по сему знаменью народ узнал своего государя». Это строки, не включенные в основной текст «Путешествия из Москвы в Петербург». Ни мальчик, ни народ не могли определить, который из толпы генералов — их повелитель, перед кем шапки снимать. Вспоминая об этом приезде царя в Москву, Пушкин заодно помянул Елизавету Петровну: она лишь дважды за свое царствование была в Москве и «не мешала ни ее веселью, ни свободе ее толков». Итак, одно из впечатлений московского детства Пушкина: веселье и свобода толков подальше от царя.
В детстве поэт много слышал об Аракчееве, о «гении зла». Но детское чувство ненависти ко «всей России притеснителю» с годами сменилось любопытством писателя и историка. «Аракчеев также умер,— пишет он жене.— Об этом во всей России жалею я один — не удалось мне с ним свидеться и наговориться». Наговориться о временах своего детства. Конечно же, немало толков было и об убийстве Павла I, к которому так или иначе был причастен его сын. «Покойный государь окружен был убийцами его отца»,— записывает поэт в Дневник. Воображение мальчика, наверное, живо рисовало ему ту картину, которая потом возникла под его пером в оде «Вольность»:
Он видит — в лентах и звездах,
Вином и злобой упоенны,
Идут убийцы потаенны,
На лицах дерзость, в сердце страх.
Молчит неверный часовой,
Опущен молча мост подъемный,
Врата отверсты в мрак ночной
Рукой предательства наемной.
Встречаясь при дворе с убийцами Павла I (об этом упомянуто в Дневнике), поэт возвращался к событиям своего младенчества.
В одном из стихотворений юного Пушкина, из тех, за какие царь хотел поместить его в Соловки,—
Мария в хлопотах Спасителя стращает:
«Не плачь, дитя, не плачь, сударь:
Вот бука, бука — русский царь».
Младенец успокаивается и даже плачет от радости, лишь после того, как слышит либеральные обещания царя. Их он воспринимает как прекрасные сказки. Вот так, будто прекрасную сказку, и запомнил Пушкин «дней Александровых прекрасное начало» с такими вполне сказочными персонажами, как гений добра, дающий царю благие советы, и гений зла, который притворяется, что «царю он друг и брат». В Дневнике после записи о Сперанском и Аракчееве Пушкин прямо связал обещания царя с детством и со сказкой: «В Александре было много детского. Он писал однажды Лагарпу, что, дав свободу и конституцию земле своей, он отречется от трона и удалится в Америку». Пушкин в детстве ощутил, а в молодости выразил эту черту своего царственного тезки:
Послушай-ка, как царь-отец
Рассказывает сказки.
Но эти толки, эти сказки наполнили еще совсем детскую душу вольнолюбивыми надеждами, верой в то, что волшебным образом, «по манию царя», придет свобода, и в то, что «счастье было так возможно, так близко». Детское в характере царя отозвалось в душе ребенка, который «рано начал все понимать». А Наполеон? Но ведь поэт еще в лицейские годы сказал, что тот «исчез, как утром страшный сон». Совсем как в детстве.
В «Послании к цензору» «дней Александровых прекрасное начало» рифмуется с «зерцало». В него бы и глядеться цензору:
Проведай, что в те дни произвела печать.
На поприще ума нельзя нам отступать.
А это уже проникнутые духом истины и свободолюбия сочинения русских авторов, опубликованные в то время и так сильно повлиявшие на будущего поэта. Один из авторов был «бичом вельмож» и «при звуке грозной лиры» «горделивые разоблачал кумиры» (Державин), другой «истину с улыбкой говорил» (Хемницер), третий «двусмысленно шутил» и «Киприду иногда являл без покрывала» (Богданович). Пушкин не отступил на поприще ума, он был верен своему «прекрасному началу», зерцало, установленное в его раннем детстве, всегда было перед ним.
Но вернемся к 1807 году, к Тильзиту. Через семь лет Пушкин скажет, что Наполеон «исчез, как утром страшный сон». Но тогда все это длилось: страшный сон на утре дней поэта, сон могильный, носящийся над главой Европы (у Пушкина сны носятся, как он не раз говорит об этом, именно над головой, словно он видит их, лежа с открытыми глазами), колоссальная тень на утренней заре… Но тут были не одни только чувства. Мальчик был зорок, приметлив. Он уже как бы собирал материал для истории своего времени, о которой так проницательно сказал ему старик Сперанский. Правда, Сперанский не знал, что уже в двадцать лет с небольшим Пушкин принялся за эту историю, в 27 лет уничтожил написанное, а в 30 снова собрался ее писать. Можно представить, что сказал бы он в этих записках о Наполеоне, об Александре I, о Тильзитском мире. Впрочем, некоторое понятие об этом получим из повести «Рославлев». Вот что наблюдал в Москве восьмилетний Пушкин: «Все говорили о близкой войне и, сколько помню, довольно легкомысленно. Подражание французскому тону времен Людовика XV было в моде. Любовь к отечеству казалась педантством. Тогдашние умники превозносили Наполеона с фанатическим подобострастием и шутили над нашими неудачами. К несчастию, заступники отечества были немного простоваты; они были осмеяны довольно забавно и не имели никакого влияния. Их патриотизм ограничивался жестоким порицанием употребления французского языка в обществе, введения иностранных слов, грозными выходками противу Кузнецкого моста и тому подобным. Молодые люди говорили обо всем русском с презрением или равнодушием и, шутя, предсказывали России участь Рейнской конфедерации. Словом, общество было довольно гадко».
Вот уж и впрямь страшный сон на утре дней Пушкина! Дети для него — равноправные участники истории. Лицейские стихи «Лицинию»:
И дети малые, и старцы в сединах —
Все перед идолом безмолвно пали в прах:
Для них и след колес, в грязи напечатленный,
Есть некий памятник, почетный и священный.
Ни Александр, ни Наполеон не были идолами для этого восьмилетнего мальчика. Ему были отвратительны «умники», превозносившие Наполеона «с фанатическим подобострастием». Жалкими казались ему «слишком простоватые» патриоты, отвергнувшие французский язык и парижские моды. И наоборот, нашлись модницы, во всем подражавшие тону времен Людовика XV, Пушкин вспомнил их в письме к Вяземскому: «Мой милый, поэзия твой родной язык, слышно по выговору, но кто ж виноват, что ты столь редко говоришь на нем, как дамы 1807 года на славяно-росском». Как, наверное, они пыжились, чтобы походить на настоящих французских аристократок-изгнанниц, каких тогда можно было встретить и в доме Пушкиных.
В это время Пушкин начал сочинять по-французски. Первыми сочинениями такого рода, видимо, были эпиграммы и басни. Он читал басни Лафонтена и слушал долетевшие до Москвы новые басни Крылова. И, может быть, именно тогда ощутил особенности духа обоих народов, русского и французского, ставшие чертами его собственного поэтического характера. В статье «О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И. А. Крылова» он напишет: «Конечно, ни один француз не осмелится кого бы то ни было поставить выше Лафонтена, но мы, кажется, можем предпочитать ему Крылова. Оба они вечно останутся любимцами своих единоземцев. Некто справедливо заметил, что простодушие (naïvété) есть врожденное свойство французского народа; напротив того, отличительная черта в ваших нравах есть какое-то веселое лукавство ума, насмешливость и живописный способ выражаться: Лафонтен и Крылов представители духа обоих народов».
Удивительная вещь. Отмеченные Пушкиным черты обоих народов породнились в его душе и стали чертами его собственной личности, его гения. «Мудрец простосердечный Ванюша Лафонтен» — так обрусил Пушкин Лафонтена с его простосердечием еще в лицейских стихах. Причем усвоил Пушкин не французский лоск, не моду, а нечто глубоко народное, идущее из народной среды. За эту французскую прививку, которая так проявлялась в нем с детства, лицеисты не когда-нибудь, а в роковом 1812 году прозвали его Французом.
Но как пылко бушевал в этом маленьком московском Французе русский патриотизм! Чувства мальчишки времен Тильзита прорывались и в стихах тридцатых годов:
Ты помнишь ли, как за горы Суворов,
Перешагнув, напал на вас врасплох?
Как наш старик трепал вас, живодеров,
И вас давил на ноготке, как блох?
Мальчишеская ярость за унижение, будто еще не было ни изгнания «двунадесяти языков» из России, ни взятия Парижа. То же прорвалось и в стихах «Клеветникам России»:
Иль старый богатырь, покойный, на постеле,
Не в силах завинтить свой измаильский штык?
Зачем он сейчас, если еще в строю победители Наполеона? Старый богатырь, сподвижник Суворова, — предмет детского обожания Пушкина. Это и сосед семидесяти лет из «Городка», «с очаковской медалью на раненой груди». Это и бригадир Димитрий Ларин, чьей очаковской медалью играл маленький Ленский, сидя на коленях у старика.
Детские эмоции 1807 года не зря проникли в стихи 30-х годов. Память девятого года его жизни была для поэта также историческим опытом. Вспоминая Тильзит, он как бы предчувствовал новую антирусскую коалицию, новое поражение России. И у него были для этого резоны. «Несколько офицеров под судом за неисправность в дежурстве,— записывает поэт в ноябре 1833 года.— Великий князь застал их за ужином, кого в шлафроке, кого без шарфа… Он поражен мыслию об упадке гвардии. Но какими средствами он думает возвысить ее дух?» Поэт понимает, что авторитарность, формалистика гибельны даже для военных. В его детстве все было иначе: «В начале царствования Александра офицеры были своевольны, заносчивы, неисправны — а гвардия была в своем цветущем состоянии». «Свободой Рим возрос, а рабством погублен», — сказано еще в Лицее.
Об этом он предупреждал Николая I в самом начале его царствования: «Слишком жестокое воспитание сделает из них палачей, а не начальников». Так оно и вышло. Наполеона победили куда более свободные люди, чем те, кого Николай I выставил потом против англичан, французов, турок, сардинцев в Крымской войне. Иной раз, например в «Романе в письмах», Пушкин говорит о прежних гвардейцах с иронией: «Охота тебе корчить г. Фобласа и вечно возиться с женщинами. Это недостойно тебя. В этом отношении ты отстал от своего века и сбиваешься на ci-devant: гвардии хрипуна 1807 г.» Пушкин не идеализировал будущих победителей Наполеона. Но они не были палачами. Как часто мысль Пушкина обращается к 1807 году! «Календарем осьмого года» был украшен кабинет дяди Онегина. Для Онегина это ветошь, древность. Для Пушкина он был вечно сегодняшним.
«Достигнув шестилетнего возраста, он стал резв и шаловлив», — писала сестра. К восьми годам он, говоря его же словами, уже давал себе ясный отчет в том, что происходило с ним, со страной, с миром. Людей моего поколения это не удивит. Мы отлично помним время, когда нам было по восемь лет: 1936—1937 годы: надежды, связанные с новой и впрямь демократической конституцией, и ужас ночных арестов, испанская война и перелеты через Северный полюс в Америку. Наше детство, как и детство Пушкина, было, так сказать, политическим, мы волей-неволей были включены в историю, к которой без конца обращается наша мысль, подобно тому как мысль Пушкина возвращалась к тому же 1807 году, году, «когда унизились цари».
Но этот возраст, возраст первой утраты и ранней любви, взлета русского патриотизма и бурного сочинительства на французском языке, детских шалостей и молчаливого сидения в кабинетах взрослых, как-то особенно много значил для Пушкина. А раз так, то он, естественно, счел, что. столько же этот возраст значит и для других, для мальчиков и девочек. Он даже горевал об этом возрасте почти в тех же интонациях, в каких потом Есенин будет грустить о своей утраченной свежести, буйстве ласк и половодье чувств. А стихи посвящены девочке восьми лет:
Вам восемь лет, а мне семнадцать било.
И я считал когда-то восемь лет;
Они прошли. — В судьбе своей унылой
Бог знает как я ныне стал поэт.
Мало того:
Не возвратить уже того, что было,
Уже я стар, мне незнакома ложь.
Вот так-так! Общее место, что дети простодушны, а взрослые лгут. Но семнадцатилетний автор оплакивает даже детскую ложь. Вот как он ее понимал. «На своей скале,— пишет он брату Льву в 1825 году,— Наполеон поглупел — во-первых, лжет, как ребенок». И поясняет: «т. е. заметно». В статье «Дельвиг» он добавляет: «В детях, одаренных игривостью ума, склонность ко лжи не мешает искренности и прямодушию». Об этом он и вздохнул в 17 лет, обращаясь к восьмилетней баронессе А. М. Дельвиг.
Близкие ощутили, что, достигнув семилетнего возраста, Пушкин резко переменился, превратившись из увальня в прелестного шаловливого ребенка. Для Пушкина ребенок 7—8 лет — уже личность, к которой надо относиться всерьез. Вот что он в 1830 году пишет Вяземскому в ответ на критические замечания восьмилетнего Павлуши Вяземского, присланные отцом, надо думать, ради курьеза. Поэт отнесся к критике восьмилетнего мальчика весьма серьезно, проявив то, что он называл «уважением к летам»: «критика кн. Павла веселит меня, как прелестный цвет, обещающий со временем плоды. Попроси его переслать мне свои замечания; буду на них отвечать непременно». В другом письме он сообщает: «Кланяюсь всем твоим и грозному критику Павлуше. Я было написал на него ругательскую антикритику, слогом Галатеи — взяв в эпиграф Павлуша медный лоб приличное названье! собирался ему послать, не знаю, куда дел».
Маршак говорил, что у человека два возраста: фактический и детский, соответствующий его характеру. Пушкину (именно в этом возрасте он стал, как сообщает сестра, «резв и шаловлив») по такому счету 7—8 лет. И этот 7—8-летний ребенок, с каким он так грустно простился в 17 лет, жил в нем постоянно. Потому-то он так резвился и шалил в письмах к Вяземскому по поводу критики его восьмилетнего сына. Уважение к ребенку и отвращение к взрослым прописям и нотациям звучат и в стихах, обращенных к Павлуше:
Душа моя Павел,
Держись моих правил,
Люби то-то, то-то,
Не делай того-то.
Кажись, это ясно.
Прощай, мой прекрасный.
А через три года, в дни своей свадьбы, как единственному человеку, способному его понять, Пушкин читал десятилетнему Павлу Вяземскому русские народные песни, видимо свадебные. И только одному Павлуше показалось важным запомнить и потом написать хотя бы какого цвета обои были в квартире молодоженов.
Подобно тому как это потом сделал Корней Чуковский, Пушкин иногда ставил знак равенства между детским и народным. Так, в статье «О народной драме и драме «Марфа Посадница» появилась отточенная формула: «Народ, как дети, требует занимательности, действия». Этого он сам требовал от литературы в детстве. То же, но в иронической форме, пишет он о критиках «Эды», поэмы Баратынского: «Как дети, от поэмы требуют они происшествий». В этой заметке нам интересно одно суждение, относящееся к героине поэмы, но не
в связи с героем, а как суждение о детстве: «Эда любит, как дитя, радуется его подаркам, резвится с ним, беспечно привыкает к его ласкам». Дитя радуется подаркам взрослого, резвится с ним, привыкает к его ласке, и оно беззащитно.
Детские чувства, чувства, пережитые в детстве, дают произведениям Пушкина прежде всего народность. Как бы он над этим ни иронизировал, его произведения, если не считать абсолютно «взрослых» «Истории Пугачева» или, скажем, «Путешествия в Арзрум», в высшей степени занимательны. И еще. Эмоции, пережитые в детстве, любимые поэтом, бережно им лелеемые, входя в состав его сочинений, сообщают им какое-то непостижимое, таинственное очарование, воздействуя, как утверждают ученые, на правое, иррациональное, эмоциональное полушарие мозга, делают многое в них по- своему понятным детям, особенно 7—8-летним, как Павлуша Вяземский. О том, как «взрослый» Пушкин отозвался в сознании ребенка до восьми лет, точно и прекрасно пишет Марина Цветаева в очерках «Мой Пушкин» и «Пушкин и Пугачев».
«Только сейчас, — замечает она, — проходя пядь за пядью Пушкина моего младенчества, вижу, до чего Пушкин любил прием вопроса: «Отчего пальба и клики? — Кто он? — Кто при звездах и при луне? — Черногорцы, что такое?» — и т. д. Если бы мне тогда совсем поверить, что он действительно не знает, можно было бы подумать, что поэт из всех людей тот, кто ничего не знает, раз даже у меня, ребенка, спрашивает». И все-таки маленькая московская девочка самого конца XIX века, сопротивляясь «подсказкам» поэта, «каждую, невольно, видела,— строка за строкой, как умела, по- своему, стихи — видела. Историческому Пушкину моего младенчества я обязана неизбывными видениями». А про Пугачева из «Капитанской дочки» Цветаева сказала: «Вожатого я ждала всю жизнь, всю свою огромную семилетнюю жизнь». Такая же огромная семилетняя жизнь была и у самого Пушкина.
Но если 7–8 лет были впрямь внутренним, «детским» возрастом Пушкина, то, может быть, сохранился и автопортрет Пушкина, изобразившего себя в этом возрасте? Да, он сохранился на черновике второй главы «Евгения Онегина». Семи-восьмилетний Пушкин прекрасно поместился во весь свой детский (голова в пять с половиной раз меньше всей фигуры) рост рядом со строчками о няне. Тут уместно, кстати, вспомнить еще один пункт из Первой программы автобиографических записок — «Гувернантки»:
Ни дура английской породы,
Ни своенравная мамзель,
В России по уставу моды
Необходимые досель,
Не стали портить Ольги милой.
Фадеевна рукою хилой
Ее качала колыбель,
Она же стлала ей постель,
Она ж за Ольгою ходила,
Бову рассказывала ей,
Чесала шелк ее кудрей,
Читать — помилуй мя — учила,
Поутру наливала чай
И баловала невзначай.
Итак, фигура в полный рост совершенно детских пропорций, в несколько нелепом, кое-как накрученном тюрбане с пером, огромным, черным, в накидке-пелерине с бахромой или кистями внизу и на коротком широком рукаве, в короткой рубашке, подпоясанной несоразмерно большим женским поясом, конец которого свисает из-под накидки. К рубашке на живую нитку подшита или приколота булавками (оставлен зазор) нижняя часть одеяния типа капота, спускающегося ниже колен. Короткая детская рука полусогнута и сжата в кулачок, на тонких ножках мягкие остроносые сандалии.
Это изображение считается то воображаемым портретом Ибрагима Ганнибала, то автопортретом («взрослым») в виде арапа, «самым уничтожительным из пушкинских автопортретных изображений» (Абрам Эфрос), то наброском некоего дворцового скорохода, даже портретом знакомки поэта А. X. Крупенской, которая была на него похожа, то есть допускается, что существо, похожее на Пушкина, одето по-женски. Если привести все эти атрибуции к одному знаменателю, то почему бы не допустить, что перед нами Пушкин-ребенок, лет семи- восьми, который с помощью предметов женского туалета вырядился арапом или героем восточной сказки?
Об этом говорят и место (рядом со стихами о няне) портрета в рукописи, и детские пропорции фигуры, рук, ног (рисуя себя, взрослого, в полный рост, поэт не искажал пропорций), и несоразмерная, не подогнанная одежда, и кудерки, более мелкие, чем на других автопортретах поэта. Выражение лица у этого озорника несколько взрословато. Но ведь Пушкин в 17 лет сказал об этом возрасте с уважением и печалью: «И я считал когда-то восемь лет». Этот возраст был ему чем-то особенно дорог, и, как мы показали выше, в 8 лет у поэта были очень серьезные переживания, радости и утраты.
«Нестерпимое состояние»
Московское детство Пушкина не было безоблачным. Не зря во Второй программе записок поэтом отмечены и «Первые неприятности», и «Мои неприятные воспоминания» и даже «Нестерпимое состояние». Пункту «Нестерпимое состояние» предшествуют в программе записок имена французов-учителей Пушкина: «Монфор-Русло», далее непонятные «Кат. П. и Ан. Ив. А за «Нестерпимым состоянием» следует как бы выход из него — «Охота к чтению». Добавим, что и в начале программы записок за пунктами «Семья моего отца — его воспитание» следует «Французы-учителя». Отец решил воспитать сына по собственному образцу.
Первая программа записок датируется 1830-м годом. Значит, и тогда зрелому Пушкину казалось совершенно нестерпимым нечто происшедшее с ним в детстве после того, как появились у него учителя, двое из которых даже заслуживали быть отмеченными в его биографии. Чтобы понять, какое состояние Пушкин мог счесть для себя нестерпимым, обратимся к его письмам и Дневнику.
Нестерпимое состояние, которое привело поэта к гибели, началось для него производством в камер-юнкеры («что довольно неприлично моим летам»). И тут он сразу вспомнил о детстве. «Меня спрашивали,— записывает он в Дневнике, — доволен ли я моим камер-юнкерством. Доволен, потому что государь имел намерение отличить меня, а не сделать меня смешным,— а по мне хоть в камер-пажи, только б не заставили меня учиться французским вокабулам и арифметике». Значит, детская зависимость от домашних учителей, подневольные занятия французскими вокабулами и арифметикой были для мальчика, уже сочинявшего французские стихи, басни, поэмы, пьесы, чем-то более нестерпимым, чем столь ненавистное ему производство в камер-юнкеры, ставившее его в унизительное и смешное положение.
Однако весной 1834 года, когда было вскрыто полицией и прочтено царем одно из писем поэта к жене, положение его сделалось совсем нестерпимым. И раз уж письма его перлюстрируются, то они становятся перепиской не только с женой, но и с царем. «Без политической свободы жить очень можно; без семейной неприкосновенности невозможно: каторга не в пример лучше»,— пишет он для Николая I. А Наталье Николаевне поясняет: «Это писано не для тебя».
А чуть раньше, мечтая «плюнуть на Петербург, да подать в отставку, да удрать в Болдино, да жить ба-рином», Пушкин замечает: «Неприятна зависимость, особенно когда лет 20 человек был независим». И тут путем вычитания: 1834 — 20, мы получаем очень важную дату в жизни Пушкина, дату, с какой он считает себя независимым,— 1814 год. 15-летний лицеист опубликовал свое послание «К другу стихотворцу». Жизнь поэта в сознании читателя начинается с призыва не писать стихов, ибо это занятие — позор для бездарности и погибель для гения.
А если добавить, что поэт назвал свое воспитание проклятым и восполнил его недостатки лишь в Михайловском с помощью народных песен и сказок, то можно представить, с каким ужасом вспоминал он годы учения у нанятых отцом учителей. Зависимость не хуже той, в какую он попал при дворе Николая I. «Плюнуть да бежать», но ведь не убежишь. Хуже каторги! Вот какое нестерпимое состояние было у него между восемью и двенадцатью годами. От него лишь отчасти спасала охота к чтению.
Но Пушкин не был бы Пушкиным, если б и это не счел бедой, которая постигла многих. Возьмем те же французские вокабулы.
Итак, герой отрывка «Записки молодого человека» произведен в офицеры. Учение кончено. Что для недавнего кадета было особенно нестерпимо? Смешно подумать, но это были французские вокабулы, слова, заучиваемые наизусть. Как, наверное, ненавидел эту зубрежку Пушкин-ребенок! «В ушах моих все еще отзывает шум и крики играющих кадетов и однообразное жужжание
прилежных учеников, повторяющих вокабулы — le blouet, le blouet, василек, l’amarante, l’amarante». Последнее слово означает «бархатник», малиновый цветок.
«Расти на воле без уроков»,— произносит Алеко в черновике «Цыган». Став уроком, французский язык, на котором мальчик говорил, читал, мыслил, сочинял поэмы, басни, пьесы, сделался хуже каторги. Зачем вокабулы? Ведь, как он пишет в статье «О причинах, замедливших ход нашей словесности», «все наши знания, все наши понятия с младенчества почерпнули мы в книгах иностранных, мы привыкли мыслить на чужом языке». В записке «О народном воспитании» поэт не удержался: «К чему, например, 6-летнее изучение французского языка, когда навык света и без того слишком уж достаточен?» И если уж детям нужно что-то внушать, вдалбливать, то Пушкин согласен только вот на что: «Надлежит заранее внушить воспитанникам правила чести и человеколюбия».
Ю. Н. Тынянов в романе «Пушкин» использовал эпизод с пьяным учителем из «Капитанской дочки», напоившим ученика. Но там, как отмечает Пушкин, «воспитывали не по-нонешнему». Ученические годы Пушкина просвечивают, скорее, в «Русском Пеламе»: «Отец мой, конечно, меня любил, но вовсе обо мне не беспокоился и оставил меня на попечение французов, которых беспрестанно принимали и отпускали». То же и в доме Пушкиных. «Воспитание его и сестры Ольги Сергеевны,— пишет сама же Ольга Сергеевна,— вверено было иностранцам, гувернерам и гувернанткам. Первым воспитателем был французский эмигрант граф Монфор, человек образованный, музыкант и живописец, потом Русло, который писал хорошие французские стихи, далее Шедель и другие: им, как водилось тогда, дана была полная воля над детьми. Разумеется, что дети и говорили и учились только по-французски».
Казалось бы, чего лучше? Один учитель — музыкант и живописец, другой — поэт. Но за несколько лет сменилось и трое названных Ольгой Сергеевной учителей, и несколько не названных ею, как бы мелькнувших в доме и не оставивших следа в памяти. В чем дело? Ответ в том же «Русском Пеламе», где, как мы уже знаем, «учителей беспрестанно принимали и отпускали»: «Виноватым остался я Анна Петровна решила, что ни один из моих гувернеров не мог сладить с таким несносным мальчишкою. Впрочем, и то правда, что не было из них ни одного, которого бы я в две недели по его вступлении в должность не обратил в домашнего шута».
Теперь ясно, почему, например, исчез Шедель. Десятилетний Пушкин, по воспоминаниям сестры, начитавшись «Генриады» Вольтера, стал сочинять шутливую поэму «Толиада» (а ему вокабулы!). Но драгоценная тетрадь с поэмой и другими стихами не дошла до потомства. «Гувернантка подстерегла тетрадку и, отдавая ее гувернеру Шеделю, жаловалась, что m-r Alexandre занимается таким вздором, отчего и не знает никогда своего урока. Шедель, прочитав первые стихи, расхохотался. Тогда маленький автор расплакался и в пылу оскорбленного самолюбия бросил свою поэму в печку». Первая из сожженных Пушкиным тетрадей! Теперь мы можем вообразить себе, как отомстил мальчик гувернеру, превратив его в домашнего шута. А ведь все могло быть иначе. «Я был резов, ленив и вспыльчив, но чувствителен и честолюбив, и ласкою от меня можно было добиться всего,— сказано в «Русском Пеламе»,— к несчастию, всякий вмешивался в мое воспитание, и никто не умел за меня взяться. Над учителями я смеялся и проказил (…) С отцом даже доходило до бурных объяснений, которые с обеих сторон оканчивались слезами».
Конечно, это не сам Пушкин, а его герой. Но привычки те же. Будь у него идеальная воспитательница, та самая «одетая убого, но видом величавая жена» из отрывка «В начале жизни школу помню я…», он бы и тут переиначил и высмеял сказанное ею:
Дичась ее советов и укоров,
Я про себя превратно толковал
Понятный смысл правдивых разговоров.
Точно так же патетическая «Генриада» Вольтера превращалась у него в развеселую «Толиаду» — про войну карликов и карлиц. Бедная поэма, полетевшая в огонь из-за слежки, упреков, насмешек гувернантки и гувернера.
Неуважение к ребенку было так же отвратительно поэту, как и неуважение к женщине, к ее интеллекту. Пушкин писал: «Даже люди, выдающие себя за усерднейших почитателей прекрасного пола, не предполагают в женщинах ума равного нашему и, приноравливаясь к слабости их понятий, издают ученые книжки для дам, как будто для детей и т. п.». Он и в детях предполагал ум, равный нашему, взрослому. Ученые книжки, может быть, им нужны другие, да и то не всегда.
«Учился Александр Сергеевич лениво, но рано обнаружил охоту к чтению, — пишет сестра,— и уже девяти лет любил читать Плутарха или «Илиаду» и «Одиссею» в переводе Битобе. Не довольствуясь тем, что ему давали, он часто забирался в кабинет отца и читал другие книги, библиотека же отцовская состояла из классиков французских и философов XVIII века. Страсть эту развивали в нем и сестре сами родители, читая им вслух занимательные книги. Отец в особенности мастерски читывал им Мольера».
Тут был парадокс. Сами родители, любившие и детей и литературу, делали детскими авторами Плутарха и Мольера. Но как светские люди, люди своей эпохи, своего круга, они были на стороне учителей и не задумываясь разделяли общее представление, что ум у детей не равен нашему, взрослому, и что воспитывать их нужно авторитарными методами, хотя сами они в общении с детьми вели себя иначе. Стараясь увлечь, занять их, заразить своей страстью к любимым книгам.
Нестерпимым состоянием для маленького Пушкина стала постоянная опека взрослых над его духовным развитием. Видимо, он сердился и на родителей, и на родных, и на друзей семьи за то, что они иной раз оказывались на стороне всех других взрослых, подобно тому как, приехав в ссылку в Михайловское, не стерпел, что его отец согласился от имени властей надзирать за ним, и заставил Сергея Львовича снова стать только отцом, а не представителем начальства.
Мольер, прочитанный отцом, когда-то дал ему очень много. «Не странно ли в XIX веке,— сказано в заметке «Об Альфреде Мюссе»,— воскрешать чопорность и лицемерие, осмеянные некогда Мольером, и обходиться с публикой, как взрослые люди обходятся с детьми; не дозволять ей читать книги, которыми сами наслаждаетесь, и впопад и невпопад ко всякой всячине приклеивать нравоучение. Публике это смешно, и она своим опекунам уж верно спасибо не скажет». Пушкин, «не помня зла, за благо» воздал лицейским «наставникам» хранившим юность нашу». Что же касается опекунов его детства, то им он спасибо не сказал и зло своего нестерпимого состояния не забыл. Оно, как кошмар, вспоминалось ему в самые унизительные, самые нестерпимые моменты его жизни.
И тут он сознавал, что состояние, испытанное им в детстве, нестерпимо не только для него. «В России домашнее воспитание,— писал он царю в записке «О народном просвещении»,— есть самое недостаточное, самое безнравственное: ребенок окружен одними холопами, видит одни гнусные примеры, своевольничает или рабствует, не получает никаких понятий о справедливости, о взаимных отношениях людей, об истинной чести. Воспитание это ограничивается изучением двух или трех иностранных языков (плохо ли? — В. Б) и начальным основанием всех наук, преподаваемых каким-нибудь нанятым учителем». И еще соображение о воспитании, до сих пор, увы, не устаревшее: «Россия слишком мало известна русским».
Холопство и гнусные примеры Пушкин в детстве находил где угодно, но только не у товарищей своих игр, составлявших «мальчишек радостный народ», не у дворовых мальчишек, множество раз помянутых им и воспетых. Появление их дает произведениям Пушкина какую- то особую теплоту. Вот, например, начало недописанной грустной повести: «На углу маленькой площади, перед деревянным домиком стояла карета, явление редкое в сей отдаленной части города. Кучер спал, лежа на козлах, а форейтор играл в снежки с дворовыми мальчишками». Форейтор — тоже мальчик, но чуть постарше. Один из них даже забежал сразу в две его повести. В «Станционном смотрителе» это сын пивовара, который показывает Белкину могилу несчастного смотрителя. «Эй, Ванька, полно с кошкой возиться». И к рассказчику выбежал «оборванный мальчик, рыжий и кривой». А в «Дубровском» Саша Троекуров, опустив кольцо сестры в заветное дупло дуба, тайный знак Дубровскому, видит, как «оборванный мальчишка, рыжий и косой, мелькнул из беседки, кинулся к дубу и опустил руку в дупло». В «Повестях Белкина» он — кривой, зовут его Ванька и живет он в зажиточной избе пивовара. В «Дубровском» это маленький разбойник Митька, но уже не кривой, а косой, и никого у него нет, кроме бабки в полуразвалившейся избушке. Но за обоими видится какой-то рыжий мальчишка с поврежденным глазом, хорошо знакомый автору. Может, он дрался с маленьким Сашей Пушкиным, как в «Дубровском», где этот маленький спартанец превзошел барчонка и честью и стойкостью? В «Станционном смотрителе» он приметлив и приветлив. Пушкин охотно наделяет Ваньку и Митьку прямой речью и сам вместе с читателем любуется ею.
Играл ли маленький Пушкин с нарочно собранными для него «потешными», как Ольга Ларина, или, как Татьяна, не хотел играть и прыгать в их толпе? Дрался ли он с ними, как Саша Троекуров? Гонял ли кубаря, как мальчик на его рисунке в рукописи «Руслан и Людмила»?
Во всяком случае, он их знал, любил, понимал, как потом понимал мужиков на ярмарке в Святых Горах или баб, у которых записывал свадебные песни. Впрочем, иные из них могли быть товарищами его детства, как это было у Белкина: «Мои потешные мальчишки были уже мужиками, а сидевшие некогда на полу для посылок девчонки замужними бабами». И словно из детства Пушкина мелькнули на границах владений Белкина «цветущие поля захарьинские, благоденствующие под властию мудрых и просвещенных помещиков». Что стоит за этой иронией?
Ему было с кем сопоставить нравы иных «мудрых и просвещенных помещиков». «Недоросль» Фонвизина он любил с детства. Вот как воспринимали истинно просвещенные молодые герои «Романа в письмах» тогдашние нравы: «Какая дикость! для них еще не прошли времена Фонвизина. Между ними процветают еще Простаковы и Скотинины». Скотининых он увидел на балу у Лариных, они ближайшие соседи, почти друзья Лариных:
Скотининых чета седая,
С детьми всех возрастов, считая
От тридцати до двух годов.
Да и что касается Татьяны, то и тут «отец ее был добрый малый, / В прошедшем веке запоздалый». И может быть, еще в детстве поэт мог воспринять милый его сердцу осенний пейзаж и таким образом:
В глуши что делать в это время?
Гулять. — Но голы все места,
Как лысое Сатурна темя
Иль крепостная нищета.
Он многому научился в детстве от крестьянских детей:
Старайся наблюдать различные приметы:
Пастух и земледел в младенческие леты,
Взглянув на небеса, на западную тень,
Умеют уж предречь и ветр, и ясный день,
И майские дожди, младых полей отраду.
Не так-то просто сквозь классическую музыку александрийского стиха понять, что это, в сущности, стихи о детстве Пушкина и что уважительное «пастух и земледел в младенческие леты» относится к столь близким труду родителей детям крепостных пастухов и пахарей. В стихах «Приметы» эти дети свободны, как и их отцы, не зря Пушкин срифмовал «отраду — винограду», тем самым уведя их из среднерусской полосы. Самая мысль о них в то время мучала душу поэта: «Но мысль ужасная здесь душу омрачает». Его товарищи могли предсказывать погоду. Но что мог предсказать им маленький барин из Захарова? Только одно:
Младые сыновья, товарищи трудов,
Из хижины родной идут собой умножить
Дворовые толпы измученных рабов.
Другом человечества назвал он таких, как он сам, в «Деревне». Надо полагать, что таким другом человечества, которому отвратителен «невежества губительный позор», он был еще в детстве, до Лицея, и что дней Александровых прекрасное начало дало вольнолюбивые надежды не только тем, кого он молча слушал в кабинетах отца или Бутурлина, и что не только взрослые мечтали увидеть «народ неугнетенный», «рабство павшее по манию царя» и прекрасную зарю над Россией, «отечеством свободы просвещенной».
Вполне возможно, что, изображая себя в виде молодого якобинца или жирондиста в костюмах времен Французской революции, Пушкин воспроизводит свои детские мечты. Был он свидетелем и безнадежного разочарования в идеалах революции: тут и якобинский террор («Мы свергнули царей. Убийцу с палачами / Избрали мы в цари»), и наполеоновский деспотизм («Явился муж судеб, рабы затихли вновь, / Мечи да цепи зазвучали»).
Прямо в родительском доме, где бывали французские эмигранты и российские вольнодумцы, мог этот мальчик, который начал рано все понимать, понять и такое:
Рекли безумцы: нет свободы,
И им поверили народы.
И безразлично, в их речах,
Добро и зло, все стало тенью —
Все было предано презренью,
Как ветру предан дольный прах.
И если даже в 1807 году, в год Тильзита, так потрясший мальчишескую душу, Пушкин вслед за иными патриотами не отверг французский язык, то это произошло, возможно, еще и потому, что этот язык был для него языком, на котором заговорила свобода:
Но ты, священная свобода,
Богиня чистая, нет, — не виновна ты.
Он уверен, что она еще придет «со мщеньем и славой» и ее враги вновь падут, ибо «народ, вкусивший раз твой нектар освященный, / Все жаждет вновь упиться им».
«Некоторые люди не заботятся ни о славе, ни о бедствиях отечества, его историю знают только со времен кн. Потемкина, имеют некоторое понятие о статистике только той губернии, в которой находятся их поместия, со всем тем почитают себя патриотами, потому что любят ботвинью и что дети их бегают в красной рубашке».
Так было и в детстве Пушкина, после Тильзита. Но он не бегал в красной рубахе, мысленно он примерял на себя одежду деятелей революционной Франции и тот головной убор, который однажды назвал в стихах «красный мой колпак».
Крестьянских детей Пушкин водит по многим своим произведениям. На минуту приподнялась завеса даже над «ребячеством» Пугачева, откуда идет знаменитая сказка старой калмычки про орла и про ворона. Но вот Пугачев подходит к Белогорской крепости, гарнизон готовится к бою. И мы видим коменданта, «который вытаскивал из пушки тряпички, камушки, щепки, бабки и сор всякого рода, запиханные в нее ребятишками». Прямо-таки антивоенный плакат! Но замечательно то, что идеи Руссо о вечном мире были по-детски понятны маленькому «другу человечества». В 1821-м году Пушкин набрасывал по-французски трактат о вечном мире
и вместе с Руссо горевал, что «идея вечного мира в настоящее время весьма абсурдный проект», но надеялся, что «вечный мир станет снова реальной целью», хотя и боялся что «все это может быть достигнуто лишь средствами жестокими и ужасными для человечества». Пушкин пояснил: «Ясно, что эти ужасные средства, о которых он говорил,— революция». И вот — ссылка на детское восприятие, на детство: «Я знаю, что все эти доводы очень слабы, и свидетельство такого мальчишки, как Руссо, не одержавшего ни одной победишки, не может иметь никакого веса». Мальчишка Руссо, мечтающий о вечном мире после того, как пережито самое жестокое и ужасное для человечества. Думаю, что он был более чем понятен московскому мальчишке Пушкину.
И вот такого поэта и мыслителя пытались сделать ребенком вообще, ребенком, каким он должен быть, по мнению взрослых. Но когда это удается взрослым, то они задерживают, останавливают его развитие, он навеки входит не в число взрослых людей, озабоченных достойными взрослых мыслями, чувствами и делами, а в число «лукавых, малодушных, шальных, балованных детей», «разносчиков послушных чужих суждений и вестей». Об этой духовной невзрослости, об инфантилизме взрослых людей, чье духовное развитие было остановлено в детстве, кому неведомо «самостоянье человека, залог величия его», Пушкин говорит очень часто. Вот что он написал лицейскому другу:
Я помню их, детей самолюбивых,
Злых без ума, без гордости спесивых,
И, разглядев тиранов модных зал,
Чуждаюсь их укоров и похвал.
Это из послания Горчакову. А вот что он пишет через 10 лет Дельвигу:
Избаловало нас начало.
И в гордой лености своей
Заботились мы оба мало
Судьбой гуляющих детей.
Ясно, что речь идет не о детях, а о взрослых, так никогда и не созревших. Вот что он пишет Вяземскому о Горчакове в 1825 году. «Он ужасно высох — впрочем, так и должно: зрелости нет у нас на севере, мы или сохнем, или гнием, первое все-таки лучше».
Жизнь не останавливается. Если не развиваешься духовно, то сохнешь или гниешь, а то и просто глупеешь. «Время изменяет человека как в физическом, так и в духовном отношении. Муж со вздохом или с улыбкою отвергает мечты, волновавшие юношу. Моложавые мысли, как и моложавое лицо, всегда имеют что-то странное и смешное. Глупец один не изменяется, ибо время не приносит ему развития, а опыты для него не существуют»,— пишет он в очерке «Радищев».
В «Детской книжке», которую он так и не напечатал, Пушкин пародирует нотации воспитателей, взгляды взрослых людей, солидных издателей и критиков, с его точки зрения незрелые, инфантильные. Вот «Ветреный мальчик», пародия на Н. А. Полевого, критика, историка, издателя «Московского телеграфа»: «Алеша был очень не глупый мальчик, но слишком ветрен и заносчив. Он ничему не хотел порядочно научиться. Когда учитель ему за это выговаривал, то он старался оправдаться всякими увертками. Когда бранили его за то, что он пренебрегал французским или русским языком, то он отвечал, что он русский и что довольно для него, если он будет понимать слегка иностранные языки. Латинский, по его мнению, вышел совсем из употребления, и одним педантам простительно было им заниматься; русской грамматике не хотел он учиться, ибо недоволен был изданною для народных училищ и ожидал новой философической».
Разные увертки, о которых пишет Пушкин, выражают незрелость, инфантильность вполне взрослого мира. Вот ведь какой патриот: латынь для него (он к тому же и прогрессист) — педантство, иностранные языки оскорбляют его русское чувство. Так знай же хоть русскую грамматику. Нет, и от нее он увернется. А дальше — немного о вокабулах и четырех правилах арифметики, которые, как мы помним, были для мальчика Пушкина хуже каторги: «Логика казалась ему наукой прошлого века, недостойною наших просвещенных времен, и когда учитель бранил его за вокабулы, Алеша отвечал ему именами Шиллинга, Фихте, Кузена, Геерена, Нибура, Шлегеля и проч.— Что же? при всем своем уме и способностях Алеша знал только первые четыре правила арифметики и читал довольно бегло по-русски,— прослыл невеждою, и все его товарищи смеялись над Алешею». Вот такими незрелыми — одни сохнут, другие гниют, третьи глупеют — казались поэту даже его незаурядные современники и коллеги. Незрелостью он мимоходом объясняет и то, что Онегин убил друга на дуэли. Этого могло не случиться, будь Онегин «не мячиком предрассуждений» (образ, идущий из детства), «не пылким мальчиком, бойцом, / А мужем с честью и умом».
При «проклятом воспитании» взрослый человек выглядит пародией на ребенка, а ребенок — пародией на взрослого. Вот сын современного Фальстафа, солдафона «Четырехлетний сынок его, вылитый отец, маленький: Фальстаф III, однажды в его отсутствие повторял про себя: «Какой папенька хлаблий! как папеньку госудаль любит!» Мальчика подслушали и кликнули: «Кто тебе это сказал, Володя?» — Папенька,— отвечал Володя».
А вот как малый ребенок пародирует взрослый мир. Это дочь Пушкина. «Маша просится на бал,— сообщает он теще в 1835 году,— и говорит, что она танцовать уже выучилась у собачек».
И еще пародия на мир взрослых. Так закладывается программа будущей женщины: ей суждено и детскости лишиться, и не стать по-настоящему взрослой, то есть личностью зрелой и самостоятельной:
Охоты властвовать примета,
С послушной куклою дитя
Приготовляется, шутя,
К приличию, закону света,
И важно повторяет ей
Уроки маменьки своей.
Развитие Ольги Лариной на этом как бы закончено. Она всегда будет куклой, хотя и самолюбивой. Ни в чем не повинные куклы вдруг оказываются символом зла, лучше бы без них:
Но кукол даже в эти годы
Татьяна в руки не брала,
В углу о переменах моды
Беседы с нею не вела.
Тут поэт понял, что с куклами несколько переборщил, и зачеркнул эти строки.
И еще страшноватая пародия на мир взрослых. Она — в сказке, записанной им и, видимо, знакомой с детства. Кузнецким сыном подменяют царевича. Теперь царевич — крестьянский мальчик. И что же? Он ведет себя как прирожденный монарх: «Молодой царевич собирает маленькую шайку, ребята признают его царем, ибо по его велению береза преклонилась и лягушки замолкли. Царенок делает виселицу, вешает, кнутом сечет и в ссылку ссылает. Доходит слух о том до царя, который задает ему разные задачи и изумляется раннему понятию сына кузнеца».
И тут вспоминается пушкинская записка «О народном воспитании», где сказано, что слишком жестокое, то есть авторитарное, воспитание делает не начальников, а палачей. Ибо этот мальчик — палач. А еще о том, что окруженный одними холопами, видя одни гнусные примеры, ребенок своевольничает или рабствует. И наконец, вспоминаются строки стихов о «ребячестве, бессмысленном и злом», о детской жестокости. В статье «О поэзии классической и романтической» мы снова встречаемся со словом «ребячество»: «Во Франции просвещение застало поэзию в ребячестве, без всякого направления, без всякой силы». Тут-то оно и становится бессмысленным и злым. «Без всякого направления, без всякой силы». Пушкину присуща презумпция невиновности, понятная даже детям. «Думали, что собственное признание преступника необходимо было для полного его обличения,— мысль не только неосновательная, но даже совершенно противная здравому юридическому смыслу: ибо если отрицание подсудимого не приемлется в доказательство его невинности, то признание его и того менее должно быть доказательством его виновности». Простая мысль из «Капитанской дочки», понятная и ребенку!
Итак, нестерпимость положения, о котором Пушкин, возможно, написал в уничтоженных записках и, во всяком случае, собирался написать в новых записках, коренится в его нетерпимости ко многим нравам и обычаям, привычным и даже не воспринимающимся многими как нечто безнравственное, варварское, да еще и ребяческое. Уже в детстве эта нетерпимость к «проклятому воспитанию» и его еще более проклятым результатам, к нравам барства и холуйства проявлялась в жажде революций, насильственных переворотов. В зрелости он остался столь же нетерпимым к этому, но был настроен менее ожесточенно: «Молодой человек! если записки мои попадутся в твои руки, вспомни, что лучшие и прочнейшие изменения происходят от улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений». Эта фраза могла быть и в автобиографических записках Пушкина, но он подарил ее Гриневу, юному герою «Капитанской дочки».
«Фатам, или Разум человеческий»
Что-то загадочное есть в этих строках из «19 октября»:
Невидимо склоняясь и хладея,
Мы близимся к началу своему.
Почему к началу, а не к концу? Не в то небытие, куда уходим, а в то, откуда пришли? Может быть, это как бы возвращение к тем, кого уже нет? Они ждут нас в Элизее, «как ждет на пир семья родная / Своих замедливших гостей». Но лицеисты, к кому обращены эти стихи, вспомнили бы и тот исчезнувший философский роман «Фатам, или Разум человеческий», который Пушкин сочинил в Лицее. Благодаря лицеистам он и стал известен. «Некоторые из его товарищей,— пишет П. В. Анненков в «Материалах для биографии А. С. Пушкина»,— еще помнят содержание романа «Фатама», написанного по образцу сказок Вольтера». Далее Анненков излагает это содержание:
«Дело в нем шло о двух стариках, моливших небо даровать им сына, жизнь которого была бы исполнена всех возможных благ. Добрая фея возвещает им, что у них родится сын, который в самый день рождения достигнет возмужалости и вслед за этим — почестей, богатства и славы. Старики радуются, но фея предлагает условие, говоря, что естественный порядок вещей может быть нарушен, но не уничтожен совершенно: волшебный сын их с годами будет терять свои блага и нисходить к прежнему своему состоянию, переживая вместе с тем года юношества, отрочества и младенчества до тех пор, пока снова не очутится в руках их беспомощным ребенком. Моральная сторона сказки состояла в том, что изменение натурального хода вещей никогда не может быть к лучшему».
Выходит, Фатам близился к началу своему! А в самый день рождения уже был взрослым. Нечто подобное случилось и с самим Пушкиным, во всяком случае, в глазах его исследователей. Человек, лишенный детства и сразу ставший гениальным юношей, этаким князем Гвидоном. Детства, мол, у него не было, оно как бы не считается, будто прошло оно в бочке, скрытое от всех, прошло сказочно быстро, и Пушкин-Гвидон на лицейском острове Буяне читает стихи царю поэтов Державину.
Есть у Пушкина персонаж, чья жизнь и впрямь пошла обратным ходом. Это усталый путник из «Подражаний Корану», заснувший под пальмой в пустыне. Проснувшись, решил, что спал долго, с утра до утра, и вдруг обнаружил, что в этом сне прошла жизнь, что лег-то он молодым, а восстал старцем. Интонация, как у Лермонтова, в еще не написанных им «Трех пальмах»:
Уж пальма истлела, а кладезь холодный
Иссяк и засохнул в пустыне безводной,
Давно занесенный песками степей;
И кости белеют ослицы твоей.
Но «горем объятый мгновенный старик» в одно мгновение проделал обратный путь, путь Фатама, и дошел по нему до своей молодости:
…чудо в пустыне тогда совершилось:
Минувшее в новой красе оживилось.
Чудо, совершенное Аллахом, может совершить каждый с помощью воспоминания. Оно происходит с пушкинским Пименом в «Годунове»:
На старости я сызнова живу.
Минувшее проходит предо мною.
Очень часто мысль Пушкина шла путем Фатама и усталого путника из «Подражаний Корану», а заодно и летописца Пимена. И происходило чудо. Минувшее и впрямь оживлялось в новой красе. Еще в юности писал поэт, что «память ищет оживляться» и что сердце «тихим сном в минувшем любит забываться». Еще в молодости он назвал свое раннее детство «волшебной стариной». И опять, как в волшебной сказке, «живое очарованье» утекших дней весны, минут детства. И как колдовское заклинание к этим минутам: «Теките медленней в моем воспоминанье». И вечно с ним стремление «душу освежить, бывалой жизнию пожить». Все это, все гениальное в себе он считает не своим, а общечеловеческим, нашим: «Или воспоминание самая сильная способность души нашей, и им очаровано все, что подвластно ему?»
Но и чужое воспоминание, идущее от людей, которых он видит и знает, тоже становится его собственным. Как, оказывается, еще близок, например, век Елизаветы Петровны. В той же Москве мальчик мог услышать от вдовы старого профессора: «О каком Ломоносове говорите вы? не о Михайле ли Васильевиче? то-то был пустой человек! бывало, от него всегда бегали к нам за кофейником».
Душа Пушкина, проделывая в одно мгновенье долгий путь Фатама от нынешнего мига к началу, как ни в чем не бывало перелетала черту рождения, но и там ждала ее все та же «семья родная». «Ты не можешь вообразить,— сказано в «Романе в письмах»,— как странно читать в 1829 году роман, писанный в 1775-м. Кажется, будто вдруг из своей гостиной входим мы в старинную залу, обитую штофом, садимся в атласные пуховые кресла, видим вокруг себя странные платья, однако ж знакомые лица, и узнаем в них наших дядюшек, бабушек, но помолодевшими». Он и тут был как дома, во времени, которое так хорошо обжили для него его молодые родители и родичи с отцовской и материнской сторон. Отец и мать подарили ему удивительных предков, за которых он как бы благодарит их в «Моей родословной».
Странная вещь! Никто не ищет родителей поэтов в стихах Баратынского, или Тютчева, или, скажем, Державина. Но что касается Пушкина, то тут вынь да положь образы отца и матери поэта. А он воображал их молодыми, еще до своего рождения, собирался рассказать в записках и про учителей отца, и про свадьбу отца и матери. Судя по программе записок, его интересовали и «Отец и дядя в гвардии», и «Их литературные знакомства», и «Бабушка и ее мать — их бедность», и то, что «Отец выходит в отставку и едет в Москву». А в описании лицейской жизни есть (должны были быть) эпизоды «Приезд матери» и «Приезд отца». А среди эпизодов раннего детства — «Отъезд матери в деревню», скорее всего в Захарово. Но этих записок Пушкин не написал, а более ранние уничтожил. А уж там-то, верно, шла речь и об отце с матерью. И это, возможно, были страницы, вполне, как теперь говорят, проходимые в цензуре, вряд ли они могли бы «умножить число жертв» декабрьского восстания. И все же поэт, как мне кажется, с легким сердцем уничтожил эти страницы.
А где же образы его родителей в сочинениях Пушкина? Не станешь же искать черты Сергея Львовича в таких отцах, как Мельник из «Русалки» или Димитрий Ларин, бригадир. А на кого из описанных Пушкиным матерей была похожа Надежда Осиповна? Может, на царицу из «Салтана», которая, согласно доносу сестер- завистниц, родила «не то сына, не то дочь, не мышонка, не лягушку, а неведому зверушку»? Может, найти в этом намек на африканское происхождение младенца? Нет тут ближе к реальным обстоятельствам жизни Пушкина разве что почтение князя Гвидона к своей матери. А может, надо искать сходство с ней в той матери, что кладет «тайный плод любви несчастной» у порога чужого дома, и предположить, что это порог Лицея? Но и об этой матери поэт сказал с уважением и сердечным сочувствием. Ведь она не простая преступница, она любит своего ребенка, которого вот-вот сделает все же подкидышем:
Мой ангел будет грустной думой
Томиться меж других детей!
И до конца с душой угрюмой
Взирать на ласки матерей.
Как относился Пушкин к родителям? Может быть, так же, как столь родная ему по духу Татьяна Ларина?
Она ласкаться не умела
К отцу, ни к матери своей.
Вот и он не умел к ним ласкаться, даже в стихах. Более того. Он сестру Ольгу, и брата Льва, и дядю Василия Львовича, о роли которого в жизни поэта так много сказано в его сочинениях, и даже новопреставленную тетушку Анну Львовну включил в сферу своего остроумия, впрочем, проникнутого нежностью и любовью. Всех, кроме отца и матери. Ни стихотворной шутки, ни поэтической ласки. В чем тут дело?
У всякого настоящего поэта есть тайные принципы, каких он никогда не нарушает. Мы знаем один из пушкинских — тайная свобода. Открыл он его читателям потому, что в лицейские годы ему случилось воспеть императрицу. И чтобы не прослыть льстецом, Пушкин, в сущности, должен был стихотворение посвятить тому, что он не льстец, что «любовь и тайная свобода» внушили ему этот «гимн простой», что голос его неподкупен и совпадает с народным мнением («эхо русского народа»). То же в стихах к Николаю I: «Нет, я не льстец, когда царю / Хвалу свободную слагаю».
А однажды он был вынужден сказать еще об одной тайне, без которой, как и без тайной свободы, он был бы уже не Пушкин. Об этом он прямо заявил царю… в письме к собственной жене, буде оно с помощью полиции окажется перед августейшим взором: «Без тайны нет семейственной жизни».
Нельзя сказать, что Пушкин выполнял все библейские заповеди, столь знакомые ему с детства. Судя по рецензии «Об обязанностях человека. Сочинение Сильвио Пеллико», у него была в детстве «младенческая простота сердца к проповеди великого учителя». Правда, решимся сказать об этом только в применении к раннему детству. Ибо не зря он потом «про себя превратно толковал I Понятный смысл правдивых разговоров» убого одетой, явно глубоко религиозной «величавой жены» из стихотворения «В начале жизни школу помню я…». Вполне возможно, что в лицейских стихах «Безверие» изображены переживания 11—12-летнего вольнодумца, вольтерьянца и чуть ли не якобинца, «того, кто с первых лет / Безумно погасил отрадный сердцу свет». «Когда бы верил я»,— произнес он через несколько лет. В «Безверии» звучит горькое сожаление об утрате одного из детских чувств.
Во храм ли Вышнего с толпой он молча входит,
Там умножает лишь тоску души своей.
При пышном торжестве старинных алтарей,
При гласе пастыря, при сладком хоров пенье,
Тревожится его безверия мученье.
Потом ему случалось шутить над этим, выражать чувства атеиста, деиста, пантеиста, кого хотите, а в поздние годы снова опоэтизировать религиозное чувство. Но даже в шутливом разговоре с Богом он серьезно относился к десяти заповедям. Кстати, десятая гласит: «Не желай дома ближнего своего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего». В 1821 году поэт посвятил этой заповеди целое стихотворение:
Ни дом его, ни скот, ни раб,
Не лестна мне вся благостыня.
Но ежели его рабыня Прелестна…
Господи! я слаб! Но ежели его подруга
Мила, как ангел во плоти…
И все же даже тут мелькают: «строгий долг умею чтить».
Но нигде у Пушкина не найдешь ни тени сожаления, насмешливого или серьезного покаяния, по поводу пятой заповеди: «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе». Перед этой заповедью Пушкин был чист и свят, хотя его нельзя назвать послушным сыном, ибо превыше всего он ставил свою независимость.
Родители как бы обжили для него, сделали своим огромный период русской истории. Всюду его ждала семья родная. Подумает об Александре Невском, но ведь ему служил предок Радша своею «мышцей бранной». Перенесется ли во времена Бориса Годунова, и тамошний Пушкин заговорит с Самозванцем. А рядом с Петром Первым очень быстро окажутся и тот прадед по отцовской линии, который не поладил с царем и был за то повешен им, и прадед по материнской линии, арап Петра Великого.
Упрямства дух нам всем подгадил.
Всем, значит и отцу, Сергею Львовичу. Родители в сознании автора уничтоженных или ненаписанных записок и, уж конечно, «Моей родословной» — лица исторические. По какой же причине они там не упомянуты? По той же, по какой у Ибрагима Ганнибала была кроме его судьбы и деятельности еще такая заслуга:
И был отец он Ганнибала,
Пред кем средь чесменских пучин
Громада кораблей вспылала,
И пал впервые Наварин.
А Сергей Львович? Про него тоже можно сказать: «И был отец он» того… И далее по тексту «Памятника». Отец незримо присутствует в «Моей родословной». Восшествие на престол Екатерины II. Дед поэта верен свергнутому Петру III.
Попали в честь тогда Орловы,
А дед мой в крепость, в карантин,
И присмирел мой род суровый,
И я родился мещанин.
Деда в крепость, внука — в ссылку, под надзор… Значит, присмирел лишь один представитель некогда сурового рода. Профиль С. Л. Пушкина (но под вопросом) Т. Г. Цявловская опознала на листе в рабочей тетради Пушкина, том самом, где виселица с пятью повешенными декабристами, а над ней стих, который исследовательница восстановила так:
И я бы мог, как шут, ви(сеть).
Шесть беглых и два законченных профиля дяди, В. Л. Пушкина. И — отец, горбоносый старик, верх сюртука с плечом, стоячий ворот, редкие волосы. Высоко поднятая бровь, как бы прикушенные в привычной иронической гримасе губы, прищуренный глаз. Видны порода, уверенность в себе, но и смиренность представителя некогда сурового рода. Лицо аристократическое, но его не назовешь независимым. Личность, участвующая в истории, но не творящая ее. Как бы эскиз для большого, несколько торжественного, с отблеском трагических событий портрета для галереи предков. И что-то от скульптурного психологического портрета римского вельможи.
И снова об уничтоженных записках: «Не могу не сожалеть о их потере, я в них говорил о людях, которые после сделались историческими лицами, с откровенностью дружбы или короткого знакомства. Теперь некоторая театральная торжественность их окружает и, вероятно, будет действовать на мой слог и образ мыслей». Это может относиться и к образу отца.
Любили ли Пушкина родители? Не будем обращаться к мемуаристам и исследователям, а сопоставим два высказывания самого поэта. Начнем с косвенного:
Так нелюбимое дитя в семье родной
К себе меня влечет.
И — прямое, в автобиографическом отрывке «Карамзин»: «Болезнь остановила на время образ жизни, избранный мною. Лейтон за меня не отвечал. Семья моя была в отчаянии…» Правда, второе свидетельство относится к юности поэта.
А теперь — образ матери. Я различил его на фотокопии рукописи «Египетских ночей». Сверху большой женский профиль, удивительно похожий на пушкинский, «в женском варианте». Скорее всего, это его сестра, О. С. Павлищева. Чуть внизу и справа от нее еще один женский профиль, с такой же прической, с таким же длинным локоном, падающим с виска на шею, прорисованы шея и узкое девичье плечо. Сходство с самим поэтом приглушено. Возможно, это более похожее изображение Ольги Сергеевны в ее девичестве. Чувствуется застенчивость, серьезность, трогательная некрасивость девушки.
Ниже голова женщины лет за сорок, полнеющее лицо, с наметившимся вторым подбородком, с длинным вьющимся локоном, спадающим с виска на полную, невысокую, но крутую шею. Короткая бровь, не доходящая до уголка глаза. Нос пушкинский. Профиль несколько экзотичный, «креольский». Лицо задумчивое, властное. Женщина словно вслушивается во что-то и вот- вот что-то скажет.
Точно такие же черты у Н. О. Пушкиной на портрете работы Ксавье-де-Местра (1810 г.). Прическа на нем асимметричная, левый вьющийся локон, очень красивый, намного ниже правого и свисает до самой шеи. Форма носа та же, что и на рисунке Пушкина. На портрете мать Пушкина моложе, на рисунке виден второй подбородок. И все же сходство велико. Еще больше похож рисунок Пушкина на опубликованный в «Неделе» (№ 16, 1988 г.) И. Бочаровым и Ю. Глушаковой дружеский шарж на Надежду Осиповну Пушкину, сделанный крепостным художником Бутурлиных, Иваном Бешенцевым. Рисунок относится к годам пребывания Пушкина в Лицее. Надежда Осиповна учится рисовать под наблюдением учителя. Лицо ее на сей раз обращено вправо, правый локон, более короткий, та же бровь, тот же рот и пухлый подбородок, та же шея, что на рисунке сына. (На портрете Ксавье-де-Местра шея несколько удлинена по тогдашнему канону красоты.) И наконец, то же выражение напряженного внимания, как на рисунке Пушкина.
Интересно было бы определить, кого изобразил поэт под портретом матери, у самого края листа. Думаю, эта женщина тоже имеет отношение к семье Пушкина. Может, это бабушка Чичерина, сестра покойной бабушки поэта со стороны отца? Во всяком случае, скорее, не в этом профиле, а в соседнем следует искать портрет Марии Алексеевны Ганнибал.
Достоверного портрета бабушки поэта со стороны матери, музы его младенчества, «наперсницы волшебной старины», в то время фактической главы семьи Пушкиных, той самой «веселой старушки», которая над ним «склонялась в шушуне, в больших очках и с резвою гремушкой», той, у кого «длинный рот, где зуба два стучало», надевавшей для внука семейную реликвию — Прагой антик, прабабушкин чепец», той, кого Пушкин помнил всю жизнь, не может не быть среди рисунков гениального внука. Надеюсь, что перед нами как раз
Правда, больших очков тут нет, а властность более заметна, чем веселость. И беззубый рот, как это и бывает, пока он сомкнут, выглядит маленьким. Зато прабабушкин чепец как будто в наличии. Им покрыты волосы бабушки, а в верхней части его видна полоска какого-то украшения. Это лицо, если разглядывать его отдельно, поражает своей значительностью.
Но главное доказательство, что этот портрет, а может, и соседний,— портрет бабушки Пушкина, расположено в нижней части рисунка. Где бабушка (или две бабушки), там и внук. Нижний профиль почему-то считают женским. Но атрибутировать его очень просто. Найдите в своем семейном альбоме снимок малыша лет двух- трех, и вы сразу поймете, что Пушкин в 1824 году на полях клятвы Клеопатры, впоследствии включенной в повесть «Египетские ночи», нарисовал живого, умненького и очень милого ребенка. Дивная головка, высокий прямой младенческий лоб с намеченным завитком кудрей, вздернутый, курносый носик. Конечно, это может быть портрет покойного Николеньки или живого, здорового Левушки (разделы посвященные рождению одного и смерти другого — в плане записок о детстве). Но и тут бабушка не перестает быть бабушкой. Это же ее внуки!
Семейное сходство с другими Пушкиными в облике младенца подчеркнуто. Ребенок изображен под портретами сестры, матери и бабушки (бабушек?). Вверху Пушкин в образе женщины. А почему бы внизу не нарисовать себя младенцем, благо об этом младенце идет речь в написанной годом раньше «Наперснице волшебной старины», в лицейском отрывке «Сон», в других стихах о младенческом вдохновении? Конечно, поэт себя в таком возрасте не помнил, тут уже работало воображение, как и в тех случаях, когда он воображал себя толстяком или беззубым, морщинистым старцем.
Как возник портрет матери на рукописи «Клеопатры», рядом со страшной клятвой египетской царицы богам Аида, Ада отдаться тому, кто «купит ценою жизни ночь мою»? Рисунки на полях этой клятвы связаны с текстом лишь тем, что Пушкин, может, помечтал, что в свите царицы могли быть женщины с примесью эфиопской крови, похожие на него самого, на его сестру или мать. А дальше — мысль о бабушке, и сразу же— головка младенца, слушающего ее рассказы «о мертвецах, о подвигах Бовы». Почему в этой группе портретов видели только профиль Пушкина в женском облике, не различая даже сестры и матери, не говоря уже о младенце? Потому что привыкли видеть поэта вне его семьи.
Но, как ни странно, образ Чарского из прозаической части «Египетских ночей» (1835), куда включена и «Клеопатра», связан и с детством поэта. Чарский, в котором современники узнали самого Пушкина, делал все, чтобы выглядеть прежде всего светским человеком, только б не звали его, как в журналах, поэтом и, как в лакейских, сочинителем. «Чарский употреблял всевозможные старания, чтобы сгладить с себя несносное прозвище». Самому Пушкину оно было ненавистно еще в его московском детстве.
В воспоминаниях М. Н. Макарова, видевшего Пушкина в детстве его у Бутурлиных, мы находим ту же меру светскости и поэтического дара, какую прививали поэту в детстве высокообразованные светские женщины, какую мы видим у Чарского. «Графиня Анна Артемьевна (Бутурлина), необыкновенная женщина в светском обращении и приветливости, чтобы как-нибудь не огорчить молодого поэта, может быть, нескромным словом о его пиитическом даре, обращалась с похвалою только к его полезным занятиям, но никак не хотела, чтоб он показывал нам свои стихи». Примерно тот же стиль, думаю, был и у Надежды Осиповны. Чарский из «Египетских ночей» — как бы итог такого воспитания. Подчеркивая свой аристократизм, он скромен как поэт. То же пишет М. Н. Макаров: «Молодой Пушкин, как в эти дни мне казалось, был скромный ребенок», добавив при этом: «Он очень понимал себя». Ну прямо-таки Чарский!
И еще эпизод из воспоминаний Макарова: «…Множество живших у графини молодых девушек, иностранок и русских, почти тут же окружили Пушкина с своими альбомами и просили, чтоб он написал для них что-нибудь. Певец-дитя смешался». Такого рода внимание вспоминалось им как кошмар и в Лицее. В стихах «Дельвигу», вспомнив отношение В. Л. Пушкина к своему детскому стихотворству («Мой дядюшка поэт / На то мне дал совет / И с музами сосватал»), поэт как бы дает и нам услышать голоса этих девушек, уже в детстве обступавших его со своими альбомами:
Вы пишете стишки;
Увидеть их нельзя ли?
Вы в них изображали,
Конечно, ручейки,
Конечно, василечек,
Иль тихий ветерочек,
И рощи, и цветки.
Та же пошлость преследовала его, как и его героя Чарского, в зрелые годы и была ненавистна ему, как в детстве: «Задумается ли он о расстроенных своих делах, о болезни милого ему человека: тотчас пошлая улыбка сопровождает пошлое восклицание: верно, что-нибудь сочиняете! Влюбится ли он? — красавица его покупает себе альбом в Английском магазине и ждет уж элегии». И самое несносное: «Придет ли он к человеку, почти с ним незнакомому, поговорить о важном деле, тот уж кличет своего сынка и заставляет читать стихи такого- то; и мальчишка угощает стихотворца его же изуродованными стихами».
Как, наверное, Пушкин был благодарен своим родителям, что эта пошлость не омрачила его детских дней, что его не заставляли из родительского тщеславия читать друзьям Пушкиных, скажем, Дмитриеву или Карамзину, их же собственные стихи, которые маленький Пушкин, конечно же, знал наизусть.
«В самом младенчестве,— вспоминает отец поэта,— он показал большое уважение к писателям. Не имея шести лет, он уже понимал, что Николай Мих. Карамзин — не то что другие. Одним вечером Н. М. был у меня, сидел долго, но все время Александр, сидя против него, вслушивался в его разговоры и не спускал с него глаз. Ему был шестой год». Таким же изображен Пушкин и постарше в воспоминаниях Макарова: «…Никогда не вмешивался в дела больших и почти вечно сиживал как-то в уголочке, а иногда стаивал, прижавшись к тому стулу, на котором угораздивался какой-нибудь добрый оратор, басенный эпиграммист, а еще подле какого же нибудь графчика чувств, этот тоже читывал и проповедовал свое, и если там или сям, то есть у того или другого,
вырывалось что-нибудь превыспренне-пиитическое забавное для отрока, будущего поэта, он не воздерживался от улыбки. Видно, что и тут уж он очень хорошо знал цену поэзии».
Таким воспитали его родители. Не только чуждым тщеславия, но и презирающим его в других, не терпящим малейшего признака пошлости и безвкусицы.
Он очень часто, всю жизнь, возвращался путем Фатама в свое детство. Проживи дольше, глядишь, и написал бы на «веселом закате» свой обещанный читателям «Онегина» роман на старый лад, где были бы «преданья русского семейства, / Любви пленительные сны / И нравы нашей старины». Детство было неисчерпаемым источником для его творческой памяти и фантазии.
Итак, ключ, который Пушкин подобрал к жизни Байрона, подходит и к его собственной биографии. Пользуясь им и опираясь на воображение, интуицию, тщательное сопоставление свидетельств, рассеянных по самым разнообразным его сочинениям, можно многое узнать и о его детстве. А ведь мы еще почти ничего не сказали ни о Н. М. Карамзине, ни о В. Л. Пушкине, ни даже об Арине Родионовне. Тут, конечно, нужно сопоставление самых разных материалов.
Арина Родионовна вначале была няней Ольги Пушкиной, у Александра была своя няня — Улиана. Потом Арина Родионовна стала общей няней для брата и сестры. Строчки из черновика «Онегина» про Филипьевну, которая учила Ольгу читать «Помилуй мя», «поутру наливала чай и баловала невзначай» — это, скорее, рассказ о детстве Ольги Сергеевны. Для Пушкина же главным в его детском общении с няней было:
Расскажи-ка, няня,
Про ваши старые года.
Эти рассказы и сказки заменили ему всю детскую литературу.
Вернемся к его строкам про няню:
…Внимать ее рассказам, затверженным
Сыздетства мной — но все приятным сердцу,
Как песни давние или страницы
Любимой старой книги, в коей знаем,
Какое слово где стоит…
Опять свое, глубоко личное, поэт осмысляет как общечеловеческое, понятное каждому. Пусть Арина Родионовна была только у него и у его сестры. Зато у каждого были и «песни давние», и «страницы любимой старой книги». Даже Онегину в момент некоего душевного очищения, вызванного запоздалой, безнадежной любовью к Татьяне, чудится «старинной сказки вздор живой». Без этого «вздора», идущего из раннего детства, человек, как бы ни был он умен, блестящ и одарен, все-таки может «в любви считаться инвалидом» и даже вызывать вопрос: «Уж не пародия ли он?»
Что же касается «песен давних», то есть идущих от самого раннего детства, то две из них поэт однажды назвал: «За морем синица не пышно жила», с ее столь забавной для детского ума пародией на людскую иерархию, и «По улице мостовой шла девица за водой», сразу и удалая и нежная, с великолепным простонародным диалогом. Их бы исполнять в дни рождения Пушкина! Нет, поэт остался верен и песням давним, и «рассказам, затверженным сыздетства». Страницы любимой старой книги не вычеркнуты из памяти сердца. И все же этот отрывок не вошел в основной текст стихотворения «…Вновь я посетил…». Поэт берег воспоминания детства до поры, которая так и не наступила.
В 1830 году он писал Н. С. Алексееву: «Пребывание мое в Бессарабии доселе не оставило никаких следов ни поэтических, ни прозаических». Как не оставило? Одни «Цыганы» чего стоят! Но Пушкин продолжает: «Дай срок — надеюсь, что когда-нибудь ты увидишь, что ничто мною не забыто». То же, наверное, он мог сказать и о своем детстве, вот только сроку не дали.
1989, 1997
30














