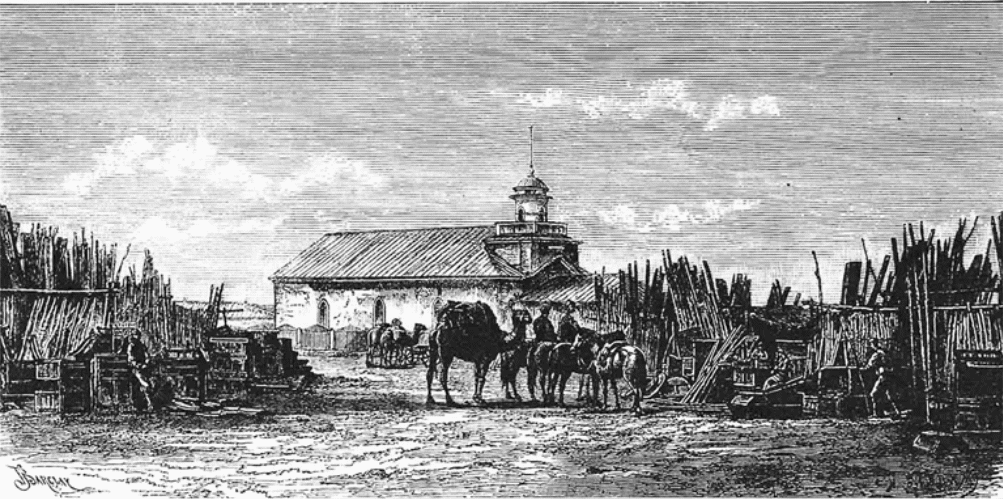Мектебе при мечетях г. Оренбурга
В письме от 4 сентября 1785г. императрица Екатерина II писала оренбургскому генерал-губернатору Игельстрому: «Видев из донесения Вашего от 6 августа, что построенные для подданных наших магометанского закона мечети в крепости Троицкой и Сеитовом посаде открыты, не сомневаюсь, что такое сооружение мест для публичной молитвы привлечет и прочих поблизости кочующих и обитающих к границам нашим, а еще послужат со временем способом к воздержанию их от своевольства, лучше всяких строгих мер. Вследствие того нужно есть:
При упомянутых мечетях построить татарские школы, по примеру, казанских, тут же завести караван-сараи и гостиные дворы;
Мечети обвести каменным забором, осведомившись у татар, как то пристойнее по их обычаю;
Где то вновь следует строить мечети, и особливо в таких местах, кои удобнее другим помещаемые быть могут, стараться оные так расположить, что хотя и до тысячи пятисот человек вместиться могло»1.

Фото 17. Императрица Екатерина II
Согласно указу императрицы Екатерины II от 8 июля 1782 г. было предписано строить на границах Уфимского наместничества и Тобольской губернии мечети по высочайше утвержденному типовому плану для привлечения кочующих казахов и среднеазиатских торговцев. На эти цели начиная с 1783 г. в течение четырех лет из государственного казначейства выделялось 20 тыс. руб. Такой шаг был призван создать комфортные условия для отправления обрядов российскими и приезжими мусульманами, которые играли доминирующую роль в приграничной и караванной торговле, завоевать их симпатии, продемонстрировать веротерпимость, равное отношение православного государства к представителям различных конфессий. Места возведения мечетей следовало определить по взаимному согласованию уфимского и симбирского генерал-губернатора с его пермским и тобольским коллегой2. Первоначально для этого были намечены четыре стратегически важных пункта: Оренбург - вследствие близости пребывания казахского хана Младшего жуза Нурали, Верхнеуральск – «по случаю расположения всех знатных казахских старшин своим кочевьем» напротив дистанции, а также Троицк и Петропавловск – «по причине продолжаемой там» меновой торговли с народами Средней Азии «для лучшего их по сему поводу приохочения к беспрерывному приезду»3.
По указу императрицы Екатерины II в 1783–1785 гг. за государственный счёт была построена мечеть на оренбургском Меновом дворе для мусульманских торговцев, приезжавших на ярмарку. Рапортом от 6 августа 1785 г. уфимский и симбирский генерал-губернатор О. А. Игельстром доложил об окончании постройки и торжественном открытии мечети на Меновых дворах Оренбурга4. В августе 1789 г. новое культовое здание было передано на баланс Оренбургской экспедиции пограничных дел. В 1789 – 1817 гг. при ней действовало казённое мусульманское училище для воспитания детей казахской элиты.
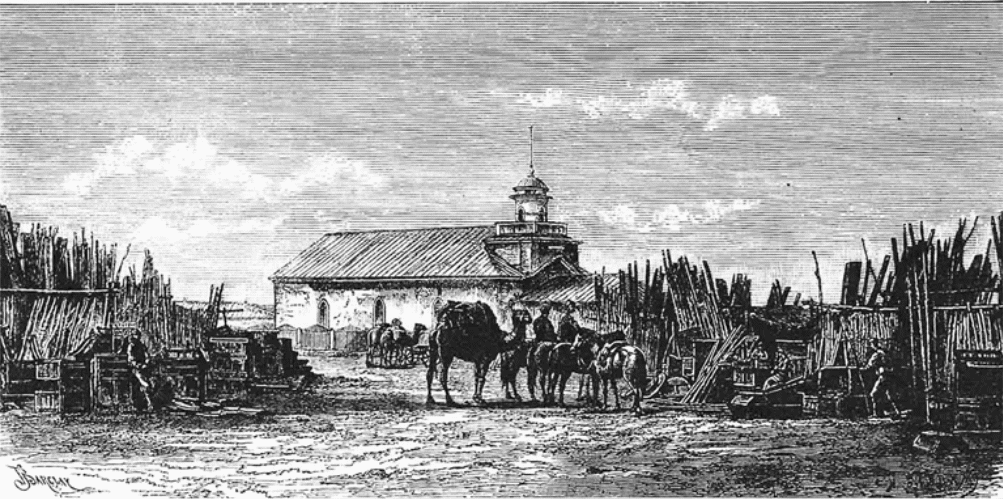
Фото 18. Мечеть на Оренбургском Меновом дворе. 70-е гг. XIX в.
Рис. Барклай, грав. Брабан.
Губернатор уже Оренбургского края О.А. Игельстром назначил на должности имама и мударриса Меновнинской мечети тептяря деревни Кубяковой Белебеевской округи (ныне с. Кубяк Буздякского района Республики Башкортостан) Ишмухаммеда-хаджи Заитова, который пользовался его личным доверием и непосредственно осуществлял отбор кандидатов на другие вакансии. Ишмухаммед-хаджи Заитов имел необыкновенно красивый голос и считался выдающимся чтецом Корана, владел искусством каллиграфии. Поэтому на обучение к нему издалека приходили многие люди, среди которых были известные впоследствии имамы: Тахир бин Субхан Аладаи, Абдуллатиф бин Субхан аль-Карачи, Хабибулла бин Абдулваххаб аль-Чекмагуши, Таджуддин бин Абдуррашид ал-Иштиряки, Тавабиль бин Сабак ал-Йугамеши, Нурмухаммед бин Ибрагим аль-Казани и другие.
Важную роль в обучении инородцев в губернии сыграла специальная киргизская школа, открытая при Оренбургской пограничной комиссии в первой половине XIX века. Одним из первых выпускников этой школы был известный казахский просветитель и первый казахский педагог, впоследствии инспектор народных училищ Тургайской области, Ибрай Алтынсарин, посвятивший свою жизнь развитию образования и распространению знаний среди казахского населения.

Фото 19. Здание киргизской школы в настоящее время.

Фото 20. Портрет Ибрай Алтынсарина
Требования к мударрису как «публичному учителю мухаммеданской религии» были такие: «искусен грамматике, богословию, истолкованию Корана», знатоком мусульманского права (шариата), «доброго поведения и трезвый человек». Для остальных служителей требования были существенно снижены: «благочестивые и неленивые, хотя бы … и безграмотные», причем для муэдзинов принципиально важным было наличие хорошего голоса5.
5 августа 1790 г. по предложению Магометанского духовного собрания Уфимское наместническое правление утвердило новым мударрисом мечети уроженца села Бавлы Бугульминской округи (ныне г. Бавлы Республики Татарстан) Муссаляма Мансурова6.
Мусульманское духовенство меновнинской мечети продолжало находиться фактически на положении государственных служащих до 1844 г., когда было принято новое положение «Об управлении оренбургскими киргизами», не предусматривавшее расходов на его содержание7. Однако с 1850 г. оно вновь стало получать жалование по линии Областного правления оренбургскими киргизами в размере 110 руб. в год за обучение детей в правительственной «киргизской» школе. Вознаграждение предназначалось мударрису, но в отдельные периоды делилось между всеми священнослужителями. Так, в 1861 г. имам Оренбургской меновнинской мечети получал 55 руб., а муэдзины – по 12 руб. 50 коп. серебром в год8. После образования Тургайского областного правления и закрытия Оренбургской «киргизской» школы в 1869 г. генерал-губернатор Н.А. Крыжановский счел нужным сохранить выплату жалования имаму для поддержки торговли на оренбургском Меновом дворе, воспользовавшись для этого своим служебным положением. По его личному указанию от 4 октября 1870 г. № 230 в ежегодную смету Министерства внутренних дел продолжали включаться расходы на несуществующую «киргизскую» школу в прежнем размере. Только в 1899 г. Департамент государственного контроля обнаружил подлог, а после затянувшегося разбирательства Департамент духовных дел иностранных исповеданий 8 июня 1902 г. за № 1695 предписал Оренбургскому губернскому правлению прекратить незаконную выплату жалованья ахуну при Меновнинской мечети с 1 января 1903 г.9
Однако лишь по распоряжению барона О.А. Игельстрома от 27 июня 1788 г. началось, наконец, возведение «двух школьных домов» при Оренбургской меновнинской мечети, которые были закончены не ранее 1793 г. В соответствии со штатом, утвержденным 28 февраля 1789 г., на содержание 64 учеников предполагалось выплачивать по 5 коп. в день каждому или 1125 руб. в год, а на само училище и хозяйственные нужды (покупку дров, свечей, учебных книг, бумаги и др.) – еще 700 руб. ежегодно. Стремясь освоить выделенные финансовые средства, несмотря на незавершенное строительство учебных корпусов, генерал-губернатор предписал Оренбургской экспедиции пограничных дел: «Училище открыть в непродолжительном времени и … опубликовать во все киргизские Меньшей орды роды, что Ее Императорское Величество, попечаясь о просвещении народа их, указала учредить при здешней мечети для детей их школу, в которую для заимствования учения закону их и грамоте могут прислать и принимаемы будут от каждого из тридцати двух частных их родов по два человека их детей, которым и содержание будет производиться»10. 19 декабря 1789 г. приглашения были разосланы главным старшинам Жанназару, Каракубеку, Мурзабеку, Срыму Датову, Каратау Гумерзакову и 17 родовым старшинам аллимуллинского поколения, а также главным старшинам Тлянчи Букенбаеву, Жанбулату Карабанову и 13 родовым старшинам семиродского поколения11.
Однако казахские феодалы крайне неохотно отдавали своих детей на обучение в Россию, опасаясь, что они окажутся там на положении «аманатов» – заложников и гарантов верности. В течение 1805 г. в школе при Оренбургской меновнинской мечети проходили подготовку от 14 до 19 человек, в 1808 г. – 12, в 1809 г. – 11, а в 1810 г. – 1312. Накануне освидетельствования знаний в августе 1815 г. 5 из 11 учеников бежали в родные аулы13. Сама постановка обучения и круг дисциплин были характерны для традиционной мусульманской школы и не способствовали приобщению детей казахской знати к российской культуре, которое подразумевалось в качестве главной цели проекта. В стенах училища они получали навыки чтения и письма на тюркском, арабском и персидском языках, беря за основу Коран, Афтияк и другие религиозные книги. По сообщению Оренбургской пограничной комиссии, здесь преподавались «предметы учения…, начиная от первых оснований азиатской словесности, письма и потом переходя к грамматике, оканчивают чтением книг, ведущих к познанию и очищению вкуса к их литературе, а преимущественно к познанию богословия, разумению Алкорана и других законов веры их»14. Ученики проживали изолировано, за пределами губернского города, а в зимнее время переводились на квартиры в Каргалу, где продолжали обучение в одном из местных медресе.

Фото 21. Мечеть на Меновом дворе
Это открывало возможности для принуждения, насилия и злоупотреблений со стороны их учителей. Так, в июне 1810 г. исполняющий должность директора народных училищ по Оренбургской губернии, старший учитель Медяников сообщил Пограничной комиссии, что в ходе проверки училища на оренбургском Меновом дворе казахские дети «приносили, даже со слезами, жалобы на мударриса Гадильшина в нерадении его о обучении их, в употреблении их для своей работы и прислуг» и просили назначить им другого преподавателя. По распоряжению комиссии они были переданы в ведение Рахматуллы Явишева, который состоял учителем татарской грамоты при Оренбургском главном народном училище. Однако он также не устроил учеников потому, что не мог преподавать персидский язык. Оренбургская пограничная комиссия предприняла меры к поиску новых педагогов. При этом поступили две просьбы от указного мухтасиба и мударриса, муллы деревни Каршин-Шарифовой 3-го Мещерякского кантона Уфимского уезда (ныне с. Шарипово Кушнаренковского района Республики Башкортостан) Абдулсаттара Сулейманова, 1778 г. р., и от сына каргалинского купца 3-й гильдии Абдулхасана Исхакова об определении их к Меновнинской мечети, соответственно, ахуном и мударрисом. Комиссия сочла обоих кандидатов достойными этих должностей особенно потому, что «они приобрели весьма достаточное знание персидского и арабского языков, даже и переводить оные могут на татарский диалект». 18 апреля 1811 г. она представила эти кандидатуры на рассмотрение оренбургского военного губернатора, а Гадильшина и Явишева просила уволить от обучения детей. Г. С. Волконский обратился в ОМДС для того, чтобы оно представило свое мнение по этому вопросу. 7 августа 1811 г. Собрание донесло, что поведение мухтасиба Сулейманова, который по собственной воле добивался вышестоящей должности, не согласуется с нормами ислама, однако подчиняясь воле губернатора, оно исключило его по деревне Шарифовой. Что же касается Гадильшина, то он был утвержден по предписанию самого Волконского от 28 мая 1810 г., духовные же власти не имели никакой информации о его «нерадении к обучению детей». Поэтому Собрание охотно удалило его ото всех духовных званий. 6 декабря 1811 г. за № 28781 Оренбургское губернское правление уведомило губернатора об утверждении Абдулсаттара Сулейманова в звании ахуна, а Абдулхасана Исхакова – в звании мударриса Оренбургской меновнинской мечети с жалованием по 100 руб. в год каждому. Отстраненный от должности Галиша Гадильшин в 1812 г. поступил учителем в медресе при 5-й соборной мечети Каргалы15.
При мудариссе мечети на Меновом дворе Абдулхасане Исхакове обучение казахских детей было полностью переведено в Сеитовский посад из-за быстрого разрушения учебных корпусов на Меновом дворе, представлявших угрозу для их жизни. Архитектор Малахов, проводивший в 1811 г. осмотр по жалобе муллы, констатировал, что «два флигеля для татарского училища, построенные из худо обожженного кирпича, чрезвычайно ветхи, крыши и потолки обвалились, и полы погнили и порастасканы, и для жительства совсем негодны». В 1817 г. он установил целевой сбор с казахов за разрешение наниматься работниками к жителям оренбургской линии (по 50 коп. в месяц ассигнациями), объявил о приеме пожертвований в станицах Оренбургского казачьего войска и, наконец, принял решение о закрытии мусульманского училища на Меновом дворе16. Из 2007 руб., которые отпускались ежегодно по штатному расписанию, 1125 руб. были присоединены к капиталу на образование Неплюевского военного училища, а оставшиеся 882 руб. определены на содержание Меновнинской и Оренбургской городской казенной мечетей17. Так начиналась история мусульманских школ в г.Оренбурге.
По именному указу Александра I от 6 мая 1802 г. оренбургскому военному губернатору Н. Н. Бахметеву было поручено построить в городе мечеть «в ободрение жительствующих в Оренбурге и по торговому промыслу приезжающих туда ж в немалом числе разных магометанского звания народов» с финансированием по линии государственной коллегии иностранных дел. В первой половине XIX века прибывающие в город мусульмане селились компактно в районе храма, на Мечетном и Татарском пер. (ныне Левашова и Каширина)18.

Фото 22. Портрет Александра I
Из государственного бюджета в 1802 – 1804 гг. финансировалось возведение первой мечети Оренбурга для мусульманских купцов, поселившихся внутри крепости. Первой соборной мечети г. Оренбурга в 1848 г. бухарский подданный Тляумбай Маркибаев подарил дворовое место для постройки медресе. В 1885 г. оренбургский купец 2-й гильдии Чемир Акильбеков выделил землю стоимостью 100 руб. для сооружения нового учебного корпуса за 1000 руб.19.
С 1799 г. Габдессалям Габдрахимов стал имамом Оренбургской соборной мечети20. 12 августа 1805 г. по результатам экзамена в Духовном Собрании в г.Уфе он был признан достойным быть имамом, мударрисом и ахуном соборной мечети в г.Оренбурге21. Со времени своего утверждения городовым муллой в 1799 г. Габдессалям Габдрахимов открыл в собственном доме мусульманское училище, где в 1810 г. обучались «закону магометанскому и грамоте писать и читать» уже 15 мальчиков и 12 девочек из числа проживающих в Оренбурге татар, бухарцев, хивинцев и ташкентцев22. На воспитание к нему посылали своих детей и казахские старшины, что способствовало его тесному сближению с национальной элитой, установлению между ними доверительных и теплых отношений23. За свои обязанности имама м мударисса он получал жалованье из казны. 13 декабря 1805 г. за № 4683 оренбургский военный губернатор князь Г.С. Волконский просил министра внутренних дел исходатайствовать ежегодное государственное содержание в размере 150 руб. серебром Габдессаляму Габдрахимову и всем «будущим при мечети Оренбургской ахунам, кто бы в сем звании не был …, ибо здесь при наших церквах все священнослужители пользуются окладным из казны жалованием»24. По высочайшему повелению императора от 13 марта 1806 г. эта просьба была удовлетворена25. В августе 1819 г. на основании распоряжения оренбургского военного губернатора П. К. Эссена Габдрахимову был увеличен размер жалованья до 300 руб. серебром в год за счет местных сумм26.

Фото 23. 1-я соборная мечеть г. Оренбурга. Начало XX в.
Российские власти высоко ценили его услуги, за которые он неоднократно получал различные поощрения: был отмечен многочисленными похвальными аттестатами, в феврале 1814 г. награжден золотой медалью с надписью «За усердие» на Анненской ленте, в июле 1817 г. освобожден от уплаты податей и всех повинностей, в январе 1820 г. премирован 100 руб., а в апреле 1824 г. награжден золотыми часами стоимостью в 500 руб.27
Указом императора Александра I от 30 сентября 1825 г. Габдессалям Габдрахимов был утвержден новым муфтием, а 15 февраля 1826 г. в Уфе он принял присягу и был введен в присутствие Оренбургского магометанского духовного собрания. Его сын - Абдрауф Габдессалямов, 21 сентября 1826 г. по представлению муфтия Габдессаляма Габдрахимова Духовном собранием был командирован для служения в соборной оренбургской мечети. Абдрауф Габдессалямов родился в 1804 г. и получил образование в медресе своего отца. По указу ОГП от 31 октября 1827 г., он был утвержден в званиях старшего мухтасиба и мударриса к Оренбургской соборной мечети28. Возглавляя городскую общину мусульман, одновременно Абдрауф Габдессалямов нес бремя разнообразных общественных обязанностей: приглашался в присутственные места для привода к присяге и увещевания преступников, с 1831 г. преподавал мусульманское вероучение воспитанникам Оренбургского Неплюевского военного училища, совершал религиозные обряды в городской тюрьме и военном госпитале «у одержимых и страждущих болезнями нижних чинов». Его заслуги были отмечены императором, наградившим муллу серебряной медалью на Анненской ленте. Наконец, Оренбургское магометанское духовное собрание, подчеркнув его отличное поведение и кроткую нравственность, сопряженные с успехом в исполнении поручений, своим указом от 14 марта 1840 г. № 434 присвоило Абдрауфу Габдессалямову звание старшего ахуна города Оренбурга29.
Журналом от 13 февраля 1847 г. Духовное собрание даже одобрило представление директора корпуса об определении его на вакантную должность муллы, предусмотренную высочайше утвержденным штатом учебного заведения от 4/10 июня 1844 г. После ухода по собственному желанию с преподавательской работы Абдрауф Габдессалямов жил в Оренбурге и получал пенсию до самой смерти в 1881 г.30
Благодаря помощи состоятельных мусульман, вокруг соборной мечети сложился комплекс вакуфных зданий и земельных участков. На протяжении первой половины XIX в. приходское медресе не имело собственного здания и располагалось в домах священнослужителей. В 1848 г. бухарский подданный Тляумбай Маркибаев пожертвовал в пользу прихода дворовое место в 1-й части г. Оренбурга, по Татарскому пер., № 540/90 для постройки здания мусульманского учебного заведения31. Медресе было возведено уже в следующем, 1849 г., а земельный участок документально оформлен только в 1873 г. Вакуф был утвержден Министерством внутренних дел 28 мая 1886 года за № 265932. Благодаря этому пожертвованию была расширена территория мусульманского училища, а его комплекс перестроен и приобрел окончательный вид (ныне ул. Левашова, 7). В 1-этажном каменном доме из 2-х комнат с сенями разместилось мектебе, а в 2-этажном каменном здании верхние 4 комнаты были заняты медресе, а нижние 4 комнаты отведены под кухню, кладовые и дополнительные классные комнаты33.

Фото 24. Вид на мечеть с Татарского переулка.
1� Исканедеров Р. Сеитов посад и его мечети//Край Оренбургский: праведной дорогой ислама. Оренбург: Орлит-А, 2007г. С.60.
2� Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 248. Оп. 52. Д. 4266. Л. 481
3� ГАОО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 5. Л. 15-15 об.; РГАДА. Ф. 248. Оп. 52. Д. 4266. Л. 484-485
4� Добросмыслов А. И. Заботы императрицы Екатерины II о просвещении киргизов // Труды Оренбургской ученой архивной комиссии (ТОУАК). – Вып. IX. – 1902. – С. 54
5� Там же. Л. 13, 16-18 об.; Добросмыслов А. И. Заботы императрицы Екатерины II о просвещении киргизов // ТОУАК. – Вып. IX. – Оренбург, 1902. – С. 55
6� ГАОО. Ф. 6. Оп. 2. Д. 627. Л. 1-1 об.
7� ПСЗ. – 2-е издание. – Т. 19. – Отд. 2. - Приложение к № 17988
8� ЦГИА РБ. Ф. И-295. Оп. 10. Д. 97. Л 125 об.
9� ГАОО. Ф. 11. Оп. 3. Д. 4230. Л. 101-102 об.; Д. 4230. Л. 503-504; Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 821. Оп. 8. Д. 700. Л. 139-144, 217-218
10� Губернаторы Оренбургского края / Сост. В. Г. Семенов, В. Л. Семенова. – Оренбург: Оренбургское кн. изд-во, 1999. – С. 12
11� Денисов Д. Н. Очерки по истории мусульманских общин Оренбургского края (XVIII - начало XX вв.). – Нижний Новгород: Издательский дом «Медина», 2010. – с.49.
12� Национальный архив Республики Татарстан (НА РТ). Ф. 92. Оп. 1. Д. 74. Л. 8-8 об.; Д. 386. Л. 13 об.; ГАОО. Ф. 6 оп. 10. Д. 499. Л. 1
13� ГАОО. Ф. 6. Оп. 10. Д. 1263. Л. 1-18 об.
14� НА РТ. Ф. 92. Оп. 1. Д. 74. Л. 8-8 об.
15� ГАОО. Ф. 6. Оп. 10. Д. 774; Ф. 6. Оп. 3. Д. 4132. Л. 1
16� Губернаторы Оренбургского края / Сост. В. Г. Семенов, В. Л. Семенова. – Оренбург: Оренбургское кн. изд-во, 1999. – С. 181-182
17� Труды Оренбургской ученой архивной комиссии. Вып. III. – Оренбург, 1897. – С. 27; Добросмыслов А. И. Заботы императрицы Екатерины II о просвещении киргизов // ТОУАК. – Вып. IX. – 1902. – С. 59-60
18� Дорофев В. В. Оренбург – Евразийский город // Евразийское ожерелье. Альманах общественного института истории народов Оренбуржья им. М. Джалиля / Отв. ред. И. М. Габдулгафарова. – Оренбург: Издательство ОГПУ, 2001. – С. 40-41
19� ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 3. Д. 8829. Л. 2 об.; Оп. 6. Д. 87. Л. 59; Д. 305. Л. 5 об. – 6, 29–30; Д. 3723. Л. 4–4 об., 22.
20� Азаматов Д. Д. Оренбургское магометанское духовное собрание в конце XVIII – XX вв. // Ватандаш. – 1997. - № 5. - С. 166-182; Он же. Оренбургское магометанское духовное собрание в конце XVIII – XIX вв. – Уфа: Гилем, 1999. – С. 50
21� ГАОО. Ф. 6. Оп. 4. Д. 8668. Л. 23-24 об.
22� НА РТ. Ф. 92. Оп. 1. Д. 386. Л. 13
23� ГАОО. Ф. 6. Оп. 10. Д. 61. Л. 2-2 об.
24� ГАОО. Ф. 6. Оп. 10. Д. 242а. Л. 5-5 об.
25� ГАОО. Ф. 6. Оп. 3. Д. 3066. Л. 1-2
26� ГАОО. Ф. 6. Оп. 10. Д. 2471
27� ГАОО. Ф. 6. Оп. 4. Д. 8688. Л. 8-9 об.
28� ЦГИА РБ. Ф. И-295. Оп. 4. Д. 496. Л. 31-52
29� ЦГИА РБ. Ф. И-295. Оп. 4. Д. 496. Л. 55-56 об.
30� ЦГИА РБ. Ф. И-295. Оп. 4. Д. 496. Л. 87-88 об., 95-97, 107-108 об., 116-117, 121-122; Фахреддин Р. Асар. 1 том. – Казань: Рухият, 2006. – С. 330
31� Азаматов Д. Д. Из истории мусульманской благотворительности. Вакуфы на территории Европейской части России и Сибири в конце XIX – начале XX вв. – Уфа: Издательство Башкирского университета, 2000. - С. 47; ЦГИА РБ. Ф. И-295. Оп. 6. Д. 87. Л. 59
32� ЦГИА РБ. Ф. И-295. Оп. 6. Д. 305. Л. 29-30; Д. 3723. Л. 4-4 об.
33� РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 626. Л. 41 об.