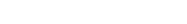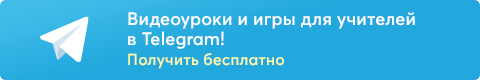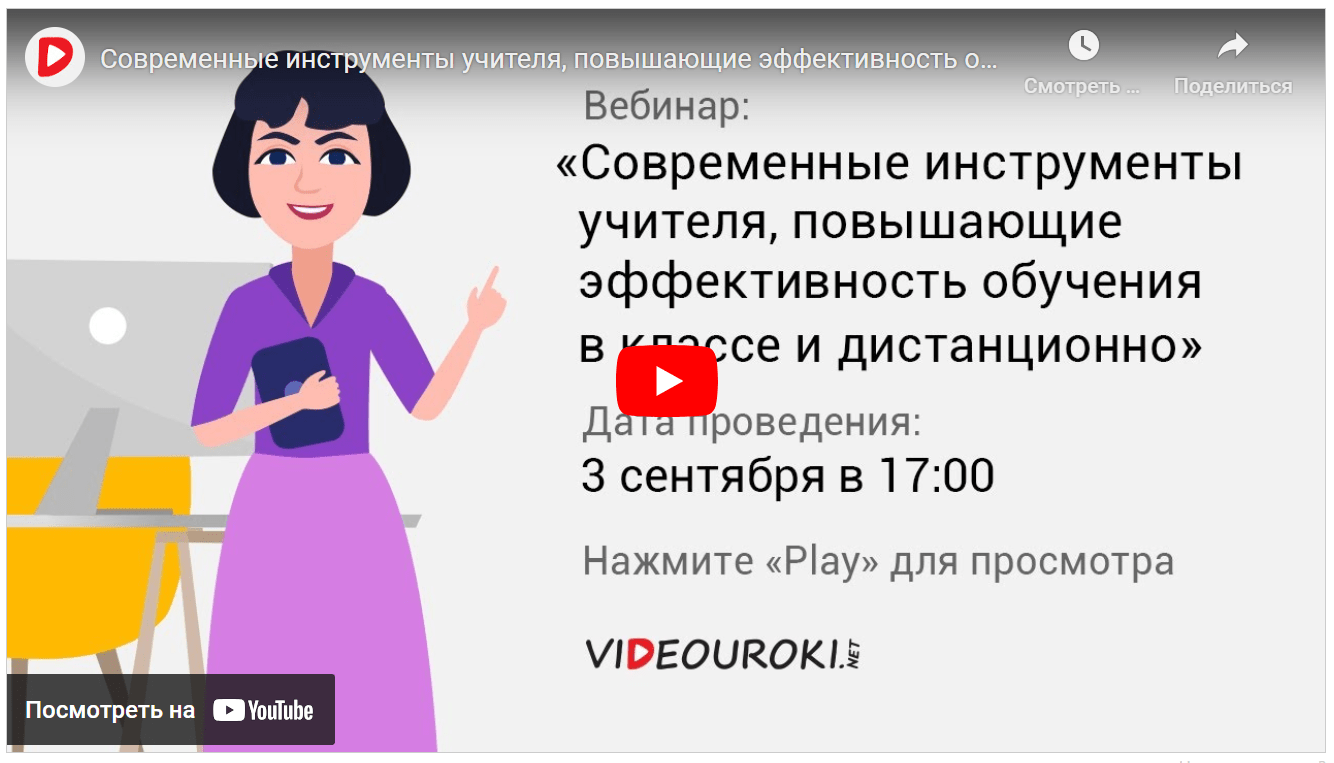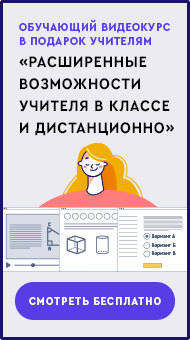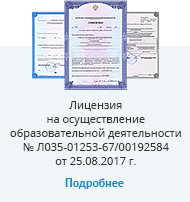Сказание о Кише
Давным-давно у самого Полярного моря жил Киш. Долгие и счастливые годы был он первым человеком в своем поселке, умер, окруженный почетом, и имя его было у всех на устах. Так много воды утекло с тех пор, что только старики помнят его имя, помнят и правдивую повесть о нем, которую они слышали от своих отцов и которую сами передадут своим детям и детям своих детей, а те — своим, и так она будет переходить из уст в уста до конца времен. Зимней полярной ночью, когда северная буря завывает над ледяными просторами, а в воздухе носятся белые хлопья и никто не смеет выглянуть наружу, хорошо послушать рассказ о том, как Киш, что вышел из самой бедной иглу note 1, достиг почета и занял высокое место в своем поселке.
Киш, как гласит сказание, был смышленным мальчиком, здоровым и сильным и видел уже тринадцать солнц. Так считают на Севере годы, потому что каждую зиму солнце оставляет землю во мраке, а на следующий год поднимается над землей новое солнце, чтобы люди снова могли согреться и поглядеть друг другу в лицо. Отец Киша был отважным охотником и встретил смерть в голодную годину, когда хотел отнять жизнь у большого полярного медведя, чтобы даровать жизнь своим соплеменникам. Один на один он схватился с медведем, и тот переломал ему все кости; но на медведе было много мяса, и это спасло народ. Киш был единственным сыном, и, когда погиб его отец, он стал жить вдвоем с матерью. Но люди быстро все забывают, забыли и о подвиге его отца, а Киш был всего только мальчик, мать его — всего только женщина, и о них тоже забыли, и они жили так, забытые всеми, в самой бедной иглу.
Но как-то вечером в большой иглу вождя Клош-Квана собрался совет, и тогда Киш показал, что в жилах у него горячая кровь, а в сердце — мужество мужчины, и он ни перед кем не станет гнуть спину. С достоинством взрослого он поднялся и ждал, когда наступит тишина и стихнет гул голосов.
— Я скажу правду, — так начал он. — Мне и матери моей дается положенная доля мяса.
Но это мясо часто бывает старое и жесткое, и в нем слишком много костей.
Охотники — и совсем седые, и только начавшие седеть, и те, что были в расцвете лет, и те, что были еще юны, — все разинули рот. Никогда не доводилось им слышать подобных речей. Чтобы ребенок говорил, как взрослый мужчина, и бросал им в лицо дерзкие слова!
Но Киш продолжал твердо и сурово:
-
Мой отец, Бок, был храбрым охотником, вот почему я говорю так. Люди рассказывают, что Бок один приносил больше мяса, чем любые два охотника, даже из самых лучших, что своими руками он делил это мясо и своими глазами следил за тем, чтобы самой древней старухе и самому хилому старику досталась справедливая доля.
-
Вон его! — закричали охотники. — Уберите отсюда этого мальчишку! Уложите его спать. Мал он еще разговаривать с седовласыми мужчинами.
Но Киш спокойно ждал, пока не уляжется волнение.
-
У тебя есть жена, Уг-Глук, — сказал он, — и ты говоришь за нее. А у тебя, Массук, — жена и мать, и за них ты говоришь. У моей матери нет никого, кроме меня, и потому говорю я. И я сказал: Бок погиб потому, что он был храбрым охотником, а теперь я, его сын, и Айкига, мать моя, которая была его женой, должны иметь вдоволь мяса до тех пор, пока есть вдоволь мяса у племени. Я, Киш, сын Бока, сказал.
Он сел, но уши его чутко прислушивались к буре протеста и возмущения, вызванной его словами.
-
Разве мальчишка смеет говорить на совете? — прошамкал старый Уг-Глук.
-
С каких это пор грудные младенцы стали учить нас, мужчин? — зычным голосом
Note1
хижины канадских эскимосов, сложенные из снежных плит
спросил Массук. — Или я уже не мужчина, что любой мальчишка, которому захотелось мяса, может смеяться мне в лицо?
Гнев их кипел ключом. Они приказали Кишу сейчас же идти спать, грозили совсем лишить его мяса, обещали задать ему жестокую порку за дерзкий поступок. Глаза Киша загорелись, кровь забурлила и жарким румянцем прилила к щекам. Осыпаемый бранью, он вскочил с места.
-
Слушайте меня, вы, мужчины! — крикнул он. — Никогда больше не стану я говорить на совете, никогда, прежде чем вы не придете ко мне и не скажете: «Говори, Киш, мы хотим, чтобы ты говорил». Так слушайте же, мужчины, мое последнее слово. Бок, мой отец, был великий охотник. Я, Киш, его сын, тоже буду охотиться и приносить мясо и есть его. И знайте отныне, что дележ моей добычи будет справедлив. И ни одна вдова, ни один беззащитный старик не будут больше плакать ночью оттого, что у них нет мяса, в то время как сильные мужчины стонут от тяжкой боли, ибо съели слишком много. И тогда будет считаться позором, если сильные мужчины станут объедаться мясом! Я, Киш, сказал все.
Насмешками и глумлением проводили они Киша, когда он выходил из иглу, но он стиснул зубы и пошел своей дорогой, не глядя ни вправо, ни влево.
На следующий день он направился вдоль берега, где земля встречается со льдами. Те, кто видел его, заметили, что он взял с собой лук и большой запас стрел с костяными наконечниками, а на плече нес большое охотничье копье своего отца. И много было толков и много смеха по этому поводу. Это было невиданное событие. Никогда не случалось, чтобы мальчик его возраста ходил на охоту, да еще один. Мужчины только покачивали головой да пророчески что-то бормотали, а женщины с сожалением смотрели на Айкигу, лицо которой было строго и печально.
-
Он скоро вернется, — сочувственно говорили женщины.
-
Пусть идет. Это послужит ему хорошим уроком, — говорили охотники. — Он вернется скоро, тихий и покорный, и слова его будут кроткими.
Но прошел день и другой, и на третий поднялась жестокая пурга, а Киша все не было. Айкига рвала на себе волосы и вымазала лицо сажей в знак скорби, а женщины горькими словами корили мужчин за то, что они плохо обошлись с мальчиком и послали его на смерть; мужчины же молчали, готовясь идти на поиски тела, когда утихнет буря.
Однако на следующий день рано утром Киш появился в поселке. Он пришел с гордо поднятой головой. На плече он нес часть туши убитого им зверя. И поступь его стала надменной, а речь звучала дерзко.
-
Вы, мужчины, возьмите собак и нарты и ступайте по моему следу, — сказал он. — За день пути отсюда найдете много мяса на льду — медведицу и двух медвежат.
Айкига была вне себя от радости, он же принял ее восторги, как настоящий мужчина, сказав:
-
Идем, Айкига, надо поесть. А потом я лягу спать, ведь я очень устал. И он вошел в иглу и сытно поел, после чего спал двадцать часов подряд.
Сначала было много сомнений, много сомнений и споров. Выйти на полярного медведя
-
дело опасное, но трижды и три раза трижды опаснее — выйти на медведицу с медвежатами. Мужчины не могли поверить, что мальчик Киш один, совсем один, совершил такой великий подвигн. Но женщины рассказывали о свежем мясе только что убитого зверя, которое принес Киш, и это поколебало их недоверие. И вот, наконец, они отправились в путь, ворча, что если даже Киш и убил зверя, то, верно, он не позаботился освежевать его и разделать тушу. А на Севере это нужно делать сразу, как только зверь убит, — иначе мясо замерзнет так крепко, что его не возьмет даже самый острый нож; а взвалить мороженую тушу в триста фунтов на нарты и везти по неровному льду — дело нелегкое. Но, придя на место, они увидели то, чему не хотели верить: Киш не только убил медведей, но рассек туши на четыре части, как истый охотник, и удалил внутренности.
Так было положено начало тайне Киша. Дни шли за днями, и тайна эта оставалась неразгаданной. Киш снова пошел на охоту и убил молодого, почти взрослого медведя, а в
другой раз — огромного медведя-самца и его самку. Обычно он уходил на три-четыре дня, но бывало, что пропадал среди ледяных просторов и целую неделю. Он никого не хотел брать с собой, и народ только диву давался. «Как он это делает? — спрашивали охотники друг у друга. — Даже собаки не берет с собой, а ведь собака — большая подмога на охоте».
-
Почему ты охотишься только на медведя? — спросил его как-то Клош-Кван. И Киш сумел дать ему надлежащий ответ:
-
Кто же не знает, что только на медведе так много мяса. Но в поселке стали поговаривать о колдовстве.
-
Злые духи охотятся вместе с ним, — утверждали одни. — Поэтому его охота всегда удачна. Чем же иначе можно это объяснить, как не тем, что ему помогают злые духи?
-
Кто знает? А может, это не злые духи, а добрые? — говорили другие.
-
Ведь его отец был великим охотником. Может, он теперь охотится вместе с сыном и учит его терпению, ловкости и отваге. Кто знает!
Так или не так, но Киша не покидала удача, и нередко менее искусным охотникам приходилось доставлять в поселок его добычу. И в дележе он был справедлив. Так же, как и отец его, он следил за тем, чтобы самый хилый старик и самая древняя старуха получали справедливую долю, а себе оставлял ровно столько, сколько нужно для пропитания. И поэтому-то, и еще потому, что он был отважным охотником, на него стали смотреть с уважением и побаиваться его и начали говорить, что он должен стать вождем после смерти старого Клош-Квана. Теперь, когда он прославил себя такими подвигами, все ждали, что он снова появится в совете, но он не приходил, и им было стыдно позвать его.
-
Я хочу построить себе новую иглу, — сказал Киш однажды Клош-Квану и другим охотникам. — Это дожлна быть просторная иглу, чтобы Айкиге и мне было удобно в ней жить.
-
Так, — сказали те, с важностью кивая головой.
-
Но у меня нет на это времени. Мое дело — охота, и она отнимает все мое время. Было бы справедливо и правильно, чтобы мужчины и женщины, которые едят мясо, что я приношу, построили мне иглу.
И они выстроили ему такую большую просторную иглу, что она была больше и просторнее даже жилища самого Клош-Квана. Киш и его мать перебрались туда, и впервые после смерти Бока Айкига стала жить в довольстве. И не только одно довольство окружало Айкигу: она была матерью замечательного охотника, и на нее смотрели теперь, как на первую женщину в поселке, и другие женщины посещали ее, чтобы испросить у нее совета, и ссылались на ее мудрые слова в спорах друг с другом или со своими мужьями.
Но больше всего занимала все умы тайна чудесной охоты Киша. И как-то раз Уг-Глук бросил Кишу в лицо обвинение в колдовстве.
-
Тебя обвиняют, — зловеще сказал Уг-Глук, — в сношениях со злыми духами; вот почему твоя охота удачна.
-
Разве вы едите плохое мясо? — спросил Киш. — Разве кто-нибудь в поселке заболел от него? Откуда ты можешь знать, что тут замешано колдовство? Или ты говоришь наугад — просто потому, что тебя душит зависть?
И Уг-Глук ушел пристыженный, и женщины смеялись ему вслед. Но как-то вечером на совете после долгих споров было решено послать соглядатаев по следу Кишв, когда он снова пойдет на медведя, и узнать его тайну. И вот Киш отправился на охоту, а Бим и Боун, два молодых, лучших в поселке охотника, пошли за ним по пятам, стараясь не попасться ему на глаза. Через пять дней они вернулись, дрожа от нетерпения, — так хотелось им поскорее рассказать то, что они видели. В жилище Клош-Квана был спешно созван совет, и Бим, тараща от изумления глаза, начал свой рассказ.
-
Братья! Как нам было приказано, мы шли по следу Киша. И уж так осторожно мы шли, что он ни разу не заметил нас. В середине первого дня пути он встретился с большим медведем-самцом, и это был очень, очень большой медведь…
-
Больше и не бывает, — перебил Боун и повел рассказ дальше. — Но медведь не хотел
вступать в борьбу, он повернул назад и стал не спеша уходить по льду. Мы смотрели на него со скалы на берегу, а он шел в нашу сторону, и за ним, без всякого страха, шел Киш. И Киш кричал на медведя, осыпал его бранью, размахивал руками и поднимал очень большой шум. И тогда медведь рассердился, встал на задние лапы и зарычал. Киш шел прямо на медведя…
-
Да, да, — подхватил Бим. — Киш шел прямо на медведя, и медведь бросился на него, и Киш побежал. Но когда Киш бежал, он уронил на лед маленький круглый шарик, и медведь остановился, обнюхал этот шарик и проглотил его. А Киш все бежал и все бросал маленькие круглые шарики, а медведь все глотал их.
Тут поднялся крик, и все выразили сомнение, а Уг-Глук прямо заявил, что он не верит этим сказкам.
-
Собственными глазами видели мы это, — убеждал их Бим.
-
Да, да, собственными глазами, — подтвердил и Боун. — И так продолжалось долго, а потом медведь вдруг остановился, завыл от боли и начал, как бешеный, колотить передними лапами о лед. А Киш побежал дальше по льду и стал на безопасном расстоянии. Но медведю было не до Киша, потому что маленькие круглые шарики наделали у него внутри большую беду.
-
Да, большую беду, — перебил Бим. — Медведь царапал себя когтями и прыгал по льду, словно разыгравшийся щенок. Но только он не играл, а рычал и выл от боли, — и всякому было ясно, что это не игра, а боль. Ни разу в жизни я такого не видал.
-
Да, и я не видал, — опять вмешался Боун. — А какой это был огромный медведь!
-
Колдовство, — проронил Уг-Глук.
-
Не знаю, — отвечал Боун. — Я рассказываю только то, что видели мои глаза. Медведь был такой тяжелый и прыгал с такой силой, что скоро устал и ослабел и, тогда он пошел прочь вдоль берега и все мотал головой из стороны в сторону, а потом садился, и рычал, и выл от боли — и снова шел. А Киш тоже шел за медведем, а мы — за Кишем, и так мы шли весь день и еще три дня. Медведь все слабел и выл от боли.
-
Это колдовство! — воскликнул Уг-Глук. — Ясно, что это колдовство!
-
Все может быть.
Но тут Бим опять сменил Боуна:
-
Медведь стал кружить. Он шел то в одну сторону, то в другую, то назад, то вперед, то по кругу и снова и снова пересекал свой след и, наконец, пришел к тому месту, где встретил его Киш. И тут он уже совсем ослабел и не мог даже ползти. И Киш подошел к нему и прикончил его копьем.
-
А потом? — спросил Клош-Кван.
-
Потом Киш принялся освежевать медведя, а мы побежали сюда, чтобы рассказать, как Киш охотится на зверя.
К концу этого дня женщины притащили тушу медведя, в то время как мужчины собирали совет. Когда Киш вернулся, за ним послали гонца, приглашая его прийти тоже, но он велел сказать, что голоден и устал и что его иглу достаточно велика и удобна и может вместить много людей.
И любопытство было так велико, что весь совет во главе с Клош-Кваном поднялся и направился в иглу Киша. Они застали его за едой, но он встретил их с почетом и усадил по старшинству. Айкига то горделиво выпрямлялась, то в смущении опускала глаза, но Киш был совершенно спокоен.
Клош-Кван повторил рассказ Бима и Боуна и, закончив его, произнес строгим голосом:
Киш поднял на него глаза и улыбнулся.
-
Нет, о Клош-Кван! Не дело мальчика заниматься колдовством, и в колдовстве я ничего не смыслю. Я только придумал способ, как можно легко убить полярного медведя, вот и все. Это смекалка, а не колдовство.
-
И каждый сможет сделать это?
-
Каждый.
Наступило долгое молчание.
Мужчины глядели друг на друга, а Киш продолжал есть.
-
И ты… ты расскажешь нам, о Киш? — спросил наконец Клош-Кван дрожащим голосом.
-
Да, я расскажу тебе. — Киш кончил высасывать мозг из кости и поднялся с места. — Это очень просто. Смотри!
Он взял узкую полоску китового уса и показал ее всем. Концы у нее были острые, как иглы. Киш стал осторожно скатывать ус, пока он не исчез у него в руке; тогда он внезапно разжал руку, — и ус сразу распрямился. Затем Киш взял кусок тюленьего жира.
-
Вот так, — сказал он. — Надо взять маленький кусочек тюленьего жира и сделать в нем ямку — вот так. Потом в ямку надо положить китовый ус — вот так, и, хорошенько его свернув, закрыть его сверху другим кусочком жира. Потом это надо выставить на мороз, и когда жир замерзнет, получится маленький круглый шарик. Медведь проглотит шарик, жир растопится, острый китовый ус распрямится — медведю станет больно. А когда медведю станет очень больно, его легко убить копьем. Это совсем просто.
И Уг-Глук воскликнул:
И Клош-Кван сказал:
И каждый сказал по-своему, и все поняли.
Так кончается сказание о Кише, который жил давным-давно у самого Полярного моря. И потому, что Киш действовал смекалкой, а не колдовством, он из самой жалкой иглу поднялся высоко и стал вождем своего племени. И говорят, что, пока он жил, народ благоденствовал и не было ни одной вдовы, ни одного беззащитного старика, которые бы плакали ночью оттого, что у них нет мяса.
Любовь к жизни
Они продвигались по берегу медленно и трудно, и как-то раз тот из двух мужчин, что шел впереди, споткнулся посреди россыпи неровных камней. Оба устали, ослабли, на лицах их застыли гримасы тягостного терпения, нередкие у тех, кому приходится долгое время сносить немалые лишения. Тяжелые тюки из одеял были приторочены ремнями к их плечам. Лоб каждого облегал еще один ремешок, не позволявший тюку перекашиваться. Каждый нес по ружью. Они ступали, ссутулившись, выставив вперед плечи и еще дальше плеч — головы, не отрывая глаз от земли.
Он говорил тусклым, лишенным выражения голосом. Какое-либо воодушевление в нем отсутствовало, и первый мужчина, уже вступивший в покрывавшую камни речного дна молочно-белую пену, ответом его не удостоил.
Второй последовал за первым. Они не стали разуваться, хоть вода и была холодна, как лед, — холодна до того, что у обоих заныли лодыжки и онемели ступни. Кое-где она доходила им до колен, и мужчины пошатывались, нащупывая ногами опору.
Тот, что шел вторым, поскользнулся на гладком голыше и едва не упал, но сумел ценою отчаянного усилия устоять, хоть и вскрикнул от боли. Ему показалось, что он того и гляди лишится сознания, голова у него закружилась, и он, покачиваясь, выставил перед собой свободную руку, словно пытаясь опереться ею о воздух. Когда же дурнота миновала, он шагнул вперед, но покачнулся снова и едва не упал. И замер на месте, глядя на своего спутника, так и не обернувшегося ни разу.
Он простоял целую минуту, словно обсуждая что-то с собой. А потом крикнул:
Но Билл продолжал брести по молочной воде. Он не оглянулся. Второй мужчина смотрел в спину Билла и, хоть лицо его оставалось таким же невыразительным, как прежде, глаза приобрели сходство с глазами испуганного оленя.
Билл, доковыляв до дальнего берега, поплелся, не оглядываясь, дальше. Замерший посреди речушки мужчина, вглядывался в него. Губы мужчины дрожали, шевеля покрывавшую их густую каштановую поросль. Он даже высунул язык, чтобы облизать их.
-
Билл! — крикнул он. То был молящий крик попавшего в беду сильного мужчины, однако Билл не повернул на него головы. Спутник Билла смотрел, как тот, нелепо покачиваясь и кренясь вперед, шаркающей походкой поднимается по пологому склону холма к тусклому небу. Смотрел, пока Билл не перевалил через гребень холма и не скрылся из глаз. А затем медленно обвел взглядом мир, оставшийся у него теперь, после ухода товарища.
Над горизонтом смутно теплилось солнце, почти закрытое бесформенной дымкой и испарениями, которые казались грузными и плотными, хоть и лишены были осязаемости и очертаний. Мужчина, постаравшись перенести весь свой вес на одну ногу, вытащил часы. Четыре, а поскольку сейчас был конец июля или самое начало августа — представление о точной дате утратилось уже неделю, если не две, назад, — он знал, что солнце висит примерно на северо-западе. Он оглянулся на юг, где-то там лежало за унылыми холмами Большое Медвежье озеро; и еще он знал, что в той же стороне прорезает на своем страшном пути канадские пустоши Полярный круг. Речушка, в которой он стоял, впадала в реку Коппермайн, а та текла на север и своим чередом впадала в залив Коронации, в Ледовитый океан. Он никогда в тех местах не бывал, но однажды видел их на карте «Компании Гудзонова залива». Он снова обвел взглядом окружавший его мир. Сердца то, что он увидел, не согревало.
Мягкая, волнистая линия горизонта. Низкие холмы. Ни деревьев, ни зарослей, ни травы — ничего, лишь огромное, страшное запустение, быстро наполнявшее его страхом.
Он присел посреди белой воды — так, точно огромная ширь наваливалась ему на плечи с неодолимой силой, норовя придавить его своей самодовольной жутью. И затрясся, точно
малярийный больной, да так, что ружье вывалилось из его руки и, плеснув, скрылось под водой. Это словно пробудило его от кошмара. Он справился со страхом, взял себя в руки и, пошарив по дну, нашел свое оружие. Затем сдвинул тюк поближе к левому плечу, чтобы снять хотя бы часть груза с поврежденной ноги. И, морщась от боли, пошел, медленно и осторожно, к берегу.
Он не останавливался. С отчаянием, переходившим в безумие, забыв о боли, он поднялся на гребень, за которым скрылся его товарищ, — теперь он выглядел со стороны даже более нелепо и комично, чем, хромавший, передвигавшийся рывками Билл. Однако за гребнем ему открылась только неглубокая ложбина, лишенная каких-либо признаков жизни. Пришлось снова побороться со страхом и, одолев его, он сдвинул тюк еще дальше влево и начал спускаться с холма.
Ложбина оказалась заболоченной, с выступавшим из воды плотным, смахивавшим на губку мхом. При каждом шаге из-под ступни его выбивались струйки воды, и всякий раз, как он поднимал ногу, слышалось чавканье, и казалось, что мох отпускает ее с большой неохотой. Он шел по оставленным Биллом следам от одной бочаги болотной воды к другой, огибая и переходя плоские камни, островками поднимавшиеся из моря мха.
Он был один, но с пути не сбился. Он знал, что, в конце концов, выйдет туда, где маленькие, иссохшие пихты и ели стоят на берегу озерца «Титчин-Ничили», что на языке этих краев означает «место, где растут короткие палки». А в озеро это впадает ручей с чистой, совсем не молочной водой. В ручье растет камыш — это он хорошо запомнил — однако деревьев там нет, и он пойдет вдоль ручья, пока тот не разделится надвое. От развилки течет на запад другой ручей, он пойдет вдоль него до самой реки Диз, и там найдет перевернутый, заваленный камнями челнок, а под ним — тайник. В тайнике отыщутся и патроны для его незаряженного ружья, и рыболовные крючки, и леска, и маленькая сетка — все, что требуется для охоты, для сооружения ловушек, позволяющих добывать пропитание. Найдется там и мука, — правда, немного, — и кусок копченой грудинки, и горстка бобов.
Там его будет ждать Билл, и они спустятся на веслах по Дизу к Большому Медвежьему озеру. И поплывут по нему на юг, все время на юг, пока не достигнут реки Маккензи. А по ней опять поплывут на юг, только на юг, уходя от зимы, которая будет попусту гнаться за ними, и реку начнет затягивать льдом, а дни будут становиться все холоднее и резче, и там, на юге, их будет ждать теплая фактория «Компании Гудзонова залива» с множеством высоких деревьев вокруг и целой кучей еды.
Так думал, с трудом ковыляя вперед, этот человек. И так же, как напрягал он свои телесные силы, так напрягал он и разум, стараясь уверить себя, что Билл, конечно же, не бросил его, что он будет ждать у тайника. Ему просто необходимо было думать именно так, иначе не было смысла выбиваться из сил, а следовало просто лечь и умереть. И пока тусклый шар солнца медленно опускался на северо-западе, он проделывал, и не раз, каждый шаг пути, по которому они с Биллом станут уходить на юг от преследующей их зимы. И мысленно перебирал и перебирал еду, которую найдет в тайнике, и ту, что получит в фактории. Он не ел вот уж два дня, и еще более долгое время не ел досыта. Время от времени он нагибался и срывал блеклые болотные ягоды, отправлял их в рот, прожевывал, глотал. Болотная ягода это просто семечко в капле воды. Вода во рту сразу тает, а семечко колкое, жесткое. Он знал, что ягоды — не еда, но терпеливо жевал их, поскольку надежда выше и знания, и опыта, который она попросту отрицает.
В девять часов вечера он зашиб о камень большой палец ноги, и упал — от одной только слабости и усталости — на землю. И какое-то время пролежал на боку. Потом вывернулся из наплечных лямок, с трудом сел. Еще не стемнело и в медливших сумерках он пошарил среди камней, отыскивая клочья сухого мха. А, набрав небольшую кучку его, разжег костер — еле тлевший, дымный — и поставил на огонь жестяной котелок, чтобы вскипятить воду.
Потом он развернул тюк и первым делом пересчитал оставшиеся у него спички. Их оказалось шестьдесят семь. Для верности он пересчитал их три раза. Потом разделил на три части, завернул каждую в вощеную бумагу и уложил один пакетик в пустой табачный кисет,
другой сунул за околыш своей потрепанной шапки, а третий спрятал на груди, под рубашкой. Но стоило ему покончить с этим, как на него напал страх, и он развернул и снова пересчитал спички. Их по-прежнему было шестьдесят семь.
Он просушил у огня мокрую обувь. От мокасин только и осталось, что мокрые лохмотья. Сшитые из одеяла носки в нескольких местах продрались, ноги стерлись до крови, болели. Боль пульсировала и в лодыжке — и он осмотрел ее. Лодыжка распухла так, что уже не отличалась толщиной от колена. Он отодрал от одного из двух своих одеял длинные полоски и туго обмотал ими лодыжку. А после оторвал еще несколько и обмотал ступни — хоть какая-то замена носкам и мокасинам. Потом выпил из котелка всю ставшую уже горячей воду, завел часы и улегся на одно из одеял, накрывшись другим.
Спал он как убитый. Около полуночи пришла ненадолго и ушла темнота. На северо-востоке встало солнце — по крайней мере, там забрезжил день, само солнце закрывали серые тучи.
В шесть он проснулся, полежал, не шевелясь, на спине. Смотрел в серое небо и думал о том, как ему хочется есть. Поворачиваясь на бок, он испуганно вздрогнул, потому что неподалеку кто-то фыркнул, — и увидел северного оленя, который с настороженным любопытством вглядывался в него. До животного было футов пятнадцать, и в голове человека сразу же нарисовалась картина — шипящий, поджаренный на огне кусок оленины, — а во рту появился даже и вкус. Он машинально потянулся к незаряженному ружью, прицелился, нажал на курок. Олень всхрапнул и пустился наутек, постукивая копытами по камням, попадавшимся ему по пути.
Мужчина выругался, отбросил пустое ружье. Затем, громко постанывая, начал подниматься на ноги. Дело это оказалось трудным и долгим. Суставы обратились за ночь в ржавые дверные петли. Кости в них терлись одна о другую едва ли не со скрипом, согнуть и разогнуть каждый удавалось лишь ожесточенным напряжением воли. Когда он, наконец, поднялся, ему потребовалась еще минута, если не больше, чтобы разогнуться и встать прямо, как подобает стоять мужчине.
Кое-как вскарабкался он на небольшой пригорок, вгляделся в окрестный пейзаж. Ни деревьев, ни кустов, ничего, лишь серое море мха, кое-где оживляемое серыми же камнями, серыми озерцами и серыми ручьями. И небо тоже было серым. Ни солнца, ни даже намека на солнце. Где тут север, он теперь никакого понятия не имел, потому что забыл, с какой стороны пришел вчера на это место. Но он не заблудился. В этом он был уверен. Скоро он доберется до
«места, где растут короткие палки». Он чувствовал, озерцо это лежит где-то рядом, слева от него — быть может, даже за ближайшим невысоким холмом.
Он вернулся на место ночевки, чтобы увязать в дорогу тюк. Проверил, целы ли три пакетика со спичками, хотя пересчитывать их не стал. Зато помедлил, задумавшись, над туго набитым мешочком из лосиной кожи. Мешочек был невелик. Его ничего не стоило укрыть между двух ладоней. Вот только весил мешочек пятнадцать фунтов — столько же, сколько вся остальная поклажа, — и это мужчину тревожило. В конце концов, он отложил мешочек в сторону и снова начал скатывать одеяла. Потом остановился, глянул еще раз на мешочек. И схватил его, торопливо, вызывающе поглядывая по сторонам, как будто окрестное запустение норовило отнять его сокровище. И, когда он снова встал, чтобы выступить в дневной путь, сокровище уже лежало внутри тюка.
Он взял налево и пошел, время от времени останавливаясь, чтобы сорвать болотные ягоды. Лодыжка одеревенела, хромал он теперь сильнее, однако боль в ней была ничем в сравнении с болью в желудке. Голод рвал его острыми когтями. Они впивались и впивались в желудок, пока путник не утратил способность думать о направлении, в котором следует двигаться, чтобы добраться до «места коротких палок». От ягод эти когти не становились слабее, ягоды лишь разъедали язык и нёбо.
Он наткнулся на ложбину, в которой с камней и болотных кочек стали вспархивать куропатки. «Кер-кер-кер» — так они кричали. Мужчина бросался в них камнями, но ни в одну не попал. Тогда он опустил тюк на землю и пополз к ним, как подползает к воробьям кошка.
Острые камни раздирали его штаны и вскоре от колен потянулся по земле кровавый след, но боль, ломившая их, тонула в голодной боли. Он полз, извиваясь, по мокрому мху, одежда его намокла, тело пробирала студеная дрожь, однако он этого не сознавал, так велика была его жажда добыть пропитание. И всякий раз новая куропатка вспархивала, свистя крыльями, пока их «кер-кер-кер» не стало казаться ему насмешкой, и тогда он принялся осыпать их бранью, добавляя к их крикам свои.
Один раз ему удалось подобраться к куропатке, которая, должно быть, спала. Он не видел ее, пока птица не выскочила прямо перед его носом из укрытия в камнях. Испугавшись не меньше, чем сама куропатка, он попытался схватить ее, но в пальцах его остались лишь три хвостовых пера. Он смотрел, как она улетает, ненавидя ее всей душой, — так, точно она причинила ему страшный вред. А потом вернулся назад и взвалил на спину тюк.
День тянулся, и ему попадались ложбины или топи, на которых дичь водилась во множестве. Стадо оленей прошло мимо него, двадцать с чем-то животных, прошло мучительно близко — только стреляй. Его обуяло дикое желание побежать за ними, он не сомневался, что смог бы нагнать их. Один раз навстречу ему попалась куница с куропаткой в зубах. Мужчина закричал. Крик его был страшен, однако куница, испуганно прянув в сторону, куропатку не бросила.
Уже под вечер он шел вдоль белого от известняка ручья, вилявшего среди разрозненных пучков камыша. Ухватив камышину поближе к земле, он выдернул что-то вроде маленькой луковки, размером не больше гвоздя, каким прибивают дранку. Плоть луковицы была нежна, зубы впивались в нее с хрустом, обещавшим упоительный вкус. Но волокна ее оказались жесткими. Да и вся она состояла из жилок, пропитанных водой, а насыщала не больше, чем болотные ягоды.
Он страшно устал, его то и дело охватывало желание отдохнуть — лечь, заснуть, — однако он шел и шел вперед, движимый не столько желанием увидеть «место коротких палок», сколько голодом. Он искал в бочажках лягушек, рыл пальцами землю, отыскивая червей, хоть и знал, что ни лягушки, ни черви так далеко севере не встречаются.
Он заглядывал в каждый бочажок, пока не увидел в одном — уже при наступлении долгих сумерек — рыбешку величиной с пескаря. Мужчина по плечо окунул в воду руку, однако рыбешка ускользала от его пальцев. Он окунул и вторую и взбаламутил белый донный ил. От волнения он оступился, повалился в воду и вымок по пояс. Вода стала слишком мутной, чтобы он мог различить рыбешку, пришлось ждать, пока не осядет ил.
Затем охота возобновилась и вода помутнела снова. Но ждать он уже не мог. Он отвязал от тюка жестяной котелок и стал вычерпывать воду. Поначалу он торопился, обрызгивая себя и выплескивая воду так близко от бочажка, что она стекала обратно. Тогда он стал работать помедленнее, стараясь успокоиться, хоть сердце его колотилось, а руки дрожали. Через полчаса воды в бочажке почти не осталось. Даже чашку наполнить не хватило бы. Но и рыбешки там не было тоже. Он отыскал трещину в камне, через которую рыбешка ускользнула в соседнюю бочагу, куда большую, — чтобы осушить ее, и ночи с днем не хватило бы. Знай он об этой трещине раньше, он с самого начала заложил бы ее камнем и теперь рыба была бы в его руках.
Думая об этом, он отошел из бочажка и сел на мокрую землю. Поначалу он плакал тихо, затем закричал в обступавшую его безжалостную пустоту, и еще долго после этого его сотрясали сухие рыдания.
Он развел костер, согрелся, выпив вдосталь горячей воды, устроил себе лежанку на плоском камне, такую же, как в прошлую ночь. Последнее, что он сделал, — проверил, не намокли ли спички, и завел часы. Одеяла были влажны и холодны. В лодыжке стреляла боль. Но он сознавал только голод и в беспокойном сне ему всю ночь являлись пиры и банкеты, еда, подаваемая и расставляемая по столам всеми вообразимыми способами.
Он проснулся прозябшим, больным. Солнца видно не было. Серые краски земли и неба сгустились, приобрели еще большую глубину. Дул резкий ветер, первые снег обелил верхушки приземистых холмов. Пока он разводил костер и подогревал воду, воздух сгустился
и побелел. Пошел мокрый снег вперемешку с дождем — большие, влажные хлопья повалили на землю. Поначалу они таяли, едва соприкоснувшись с землей, однако их набиралось все больше и скоро они покрыли землю, загасив костер, попортив запас сухого растопочного мха. Для него это стало сигналом — увязать тюк и ковылять дальше, хоть он и не знал куда.
Его уже не волновали ни «место коротких палок», ни Билл, ни тайник под перевернутым челноком на берегу Диза. Им правил глагол «есть». Он почти обезумел от голода и уже не обращал внимания на то, в какую сторону движется, просто шел по дну болотистых ложбин. Почти наощупь подбирался он сквозь мокрый снег к болотным ягодам, одним только чутьем находил и выдергивал с корнем камышины. Однако все это было безвкусным и голода не утоляло. Однажды ему попалось растение кисловатое на вкус, и он съел его столько, сколько смог найти — не много, потому что растение было ползучим и несколько дюймов снега с легкостью укрывали его от глаз.
В эту ночь пришлось обойтись без костра и без горячей воды, он просто заполз под одеяло и заснул прерывистым сном. Снегопад обратился в холодный дождь. Ночью он не один раз просыпался, ощущая, как этот дождь падает на его обращенное к небу лицо. Наступил день — серый, бессолнечный. Дождь прекратился. Острое чувство голода притупилось. Неодолимая потребность в еде исчерпала себя. В желудке поселилась тупая, тяжелая боль, но это его не тревожило. В голове у него прояснилось, и главной его целью снова стали «место коротких палок» и тайник у реки Диз.
Он разорвал то, что осталось от одного из одеял, на полоски, обмотал ими кровоточащие ступни. Потом заново перевязал поврежденную лодыжку и изготовился к дневному пути. Подойдя к тюку, он постоял, глядя на мешочек лосиной кожи, но, в конце концов, все же взял его с собой.
Дождь уже растопил почти весь снег, белыми остались только верхушки холмов. Показалось солнце, и он смог определиться по странам света, хоть и понимал уже, что сбился с дороги. Скорее всего, в предыдущие дни он, бесцельно блуждая, слишком сильно взял влево. Теперь он двинулся вправо, чтобы вернуться на правильный путь.
Голод терзал его уже не так яростно, однако он понимал, что сильно ослаб. Ему приходилось, когда он нападал на болотные ягоды или камыш, все чаще отдыхать. Язык стал сухим, распух, и словно порос тонким волосом, во рту поселилась горечь. Но особенно беспокоило его сердце. Стоило провести в движении несколько минут, как оно начинало бухать, а затем словно метаться из стороны сторону или болезненно подскакивать вверх, к горлу, душа его до головокружения, едва ли не до обморока.
Около полудня он наткнулся на большую бочагу с двумя пескарями. Вычерпать всю воду нечего было и думать, однако теперь он был поспокойнее и ухитрился изловить их жестяным котелком. Рыбешки были не длиннее мизинца, но, с другой стороны, и особого голода он уже не испытывал. Тупая боль в животе становилась все тупее, слабела. Казалось, желудок понемногу задремывал. Он съел пескарей сырыми, пережевывая их старательно и кропотливо, ибо потребление пищи обратилось в акт чистого разума. Есть ему не хотелось, однако он знал — надо, иначе не выживешь.
Вечером он поймал еще трех пескарей — двух съел, а третьего оставил на завтрак. Солнце подсушило скудные клочья мха и это позволило согреть воду. Он прошел в этот день не больше десяти миль, а в следующий, трогаясь в путь, когда на это давало согласие сердце
-
не больше пяти. Зато желудок совсем перестал донимать его. Заснул. Теперь он забрел в места и вовсе ему не знакомые — оленей вокруг становилось все больше, а с ними и больше волков. Он часто слышал их вой, долетавший из пустоты, а один раз даже увидел троих, перебежавших, припадая к земле, ему дорогу.
Еще одна ночь; к утру он пришел в себя настолько, что развязал стягивавший кожаный мешочек ремешок. Из устья мешочка потекла желтая струйка грубого золотого песка, смешанного с самородками. Он разделил золото примерно пополам, завернул одну половину в клок одеяла и уложил на заметный издали камень, а другую вернул внутрь тюка. Теперь он начал отдирать полоски, которыми обматывал ноги, и от последнего одеяла. Ружья он пока не
бросил, потому что в тайнике у реки Диз его ждали патроны. В этот день, туманный, в нем снова проснулся голод. Слабость одолевала его, а время от времени нападало головокружение, от которого он почти слеп. Теперь он нередко оступался и падал и однажды, споткнувшись, попал лицом прямо в гнездо куропатки с четырьмя только-только, от силы день назад, вылупившимися птенцами — крохами трепещущей жизни, которыми и рот-то набить было нельзя. Он с жадностью съел их, засовывая живыми в рот, птенцы хрустели на его зубах, как яичная скорлупа. Мать-куропатка летала над ним, громко крича. Размахивая, точно дубинкой, ружьем, он попытался сшибить ее, но она отлетела в сторону. Тогда он стал бросать в нее камни и один из них перебил ей крыло. Упав на землю, куропатка побежала, волоча крыло по земле, а он устремился следом за ней.
Съеденные им птенцы лишь распалили его аппетит. Он попрыгивал, неуклюже припадая на поврежденную ногу, бросал камни, и время от времени хрипло вскрикивал, а иногда продвигался молча, падая и поднимаясь, ожесточенно и терпеливо, протирая, когда головокружение одолевало его, ладонью глаза.
Эта погоня привела его на дно заболоченной ложбины и там он увидел в мокром мху отпечатки ног. Не его — это он понял сразу. Должно быть, Билла. Но останавливаться он не стал — куропатка бежала, не сбавляя шага. Сначала нужно поймать ее, а потом он вернется сюда и попытается понять что тут к чему со следами.
В конце концов, он изнурил куропатку, однако изнурился и сам. Она лежала, запышливо дыша, на боку. И он, запышливо дыша, тоже лежал на боку — футах в десяти от куропатки, не способный даже подползти к ней поближе. А когда он набрался сил, набралась их и она и успела упорхнуть, едва он приблизился и протянул к ней голодную руку. Погоня возобновилась. Потом ночь опустилась на землю, и куропатка пропала из виду. Совсем ослабевший, он споткнулся и, рухнув ничком на землю, рассек щеку. Придавленный тюком, он пролежал, не шевелясь, долгое время; потом перекатился на бок, завел часы, да так и остался лежать до утра.
Еще один день тумана. От последнего одеяла осталась лишь половина, остальное ушло на обмотки для ног. След Билла он найти не сумел. Да это и не имело значения. Им снова правил голод, — хотя — хотя теперь он гадал, не заблудился ли и Билл тоже. К полудню тяжесть тюка стала непереносимой. Он снова разделил золото пополам, на этот раз просто высыпав половину на землю. А к вечеру выбросил и вторую и теперь у него осталась только половинка одеяла, котелок и ружье.
Его начали одолевать навязчивые мысли. Он вдруг поверил, что у него все еще есть один патрон. Сидит себе в магазине ружья, он его просто-напросто проглядел. С другой-то стороны, он же знал, что в магазине пусто. Однако мысль эта не уходила. Он часами гнал ее от себя, а потом переломил ружье и увидел пустой магазин. И его охватило горькое разочарование — словно он и вправду рассчитывал обнаружить патрон.
Он проковылял еще с полчаса, когда та же навязчивая мысль снова вернулась к нему. Он снова гнал ее, однако мысль упорствовала, пока он — лишь для того, чтобы избавиться от нее, не переломил ружье еще раз. По временам сознание его убредало куда-то далеко-далеко и пока он, обратившись в автомат, плелся вперед, странные образы, прихотливые фантазии прогрызали, точно черви, ходы в его мозгу. Однако эти отступления от действительности продолжались недолго — впивавшиеся в желудок когти голода неизменно возвращали его в подлинный мир. После одного такого возвращения он резко отпрянул назад, ибо увидел нечто настолько странное, что едва не лишился сознания. Он покачивался и подрагивал, точно пьяный, пытающийся удержаться от падения наземь. Перед ним стояла лошадь. Лошадь! Он никак не мог поверить своим глазам. Их застилал густой туман, пробиваемый точками переливчатого света. Он с силой протер глаза, чтобы согнать с них пелену, и увидел не лошадь, но большого бурого медведя. Животное это тоже вглядывалось в него с воинственной любознательностью.
Он успел наполовину стянуть с плеча ружье, и только тогда понял, что оно бесполезно. Опустив ружье на землю, он вытянул из шитых бисером набедренных ножен охотничий нож.
Перед ним стояло мясо, жизнь. Он провел большим пальцем по лезвию ножа. Острое. И кончик острый. Можно броситься на медведя и убить его. Но тут предостерегающе забухало сердце. А следом оно буйно рванулось вверх, отбивая барабанную дробь, и тут же словно железный обруч сдавил ему лоб и закружилась голова.
Отчаянную храбрость его смыло огромной волной страха. Он ослаб, и что будет, если зверь нападет на него? Он выпрямился, постаравшись принять позу, сколь возможно внушительную, и замер, сжимая нож, не сводя глаз с медведя. Тот вперевалку сделал пару шагов вперед, поднялся на дыбы и заревел, но словно бы на пробу. Если человек побежит, он погонится за ним, — но человек не побежал. Теперь им владела храбрость, рожденная ужасом. И он заревел тоже — свирепо, страшно, давая выход страху, который неотъемлем от жизни и обычно лежит, затаясь, обвивая глубинные ее корни.
Медведь отшагнул вбок, продолжая угрожающе порыкивать, его и самого испугало странное существо, стоявшее, распрямившись и ничего не боясь. Человек не шелохнулся. Он так и стоял, точно изваяние, пока опасность не миновала, и только тогда позволил себе задрожать и осесть на влажный мох.
Потом он собрался с силами и тронулся в путь, но теперь им владел новый страх. Страх не перед медленной смертью от голода, но перед смертью насильственной, которая уничтожит его раньше, чем голод и усталость прикончат последние крохи упорства, которое понуждает его жить. Его окружали волки. Их вой приплывал из разных концов пустыни, сплетая сам воздух в ткань угрозы, осязаемой настолько, что порой он ловил себя на попытках оттолкнуть ее руками, точно вдавленную ветром внутрь стену палатки.
Снова и снова волки, то по двое, то по трое, пересекали его путь. Впрочем, к нему они не приближались. Они были слишком малы числом, да и охотились на оленей, которые за жизнь не сражаются, а эта странная двуногая тварь, глядишь, еще пустит в ход когти и зубы.
Как-то под вечер он наткнулся на кости, разбросанные там, где волки убили свою добычу. То были останки олененка, который лишь час назад еще мычал и бегал, живее живого. Он вглядывался в обглоданные дочиста кости, розоватые от еще теплившейся в их клетках жизни. Быть может, к концу этого дня и от него останется немногим большее! Такова жизнь, а? Суетливая и скоротечная. Ведь только жизнь и рождает страдания. Мертвому не больно. Умереть — уснуть. Остановка, покой. Так почему же он умирать не согласен?
Впрочем, нравственным рассуждениям он предавался не долго. Скоро он уже сидел на корточках, с костью во рту, высасывая призрачно розовевшие в ней остатки жизни. Сладкий вкус мяса, еле приметный, ускользающий, сводил его с ума. Он стискивал, вгрызаясь в кость, челюсти. Иногда с хрустом ломалась она, иногда его зуб. Потом он стал разбивать кости камнями, обращая их в подобье мезги и глотая ее. В спешке он разбивал и собственные пальцы, и все-таки улучил момент, чтобы удивиться тому, что пальцам, когда они попадают под рушащийся сверху камень не так уж и больно.
Потом наступили страшные дни дождя и снега. Он уже не помнил, как останавливался на ночь, как снова пускался в путь. Теперь он шел — ночью не меньше, чем днем, — отдыхая там, где падал, и выходя в дорогу, когда жизнь, угасавшая в нем, вдруг вспыхивала и разгоралась чуть ярче. Он больше не боролся, как борется человек. Его вела таившаяся в нем жизнь, которая просто не желала умирать. И никаких страданий он не ощущал. Нервы его отупели, оцепенели, а разум наполнили причудливые видения и упоительные грезы.
И он все еще жевал и посасывал раздробленные кости олененка, последние остатки которых собрал в тот вечер и взял с собой. Теперь он уже не переваливал через холмы, не пересекал водоразделы, но машинально следовал за большим ручьем, который тек по широкой, мелкой долине. Ни ручья, ни долины он не видел. Ничего, кроме являвшихся ему видений. Тело его и душа шли или ползли бок о бок, но все же раздельно, соединенные лишь тоненькой нитью.
Как-то раз он проснулся в полном сознании и обнаружил, что лежит навзничь на плоском камне. Ярко светило солнце, воздух был тепл. Где-то вдалеке мычали оленята. Он смутно помнил ветер, дождь, снег, но сколько времени трепала его непогода — две недели или
два дня — этого он не знал.
Какое-то время он пролежал без движения; ласковый солнечный свет лился сверху, наполняя его тело теплом. Хороший день, думал он. Глядишь, и удастся определиться с направлением. Сделав натужное усилие, он перекатился на бок. Внизу под ним текла широкая, неторопливая река. Совсем незнакомая, и это его озадачило. Он медленно прошелся взглядом по ее широким излукам, лежавшим между унылых, голых холмов, куда более унылых, голых и низких, чем все, какие ему пока что встречались. С намеренной неторопливостью, без волнения или чего-то большего, чем бесстрастный интерес, он проследил русло этой странной реки почти до горизонта, и увидел, как она впадает в ярко сверкающее море. Но никакого волнения так и не ощутил. Очень странно, думал он, — галлюцинация или мираж, скорее всего, галлюцинация, причуда расстроенного сознания. И мысль эта нашла подтверждение в судне, стоявшем на якоре посреди сияющего моря. Он ненадолго закрыл глаза, потом открыл. Удивительно, до чего устойчивыми бывают порой галлюцинации! Хотя что же тут удивительного? Он знал, что в глубине этой голой земли нет ни морей, ни судов, но ведь знал же, что и патрона в его пустом ружье нет тоже.
За спиной его послышалось какое-то сипение — не то полупридушенный вздох, не то кашель. Очень медленно, превозмогая усталость, он поворотил свое онемевшее тело на другой бок. Вблизи от себя он ничего не увидел и потому стал терпеливо ждать. Снова сипение и кашель, и теперь он различил футах в двадцати от себя, между двумя зазубристыми камнями, серую голову волка. Заостренные уши зверя стояли не так прямо, как у других виденных им волков, глаза были мутны, налиты кровью, голова свисала уныло и вяло. Волк то и дело помаргивал от яркого света. Похоже, он был болен. И пока человек глядел на него, волк все посапывал и кашлял.
Что же, волк, по крайней мере, настоящий, подумал он и повернулся на другой бок, чтобы увидеть подлинный мир, который до сих пор заслоняла от него галлюцинация. Однако море так и блистало вдали и судно оставалось ясно различимым. Выходит, все это настоящее? Он надолго закрыл глаза, размышляя, и, наконец, сообразил, в чем дело. Он шел на северо-восток, удаляясь от Диза и оказался в долине реки Коппермайн. Широкая медлительная река внизу и есть Коппермайн, сверкающее море — Ледовитый океан, а судно
-
китобой, стоящий много, много восточнее Маккензи, в заливе Коронации. Он припомнил карту, когда-то давно виденную им в «Компании Гудзонова залива», и понял все окончательно Он сел и занялся насущными делами. Полоски, которые он отрывал от одеяла, измахрились окончательно и ступни его обратились в шматки сырого мяса. От последнего одеяла ничего не осталось. Ружье и нож исчезли. Он потерял где-то и шапку со спрятанными в ней спичками, однако те, что хранились на груди, уцелели и остались, надежно укрытые кисетом и вощанкой, сухими. Он посмотрел на часы. Часы показывали одиннадцать и все еще
шли. Видимо, заводить их он не забывал.
Он был сейчас спокоен и собран. И несмотря на крайнюю усталость, никакой боли не чувствовал. Да и голода тоже. Мысль о еде даже не вызывала у него ни одного приятного ощущения и то, что он делал, делалось только по велению разума. Он по колено оборвал штанины и обвязал ими ступни. Как это ни удивительно, котелок ему удалось сохранить. Значит, можно будет нагреть воду, прежде чем он выступит в путь к судну — путь, предвидел он, до жути нелегкий.
Все движения его были замедленными. К тому же, его еще и трясло, точно паралитика. Приступив к сбору сухого мха, он обнаружил, что встать не может. Попробовал раз, потом другой, и удовольствовался тем, что начал переползать с места на место на четвереньках. Так он оказался неподалеку от больного волка. Зверь неохотно отполз в сторонку, облизнулся — языком, похоже, лишившимся способности загибаться. Человек заметил, что язык этот утратил обычный для него здоровый красный цвет. Язык был желтовато-бурым, покрытым коркой наполовину засохшей слизи.
Выпив около кварты горячей воды, человек почувствовал, что сможет подняться на ноги, сможет даже идти, но, правда, так, как, наверное, ходят люди, которым предстоит
вот-вот умереть. Каждую минуту, примерно, ему приходилось останавливаться, чтобы передохнуть. Поступь его была слабой, неверной, как у волка, который плелся теперь вслед за ним. И человек понимал, что когда блистающее море укроет ночная тьма, расстояние до него сократится не больше, чем на четыре мили.
Всю ночь он слышал кашель хворого волка, а время от времени — мычание оленят. Вокруг него бурлила жизнь, но жизнь сильная, здоровая, и он понимал, что занемогший волк увязался за изнемогающим человеком в надежде, что тот умрет первым. Открыв утром глаза, человек увидел направленный на него тоскливый, голодный взгляд волка. Волк стоял, пригнув голову и поджав хвост, похожий на несчастного, изнуренного пса. Он дрожал под холодным утренним ветром и, когда человек заговорил с ним — голосом, звучавшим не громче хриплого шепота, — лишь удрученно осклабился.
Встало яркое солнце. Все утро человек ковылял, временами падая, в направлении корабля и блистающего моря. Погода стояла чудесная — короткое бабье лето высоких широт. Она могла продержаться неделю. А могла и закончиться завтра-послезавтра.
К полудню он наткнулся на след. След человека, который, правда, не шел, а полз на четвереньках. Он подумал, что человеком этим мог быть Билл, но подумал как-то тускло, без интереса. Любознательность покинула его. Как, собственно, и способность что-либо чувствовать, и эмоции. Голода он больше не ощущал. Желудок и нервы угомонились, уснули. Его гнала вперед жизнь — та, что еще теплилась в нем. Сил у него почти не осталось, но умирать он отказывался. Этот отказ и заставлял его поедать болотные ягоды и пескарей, пить горячую воду и не спускать глаз с больного волка.
Он пошел по следу того, кто полз здесь на четвереньках, но след скоро оборвался — проплешиной мокрого мха с несколькими совсем недавно обглоданными костями и россыпью волчьих следов на ней. Он увидел надорванный острыми зубами мешочек из лосиной кожи, точно такой же, какой был у него. И поднял его со мха, хоть вес мешочка и оказался почти непосильным для его ослабевших пальцев. Билл волок на себе золото до последнего. Ха-ха! Он еще посмеется над Биллом. Он выживет и оттащит мешочек на корабль — на тот, что стоит в сверкающем море. Смех человека был хрипл и страшен, как карканье ворона, и больной волк начал вторить ему траурным воем. Но тут человек одернул себя и смолк. Как мог он смеяться над Биллом, если это был Билл, если эти кости, такие розово-белые и чистые, принадлежали Биллу?
Он отвернулся. Что же, Билл бросил его, однако он не заберет его золото и кости Билла обсасывать тоже не станет. Хотя Билл, поменяйся он с ним местами, именно это и сделал бы, — думал он, влачась дальше.
Потом он набрел на бочагу. Пригнувшись к воде, чтобы поискать пескарей, он отшатнулся, словно ужаленный. Он увидел отражение своего лица, настолько страшное, что оно пробудило в нем способность чувствовать — на время, достаточное для того, чтобы ужаснуться. В бочаге плавали три пескаря, однако вычерпывать ее нечего было и думать — слишком велика, и после нескольких неудачных попыток изловить пескарей котелком он сдался, боясь свалиться от слабости в воду и захлебнуться. Собственно, по этой же причине он не решался и спуститься к реке, и поплыть по ней вниз, оседлав одно из бревен, которыми были покрыты ее песчаные отмели.
В этот день он сократил расстояние, отделявшее его от судна, на три мили; в следующий
-
на две, ибо теперь он полз, уподобившись Биллу, на четвереньках. К концу пятого дня до судна оставалось еще семь миль, а он уже не мог проползти за день и милю. Но бабье лето держалось, и человек продолжал ползти и впадать в забытье, ползти и впадать в забытье, и больной волк, отдуваясь и кашляя, тащился за ним. Колени человека обратились, как и ступни, в голое мясо и, хоть он обмотал их тканью, которую оторвал от спины своей рубашки, они оставляли на мху и камнях кровавый след. Один раз, оглянувшись, он увидел, как оголодавший волк жадно вылизывает этот след, и отчетливо понял, каким может стать его конец, — если… если он не сумеет расправиться с волком. Так началась самая мрачная из когда-либо разыгранных трагедий бытия: больной человек полз и полз, больной волк ковылял
за ним — два живых существа влачили свои умирающие тела по пустыне, и каждый жаждал отнять у другого жизнь.
Будь этот волк здоровым, происходившее не так удручало бы человека, но мысль о том, что он попадет на прокорм этой мерзкой, полумертвой твари, была ему отвратительна. Он все еще оставался разборчивым, хоть мысли его и начали снова блуждать неведомо где, и галлюцинации опять сбивали его с толку, а сознание прояснялось все реже и на сроки все более краткие.
Однажды его разбудил тихий хрип, раздававшийся где-то совсем рядом. Волк, прихрамывая, отступил, споткнулся и упал, не устояв от слабости на лапах. Выглядело это смешно, но человека нимало не позабавило. Он больше не испытывал страха. Слишком далеко зашел он для этого. Однако сознание его ненадолго прояснилось, и он полежал немного, раздумывая. До судна оставалось не больше четырех миль. Человек, когда ему удавалось стряхнуть застилавшую глаза пелену, различал судно совершенно ясно, как различал и белый парус шлюпки, прорезавший сверкающую воду залива. Да только четырех миль ему не проползти. Он сознавал это и сознавал с полным спокойствием. Он понимал, что не одолеет и половины мили. И все-таки, хотел жить. Разве это разумно — умирать после всего, что он испытал? Судьба требует от него слишком многого. Но, умирая, он все равно отвергал смерть. То было, возможно, безумием чистой воды, однако, и оказавшись в самых лапах смерти, он бросал ей вызов и умирать не желал.
Человек закрыл глаза и с бесконечной тщательностью собрал в один комок все свои силы, сказав себе, что должен одолевать удушающую усталость, которая затапливала, точно морской прилив, все полости и прожилки его существа. Да, усталость походила на море, которое вздымалось и опускалось, мало-помалу затопляя его сознание. Временами он уходил в нее почти с головой и плыл, одолевая забытье все более слабыми гребками, и все-таки, благодаря некой странной алхимии души, отыскивал еще один, новый остаток воли и прорывался к поверхности.
Не шевелясь, лежал он на спине, слушая, как приближаются к нему сиплые вдохи и выдохи больного волка. Они подбирались все ближе, ближе, время тянулось бесконечно, но человек по-прежнему не шевелился. Вот они уже звучат у самого его уха. Сухой, шершавый, словно наждачный язык проехался по его щеке. И он выбросил перед собой руки — вернее, попытался выбросить их. Пальцы его скрючились, точно когти, но сомкнулись они в пустом воздухе. Быстрота и уверенность движения требуют силы, а сил у человека больше не осталось.
Терпением волк обладал неимоверным. Но и человек ему в терпении не уступал. Половину дня пролежал он недвижно, борясь с бессознательностью, ожидая, когда приблизится существо, которое жаждало пожрать его и которое сам он стремился пожрать. Море усталости то и дело перехлестывало через него и человеку начинали сниться длинные сны, однако все это время, засыпая и просыпаясь, он ждал сиплого дыхания и грубой ласки волчьего языка.
И однако же, дыхания он не услышал, а медленно выскользнув из сна, ощутил, как язык саднит его ладонь. Человек ждал. Ладонь мягко сжали клыки; нажатие их усилилось; волк напрягал последние силы, чтобы возить зубы в пищу, к которой он подбирался так долго. Но и человек ждал долго и теперь почти уже прокушенная ладонь его стиснула челюсть волка. И вторая ладонь медленно подползла к морде слабо дергавшегося зверя, чтобы столь же слабо вцепиться в нее. Еще пять минут, и человек всем своим телом придавил волка к земле. Сил, чтобы придушить его человеку не доставало, но лицо его притиснулось к шее волка и рот уже был набит звериной шерстью. Прошло полчаса и человек ощутил в горле теплую струйку. Приятного в ней было мало. Словно расплавленный свинец проталкивался в его желудок — и проталкивался одним лишь напряжением воли. А потом человек перевалился на спину и заснул.
На борту китобойного судна «Бедфорд» находились члены одной научной экспедиции. Они-то и заметили с палубы нечто странное на берегу. Какое-то существо перемещалось по
песку к воде. Определить, что это такое, они не смогли, и, как положено честным исследователям, спустились в шлюпку, покачивавшуюся на воде у борта китобойца, и подплыли к берегу, дабы все выяснить. И увидели нечто вроде бы и живое, но названия человека достойное навряд ли. Оно было слепо и лишено сознания. Оно корчилось на земле, точно чудовищный червь. Бóльшая часть усилий его никаких результатов не приносила, однако червь упорствовал, извивался и перекручивался — и продвигался вперед на фут, примерно, за час.
Три недели спустя человек этот лежал на койке китобойного судна «Бедфорд», по ввалившимся щекам его текли слезы, он рассказывал о том, что ему пришлось пережить. А еще он лепетал что-то бессвязное о матери, о солнце южной Калифорнии, о доме среди апельсиновых рощ и цветов.
Еще через несколько дней после этого он уже сидел за одним столом с учеными, капитаном, его помощниками и штурманом. Он с вожделением всматривался в расставленную по столу обильную еду, беспокойно провожая каждый кусок ее взглядом и ощущая, когда кусок исчезал в чьем-то рту, острое сожаление. Он был в своем уме и все-таки, садясь с этими людьми за стол, проникался ненавистью к ним. Ему не давал покоя страх, что еды надолго не хватит. Он расспрашивал о судовых запасах продуктов кока, юнгу, капитана. Они несчетное множество раз успокаивали его, однако он никак не мог им поверить и изыскивал самые хитроумные предлоги, чтобы подобраться к кладовке и увидеть припасы своими глазами.
Потом все стали замечать, что он прибавляет в весе. Полнеет с каждым днем. Ученые покачивали головами и строили теории. Его попытались ограничить в еде, однако он все равно раздавался вширь и рубаху его уже распирало снутри брюшко.
Матросы только посмеивались. Они-то все знали. И ученые, устроив слежку за ним, узнали тоже. Увидели, как после завтрака он, сгорбясь, совершенно как нищий, протянул ладонь к матросу и о чем-то его попросил. Матрос ухмыльнулся и протянул ему кусок морского сухаря. Попрошайка жадно схватил сухарь, осмотрел его, как скупец осматривает золотую монету, и сунул за пазуху. Такие же пожертвования получил он и от других усмехавшихся матросов.
Ученые ничего ему говорить не стали. Оставили беднягу в покое. Но все же осмотрели тайком его койку. Она оказалась обложенной сухарями, и матрас тоже оказался набитым ими
-
сухари были повсюду. И тем не менее, он пребывал в здравом рассудке. Просто готовился к тому, что снова придется голодать — только и всего. Ничего, это у него пройдет, решили ученые; и действительно, ко времени, когда якорь «Бедфорда» пошел, громыхая, на дно залива Сан-Франциско, все уже прошло окончательно.