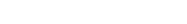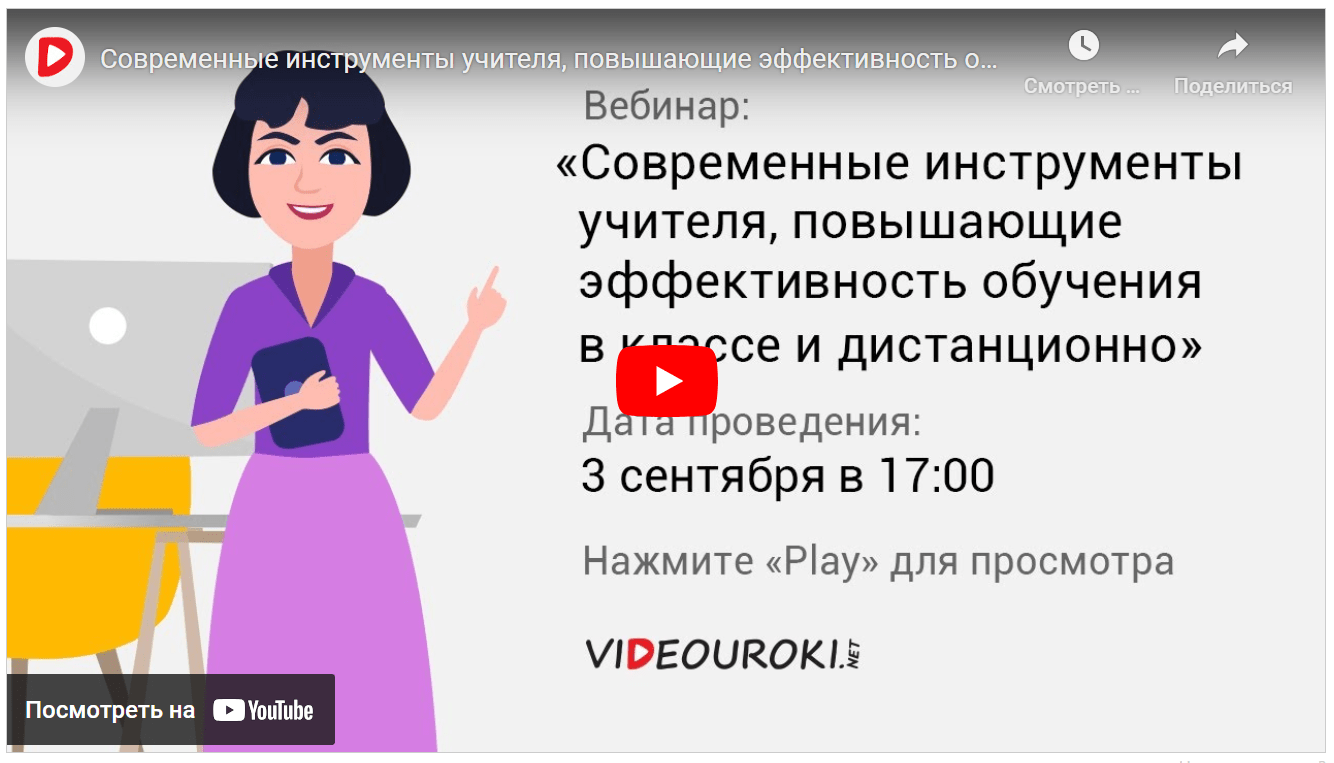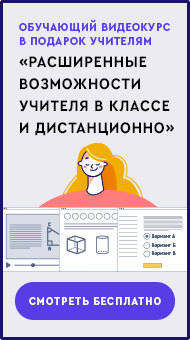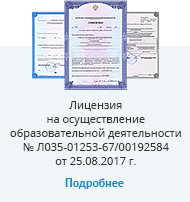СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ
Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно
Скидки до 50 % на комплекты
только до
Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой
Организационный момент
Проверка знаний
Объяснение материала
Закрепление изученного
Итоги урока

Как нерешительность меняет мир или 4 разных дня из жизни императора России, Николай II.

Часть 1. Последний разговор и надежда что всё обойдётся. Царское Село. Начало декабря 1916 года.
Он вошел в мой кабинет без доклада, как всегда. Его появление всегда было похоже на внезапное вторжение стихии. Я отложил перо, которым подписывал очередную бумагу из Ставки, и поднял взгляд.
— Здрав будь, батя, — хрипло проговорил Григорий, его пронзительные, бледные глаза уже изучали мое лицо, словно выискивая что-то.
— Григорий, — кивнул я. — Я рад тебя видеть. Аликс ждала тебя у Алексея, он сегодня неважно себя чувствует.
— Знаю, батя, знаю. Все знаю, — он махнул рукой, грузно опустился в кресло напротив моего стола, не спросив разрешения. Его манера себя вести всегда смущала и коробила меня, человека, выросшего в строжайшем этикете. Но я привык закрывать на это глаза. Ради него. Ради Алексея.
Он сидел, немного раскачиваясь, и молча смотрел на меня. Этот пристальный, немигающий взгляд, который, как утверждала Аликс, видел саму душу, сегодня казался особенно тяжелым. В камине потрескивали поленья, отбрасывая на его грубое, лицо зыбкие тени. Он казался уставшим, изможденным.
— Ты смутен, государь, — наконец изрек он. — Мысли твои не здесь. Они там, — он мотнул головой куда-то в сторону Петрограда. — Где шатаются да пляшут на костях. Где змеиное гнездо свили.
Он говорил о Думе, о министрах, о великих князьях. Он всегда говорил о них с презрением, называя ворами и предателями. Раньше я отмахивался, считая это простонародной прямолинейностью. Теперь же его слова падали на удобренную почву моих собственных тревог. Я чувствовал, как страна ускользает из моих рук, как ткань империи рвется по швам. Война затянулась, тыл волнуется, а здесь, в самом сердце власти, — лишь интриги и шепот за спиной.
— Они тебя не любят, батя, — продолжал он, не отрывая взгляда. — И меня не любят. За то, что я простой мужик, а у трона царского стою. За то, что правду тебе говорю. Они боятся меня. И потому хотят убрать.
— Полно, Григорий, — попытался я усмирить его, хотя холодок страха уже пробежал по моей спине. Слухи о заговорах ходили постоянно. — Никто тебя не тронет. Ты под нашей защитой.
Он горько усмехнулся.
— Ваша защита… Она ноне как дым. Сквозь пальцы уходит.
Слушай меня, государь, — он вдруг наклонился вперед, и его голос стал низким, почти зловещим. — Чует мое сердце. Скоро меня не станет. Меня убьют. Твои же.
Я почувствовал, как кровь отливает от моего лица. Его слова повисли в воздухе, тяжелые и неумолимые, как приговор.
— Перестань, — строго сказал я. — Не говори такого. Это грех — накликать беду.
— Не я накликаю, батя. Они уже решили. И если меня убьют, — он снова пристально посмотрел на меня, и в его глазах читалась не злоба, а какая-то бесконечная, всепонимающая жалость, — то слушай меня… запомни. Если убийца будет из твоих, из рода Романовых, тогда… тогда ни тебя, ни твоей семьи, ни России твоей не будет. Исчезните все. Сметут вас. И не пройдет и двух лет, как вся Русь в крови утонет.
Меня бросило в холодный пот. Рациональная часть моего ума кричала, что это бред, суеверный бред сибирского мужика. Но была и другая часть — та, что видела, как он, взяв за руку умирающего от гемофилии Алексея, останавливал кровь одной лишь молитвой. Та, что верила в его странную, мистическую связь с чем-то, что недоступно простому пониманию.
Я хотел что-то сказать…. Приказать ему замолчать, успокоить его, убедить себя. Но слова застряли в горле. Я мог только смотреть на него, на этого неотесанного мужика, который сидел в кресле императора Всероссийского и пророчил гибель моей династии и моей страны.
Он вдруг поднялся, тяжело вздохнул.
— Ладно. Сказал. Делай теперь что знаешь. Я пошел к царице. К мальчонку нашему.
Он повернулся и вышел из кабинета так же внезапно, как и появился, оставив после давящее чувство обреченности.
Я остался один. Тишину нарушал только треск огня в камине. Я подошел к окну, глядя на заснеженный, неподвижный парк. «Если меня убьют… ни тебя, ни твоей семьи не будет».
Сердце сжалось от ледяного предчувствия. Впервые за долгое время я почувствовал себя не Императором, а маленьким, испуганным мальчиком, который стоит перед лицом неумолимой, страшной силы, которую он не в силах ни понять, ни остановить.
Я не знал тогда, что вижу его в последний раз. Что его слова — не бред, а последнее пророчество. И что этот простой мужик был, возможно, последним щитом, отделявшим нас всех от пропасти. И когда этот щит падет, нас поглотит тьма.
Часть 2. Плохое известие. Царское Село. Декабрь 1916 года.
Мне принесли телеграмму, когда я пил утренний чай в библиотеке. Холодный, серый свет зимнего утра заливал паркет. Я разорвал конверт с привычным, уже почти автоматическим чувством легкой тревоги. Сообщения из Ставки, с фронта, из министерств – все они в последнее время несли на себе отпечаток той же тяжелой, неопределенной грозы, что висела над всей Россией.
Но это было не из Ставки. Короткое, сухое донесение из Петрограда от министра внутренних дел Протопопова. «Сегодня ночью в результате инцидента в доме Ф. Юсупова скончался Григорий Ефимович Распутин-Новых. Тело не обнаружено. Ведутся розыски».
Я перечитал эти несколько строк раз, другой, третий. Слова не складывались в смысл. «Скончался». «Инцидент». «Тело не обнаружено».
Чай остыл в чашке. Я встал, подошел к окну. Заснеженный парк был безмолвен и прекрасен в своем зимнем уборе. А внутри у меня все замерло. Оцепенело. Не было сразу ни боли, ни гнева. Только глубокая, всепоглощающая тишина. Тишина после взрыва, когда еще не пришло осознание случившегося.
«Скончался».
Потом пришла первая, самая простая и жестокая мысль: Аликс. Как я скажу об этом Аликс?
Она и так едва держится. Нервы ее натянуты до предела, сердце болит постоянно, ноги отекают так, что она не может ходить. Ее вера в него была абсолютной. Для нее он был не «старцем», не «целителем» – он был Другом, посланным Богом, чтобы хранить Алексея, чтобы направлять нас обоих в эти страшные годы. Его молитва, верила она, была щитом между нашей семьей и бедой.
И этот щит теперь выбили у нас из рук.
Ко мне пришло осознание другого, страшного и неизбежного: это сделали свои. Не революционеры, не какие-то темные анархисты. Судя по тому, что Юсупов там замешан… это князья крови. Великие князья, аристократия, цвет того самого общества, той самой России, которую я возглавляю. Они убили мужика из Сибири, которому завидовали и которого ненавидели за его близость к трону. Они убили человека, который, как я знал, молился за моего сына.
Я чувствовал себя абсолютно беспомощным. Как пленник в золотой клетке. Вокруг – заговор, шепотки, ненависть. И я – Царь, Самодержец Всероссийский – не могу защитить того, кто был под моей защитой. Не могу покарать виновных, потому что виновны – моя же родня, мои подданные. Война, фронт требует единства. Раскол двора, арест великих князей… это будет последняя капля.
Я вышел из комнаты, чтобы пойти к ней. Ноги были ватными. В ушах стоял навязчивый, пустой звон. Я думал о нем. О его простом, грубоватом лице. О его пронзительных, цепких глазах, которые, казалось, видят тебя насквозь. Он часто бывал навязчив, говорил порой странные, непонятные вещи, его манеры шокировали придворных. Да, я это видел. И мне это часто было неприятно.
Но я также видел другое. Я видел, как от его прикосновения, от его молитвы утихала адская боль в ноге моего мальчика. Я видел его простую, почти животную веру. Он не был святым. Он был дитем природы, стихийной силой, которую невозможно было втиснуть в рамки придворного этикета. И в этом была его сила и его погибель.
Он говорил мне не раз, хватая за руку своим цепким, сильным пальцем: «Батя, берегись! Если меня не станет, и вас не станет. Не пройдет и двух лет, как и вас, и Россию не станет».
Я отмахивался. Считал это крестьянским суеверием. Теперь эти слова отдавались в моей голове зловещим, пророческим эхом. Холодный ужас сковал сердце. Он не просто предсказывал – он знал.
Я вошел в спальню Аликс. Она лежала на кушетке, с фотографией Алексея в руках. Увидев мое лицо, она сразу все поняла. Ее глаза расширились от ужаса.
— Nicky… что случилось? С Алексеем?. — ее пальцы вцепились в подлокотник.
— Нет, с нами, — тихо сказал я, опускаясь перед ней на колени и протягивая ей злосчастную телеграмму. — Нас покинул наш Друг.
Ее крик пронзил тишину царских покоев. Это был не просто крик боли – это был вопль отчаяния обреченной. Я обнял ее, и мы сидели так, молча, пока за окном медленно смеркалось.
Тело его нашли через день. Во льду Малой Невки. Я приказал похоронить его тихо, здесь, в Царском Селе. На отпевании не было никого, кроме нас, детей, Вырубовой и нескольких преданных людей. Священник читал молитвы, а я смотрел на его изуродованное, обмороженное лицо и не мог отделаться от мысли, что хороню не просто человека. Хороню последнюю нить, связывающую нас со старой, благочестивой, патриархальной Россией, которой, возможно, уже и не существует.
Теперь мы были одни. Совершенно одни перед надвигающейся бурей. А он, этот сибирский мужик, оказался прав. Его смерть была точкой не возврата. Предзнаменованием. Первым актом той страшной пьесы, последнего акта которой я еще не мог разглядеть, но чей холодный ветер уже задувал в щели нашего теплого, уютного, обреченного дома.
Часть 3. Помощь которую отклонил, ведь мне обещали. Тобольск. Апрель 1918 года.
Мороз еще держался, но в воздухе уже чувствовалась та особая, пронзительная сырость сибирской весны, которая пробирает до костей хуже любого январского холода. Я сидел у окна в нашем затхлом кабинете, пытаясь читать—что-то историческое, Карамзина, кажется—но мысли путались, упрямо возвращаясь к одним и тем же тревожным вестям.
Большевики укрепляют свою власть. Мир с немцами, этот похабный Брестский мир, который я до сих пор не могу принять без содрогания, развязал им руки. Из Москвы и Петрограда доносятся жуткие, безумные слухи. Нас хотят увезти. Но куда? И зачем? Страшно было подумать.
В дверь постучали. Вошел полковник Кобылинский, наш комендант, человек чести, до конца пытавшийся сохранять достоинство в этом унизительном положении. Лицо его было напряжено, а в глазах читалась тревога.
— Ваше величество, — тихо начал он, оглядываясь на дверь. — Ко мне поступило… одно предложение. От людей, сохранивших верность.
Я отложил книгу. Сердце на мгновение екнуло, предчувствуя нечто важное.
— Говорите, Евгений Степанович.
— Они разработали план. Побег. Всей семьей. Время еще есть. Есть верные офицеры, есть деньги, есть маршрут через Сибирь к белым… — Он говорил быстро, шепотом, выкладывая детали тщательно продуманного замысла. Лошади, перемена экипажей, надежные укрытия. Все было возможно. Реально.
Я слушал, и сердце мое начало биться чаще. Не от надежды. Нет. От страха. Не за себя. За них. За Аликс, такую хрупкую и больную. За девочек. За Алексея… Боже мой, Алексей! Как он перенесет такую дорогу? Малейшая шишка, малейший ушиб—и он будет мучиться, истекать кровью. Мы будем как загнанные звери, за нами устроят настоящую охоту. А если поймают? Что они сделают с нами тогда? С ней? С детьми?
Я подошел к окну. Видел заснеженный двор, хмурых часовых у ворот. Побег—это измена. Не перед этой властью, нет. Перед судьбой. Перед той долей, которую Господь нам определил или Он даёт нам знак что нужно действовать….
— А если… — тихо проговорил я, не оборачиваясь. — Если при попытке бегства начнется стрельба? Если одна из пуль найдет свою цель? Я не смогу этого пережить. Я не имею права подвергать их такому риску.
Я обернулся к Кобылинскому. Он смотрел на меня с пониманием и безнадежностью.
— Нет, — сказал я мягко, но так, чтобы не осталось сомнений. — Я благодарен этим людям. Передайте им мою благодарность. Но мы не можем бежать.
— Но, государь… ради детей…
— Именно ради детей я и отказываюсь! — голос мой дрогнул. — Я не могу купить нашу свободу ценой их возможной смерти на этом опасном пути. Мы в руке Божьей. Если Ему угодно нас спасти—Он найдет для этого способ и без этого безумного риска. А если нет… то мы должны принять нашу участь с достоинством….
Он хотел что-то возразить, но лишь молча кивнул. В его глазах читалось: «Они вас убьют». И я это видел. Я это знал.
— Они обещали сохранить нам жизнь, — сказал я,
больше чтобы убедить себя. — Ленин и Свердлов дали гарантии.
Судить будут открыто…
Надо верить.
Я не верил. Я просто пытался найти хоть какое-то оправдание своему решению—решению обречь семью на гибель.
Когда он ушел, я долго стоял, глядя на портрет Аликс на столе. Простишь ли ты мне этот отказ? Поймешь ли? Я—глава семьи. Я должен был защитить вас. Но единственный способ защиты—это бегство—казался мне еще большей опасностью.
Я выбрал покорность воле Божьей. Я выбрал веру в милость людей, у которых ее не было. Я выбрал тихий, верный конец в надежде сохранить им жизнь, вместо того чтобы бороться за нее ценой всего.
Это был мой последний царский выбор. И, возможно, самый страшный из всех, что мне приходилось делать. Я обрек нас всех. Но в тот момент мне казалось, что я оберегаю.
Часть 4. Итог, когда не слышишь Бога. 16 июля 1918 года. Вечер. Екатеринбург. Дом Ипатьева.
Сегодня Алексей уснул с трудом. Нога болит невыносимо. Я сидел у его кровати, держал за руку, пока он не забылся тяжелым, болезненным сном. Смотрел на его бледное, испачканное слезами лицо и чувствовал себя совершенно разбитым. Бессильным. Как же так? Вся империя была у ног, лучшие врачи Европы… а я не могу помочь собственному сыну облегчить боль. Не могу дать ему самое простое – возможность бегать, играть, падать, как все мальчишки.
Аликс мужественна, как всегда. Она и девочки… они – мой скальный утес. В этих стенах, пропахших сыростью и страхом, они создали подобие дома. Читают, шьют, тихо разговаривают. Сегодня Ольга и Татьяна снова перебирали свои скромные драгоценности, прятали их в корсеты платьев. Говорят, что-то задумали, хотят сохранить на черный день. Я сделал вид, что не заметил. Пусть у них будет эта маленькая тайна, эта иллюзия, что черный день может быть еще чернее.
Комендант Юровский сегодня был странно… деловит. Суетлив. Принес нам два стула для спальни. Зачем? Нас тринадцать человек. Зачем два стула? Его холодные, быстрые глаза скользили по мне, по Аликс, по детям с каким-то новым, отстраненным любопытством. Как бухгалтер, подсчитывающий товар.
Я подошел к окну, к закрашенной известью раме. Сквозь щель виден кусочек ночного неба. Такое же, как над Ливадией, над Царским Селом. Одно на всех. Я молился сегодня. Не о спасении. Нет. О даровании сил моей семье. О том, чтобы они не дрогнули. Чтобы Господь простил мне все мои ошибки, которые привели их сюда. Я принял это. Все, что происходит – воля Божья. Я не держу зла на русский народ на мой народ. Темный, обманутый, он не ведает, что творит.
17 июля. Ночь.
Разбудили среди ночи. Сказали – тревога, надо спуститься в подвал, переждать. Странно. Выстрелов не было слышно. Город спал. Но мы уже привыкли подчиняться.
Аликс с трудом поднялась. Жалуется на боли в спине. Алексей не мог идти, я понес его на руках. Он такой легкий, хрупкий… обнял меня за шею, доверчиво прижался. Мои девочки шли сзади, с подушками. Доктор Боткин – за нами.
Спустились. Подвал пустой, полутемный. Пахло пылью. Юровский вошел с несколькими людьми. Лицо у него было напряженное, официальное. Он что-то зачитал. Какой-то приказ. Я не сразу понял. Казалось, отказывается слушать. «Что?» — переспросил я.
И в этот миг все стало на свои места. Его глаза. Быстрые, жесткие. Взвод красноармейцев, поднявших винтовки. Я не поверил. До последнего мгновения не мог поверить. Не в свою смерть. В их смерть. Я обернулся, чтобы закрыть собой Аликс, Алексея… и увидел лица своих дочерей. Их широко открытые, непонимающие, испуганные глаза.
Прозвучал залп. Первый, неточный. Крики. Дым. Пыль. Пули запели по стенам, рикошетили. Я почувствовал удар в грудь. Горячий. Глубокий. Я упал навзничь. Сознание не покидало меня. Я видел, как рухнула Аликс. Как кто-то из палачей… нет, не могу назвать их людьми… добивает штыком моего сына. Мою крошку Анастасию, которая закричала и попыталась встать, застрелили в голову.
Я лежал и смотрел в грязный потолок подвала. В ушах стоял звон. Боль отступала, ее сменило странное, ледяное спокойствие. Я видел, как умирает Россия. Моя Россия. Та, в которую я верил. Которую любил больше жизни которую не смог сохранить.
Последнее, что я услышал – хрип, крик на каком-то чужом языке и еще один выстрел. Совсем близко.
И потом – тишина. Только капли, падающие с потолка. И темнота….