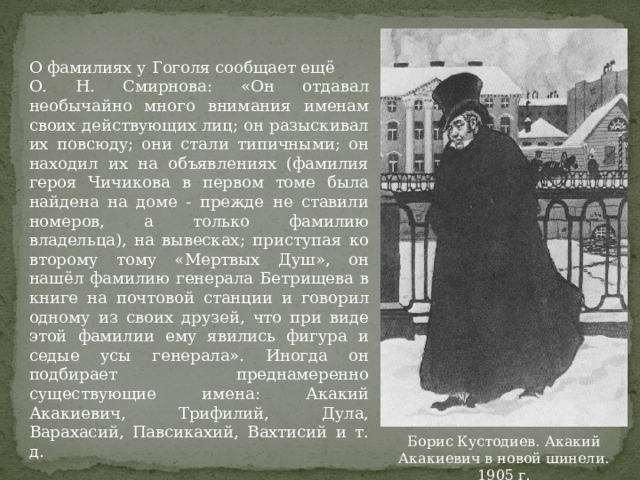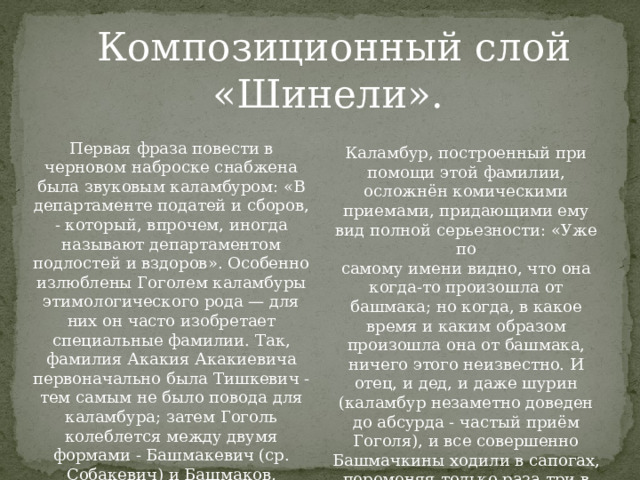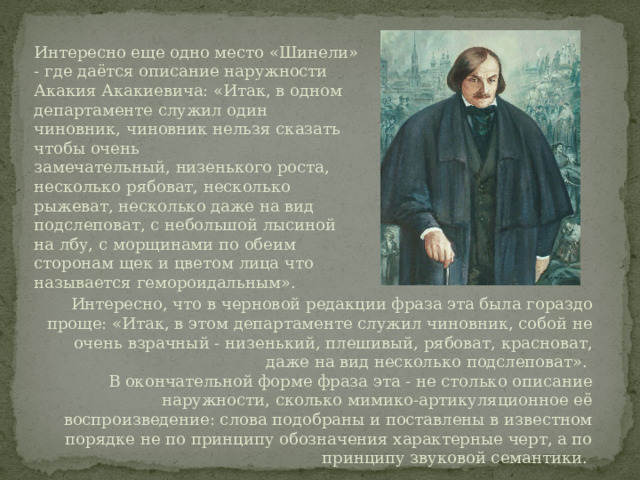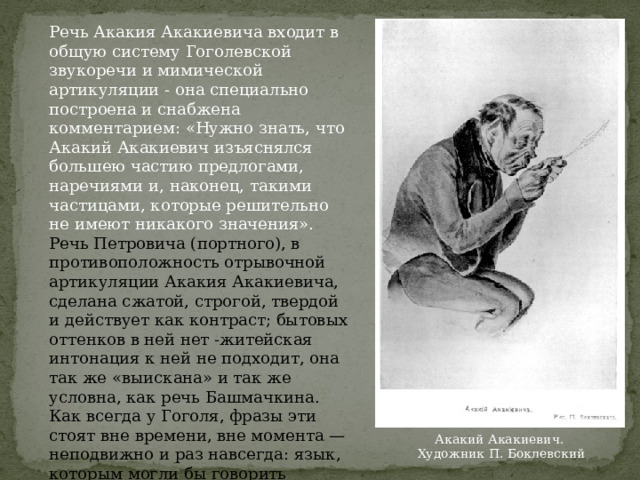16 октября 1886 г. -
24 ноября 1959 г.
«Как сделана Шинель Гоголя» 1919 г. Борис Михайлович Эйхенбаум.
Литературовед, литературный критик, теоретик и историк культуры, один из ведущих представителей русской «формальной школы».
Выполнила студентка
5 курса з/о
Бокша М.В.
Формальная школа - одно из самых продуктивных направлений в теории литературы XX века.
Предельно заостренную формулу формального метода дал Виктор Борисович Шкловский (1893—1984 ГГ.), утверждавший, что литературное произведение представляет собой «чистую форму», оно «...есть не вещь, не материал, а отношение материалов». Тем самым форма была понята как нечто противоположное материалу, как «отношение». Поэтому В.Б. Шкловский парадоксальным образом уравнивает «шутливые, трагические, мировые, комнатные произведения», не видит разницы в противопоставлениях мира миру.
На самом деле формалисты выступали не против содержания как такового, а против традиционного представления о том, что литература - это повод для изучения общественного сознания и культурно-исторической панорамы эпохи.
Шкловский В.Б.
В 1919 году Б.М. Эйхенбаум написал свою самую знаменитую статью, «Как сделана «Шинель» Гоголя», в которой практически продемонстрировал методы и приёмы формального анализа конкретного литературного текста и сделал важное теоретическое открытие – феномена сказа – субъектной организации литературного произведения, обладающей своими речевыми, стилевыми, композиционными и интонационными особенностями.

Новелла (итал. novella — новость) — повествовательный прозаический жанр .
«Композиция новеллы в значительной степени зависит от того, какую роль в её сложении играет личный тон автора. Примитивная новелла, не знает сказа и не нуждается в нём, потому что весь её интерес и все её движения определяются быстрой и разнообразной сменой событий и положений».
Комические эффекты достигаются манерой сказа.
Можно различать два рода комического сказа:
- Повествующий
- Воспроизводящий
Первый ограничивается шутками , смысловыми каламбурами и пр.; второй вводит приёмы словесной мимики и жеста, изобретая особые комические артикуляции, звуковые каламбуры и т.д. Первый производит впечатление ровной речи; за вторым часто как бы скрывается актёр, так что сказ приобретает характер игры, и композиция определяется некоторой системой разнообразных мимико-артикуляционных жестов.

Композиция у Гоголя не определяется сюжетом – сюжет у него всегда бедный, скорее – нет никакого сюжета, а взято только какое-нибудь одно комическое положение, служащее как бы только толчком или поводом для разработки комических приёмов. Известно, что необходимость иметь всегда что-нибудь похожее на сюжет стесняла Гоголя.
Павел Васильевич Аненков писал: «Он говорил, что для успеха повести и вообще рассказа достаточно, если автор опишет знакомую ему комнату и знакомую улицу».
Гоголь отличался особым уменьем читать свои вещи, как свидетельствуют многие современники. Можно выделить два главных приёма в его чтении: либо – патетическая, напевная декламация, либо – особый способ разыгрывания, мимического сказа, не переходящего вместе с тем, как указывает И.С. Тургенев, в простое театральное чтение ролей.
Пушкину Гоголь пишет (1835 г.): «Сделайте милость, дайте какой-нибудь сюжет, хоть какой-нибудь смешной или несмешной, но русский чисто анекдот…»
Иван Иванович Панаев определяет чтение Гоголя следующим образом:
« Гоголь читал неподражаемо. Между современными литераторами лучшими
чтецами своих произведений считаются Островский и Писемский: Островский читает без всяких драматических эффектов, с величайшею простотою, придавая между тем должный оттенок каждому лицу; Писемский читает, как актёр - он, так сказать, разыгрывает свою пьесу в чтении... В чтении Гоголя было что-то среднее между двумя этими манерами чтений. Он читал драматичнее Островского и с гораздо большею простотою, чем Писемский».
Основа Гоголевского текста - сказ, что текст его слагается из живых
речевых представлений и речевых эмоций. Более того: сказ этот имеет тенденцию не просто повествовать, не просто говорить, но мимически и артикуляционно воспроизводить слова, и предложения выбираются и
сцепляются не по принципу только логической речи, а больше по принципу речи выразительной, в которой особенная роль принадлежит артикуляции, мимике, звуковым жестам и т. д.
Отсюда — явление звуковой семантики в его языке: звуковая оболочка слова, его акустическая характеристика становится в речи Гоголя значимой независимо от логического или вещественного значения. Артикуляция и её акустический эффект выдвигаются на первый план, как выразительный приём. Поэтому он любит названия фамилии, имена и прочее.
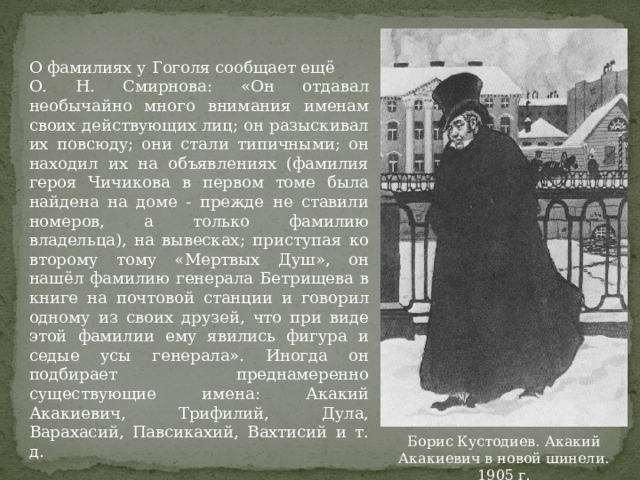
О фамилиях у Гоголя сообщает ещё
О. Н. Смирнова: «Он отдавал необычайно много внимания именам своих действующих лиц; он разыскивал их повсюду; они стали типичными; он находил их на объявлениях (фамилия героя Чичикова в первом томе была найдена на доме - прежде не ставили номеров, а только фамилию владельца), на вывесках; приступая ко второму тому «Мертвых Душ», он нашёл фамилию генерала Бетрищева в книге на почтовой станции и говорил одному из своих друзей, что при виде этой фамилии ему явились фигура и седые усы генерала». Иногда он подбирает преднамеренно существующие имена: Акакий Акакиевич, Трифилий, Дула, Варахасий, Павсикахий, Вахтисий и т. д.
Борис Кустодиев. Акакий Акакиевич в новой шинели. 1905 г.
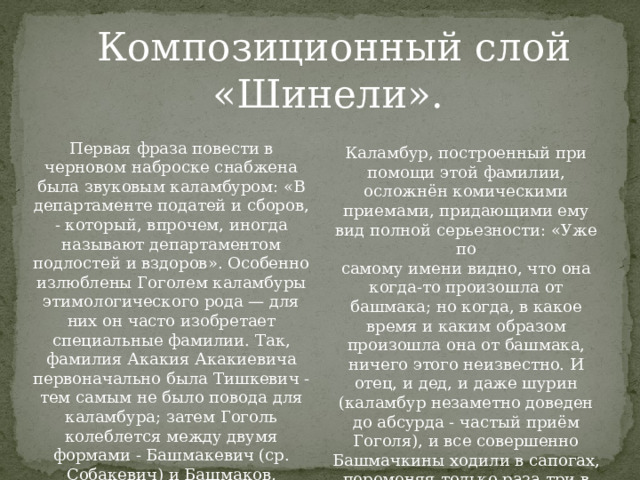
Композиционный слой «Шинели».
Первая фраза повести в черновом наброске снабжена была звуковым каламбуром: «В департаменте податей и сборов, - который, впрочем, иногда называют департаментом подлостей и вздоров». Особенно излюблены Гоголем каламбуры этимологического рода — для них он часто изобретает специальные фамилии. Так, фамилия Акакия Акакиевича первоначально была Тишкевич - тем самым не было повода для каламбура; затем Гоголь
колеблется между двумя формами - Башмакевич (ср. Собакевич) и Башмаков, наконец останавливается на форме –Башмачкин.
Каламбур, построенный при помощи этой фамилии, осложнён комическими приемами, придающими ему вид полной серьезности: «Уже по
самому имени видно, что она когда-то произошла от башмака; но когда, в какое время и каким образом
произошла она от башмака, ничего этого неизвестно. И отец, и дед, и даже шурин (каламбур незаметно доведен до абсурда - частый приём Гоголя), и все совершенно Башмачкины ходили в сапогах, переменяя только раза три в год подмётки».
Приём доведения до абсурда или противологического сочетания слов часто встречается у Гоголя, причём он обычно замаскирован строго-логическим синтаксисом и потому производит впечатление непроизвольности; так, в словах о Петровиче, который «несмотря на свой кривой глаз и рябизну по всему лицу, занимался довольно удачно починкой чиновничьих и всяких других панталон и фраков». Тут логическая абсурдность замаскирована ещё обилием подробностей, отвлекающих внимание в сторону; каламбур не
выставлен на показ, а наоборот - всячески скрыт, и потому комическая сила его возрастает. Чистый этимологический каламбур встречается ещё не раз: «бедствий, рассыпанных на жизненной дороге не только титулярным, но даже тайным, действительным, надворным и всяким советникам, даже и тем, которые не дают никому советов, ни от кого не берут их сами».
Таковы главные виды Гоголевских каламбуров в «Шинели». Присоединим к этому другой прием звукового воздействия.
Акакий Акакиевич - это определенный звуковой подбор; недаром наименование это сопровождается целым анекдотом, а в черновой редакции Гоголь делает специальное замечание: «Конечно можно было, некоторым образом, избежать частого сближения буквы к , но обстоятельства были такого рода, что никак нельзя было этого сделать».
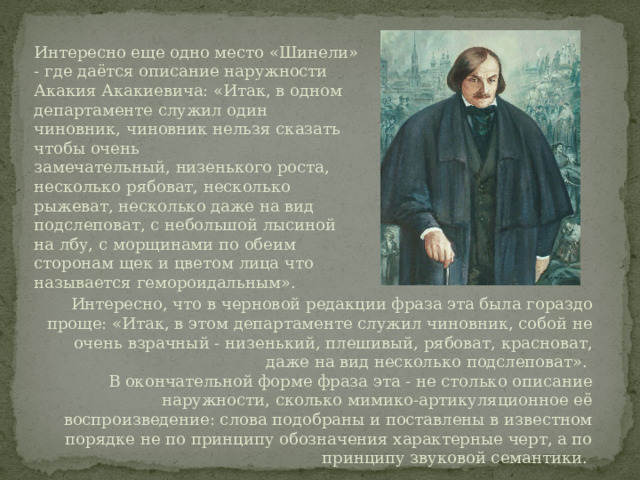
Интересно еще одно место «Шинели» - где даётся описание наружности
Акакия Акакиевича: «Итак, в одном департаменте служил один чиновник, чиновник нельзя сказать чтобы очень
замечательный, низенького роста, несколько рябоват, несколько рыжеват, несколько даже на вид подслеповат, с небольшой лысиной на лбу, с морщинами по обеим сторонам щек и цветом лица что называется гемороидальным».
Интересно, что в черновой редакции фраза эта была гораздо проще: «Итак, в этом департаменте служил чиновник, собой не очень взрачный - низенький, плешивый, рябоват, красноват, даже на вид несколько подслеповат».
В окончательной форме фраза эта - не столько описание наружности, сколько мимико-артикуляционное её воспроизведение: слова подобраны и поставлены в известном порядке не по принципу обозначения характерные черт, а по принципу звуковой семантики.
Вся фраза имеет вид законченного целого - какой-то системы
звуковых жестов, для осуществления которой подобраны слова. Поэтому слова эти как логические единицы, как значки понятий, почти не ощущаются — они разложены и собраны заново по принципу звукоречи. Это - один из замечательных эффектов Гоголевского языка.
Иные его фразы действуют как звуковые надписи - настолько выдвигается на первый план артикуляция и акустика.
У Гоголя нет средней речи - простых психологических или вещественных понятий, логически объединенных в обыкновенные предложения. Артикуляционно-мимическая звукоречь сменяется напряжённой интонацией, которая формирует периоды.
В «Шинели» есть яркий пример такого интонационного воздействия: «Даже в те часы, когда совершенно
потухает петербургское серое небо и весь чиновный народ наелся и отобедал, кто как мог, сообразно с получаемым жалованьем и собственной прихотью, когда все уже отдохнуло после департаментского скрипенья перьями, беготни, своих и чужих необходимых занятий и всего того, что задает себе добровольно, больше даже
чем нужно, неугомонный человек...»
Огромный период, доводящий интонацию к концу до огромного
напряжения, разрешается неожиданно-просто: «словом, даже тогда, когда все стремится развлечься, Акакий Акакиевич не предавался никакому развлечению».
Есть в «Шинели» и иная декламация, неожиданно внедряющаяся в общий каламбурный стиль - сентиментально-мелодраматическая; это - знаменитое «гуманное» место, которому так повезло в русской критике, что оно, из побочного художественного приёма, стало «идеей» всей повести: «Оставьте меня! Зачем вы меня обижаете?» « И что-то странное заключалось в словах и в голосе, с каким они были произнесены. В нём слышалось что-то такое, преклоняющее на жалость, что один молодой человек... И долго потом, среди самых весёлых минут, представлялся ему низенький чиновник с лысинкою на лбу... И в этих проникающих словах звенели другие слова... И закрывал себя рукою...» и т. д.
В черновых набросках этого места нет - оно позднее и, несомненно, принадлежит ко второму слою, осложняющему чисто-анекдотический стиль первоначальных набросков элементами патетической декламации.
Своим действующим лицам в «Шинели» Гоголь даёт говорить немного, и, как всегда у него, их речь особенным образом сформирована, так что, несмотря на индивидуальные различия, она никогда не производит впечатление бытовой речи – она всегда стилизована.
ламация, неожиданно внедряющаяся в общий каламбурный стиль —
сентиментально-мелодраматическая; это — знаменитое „гуманное“ место, которому так повезло в русской
критике, что оно, из побочного художественного приема, стало „идеей“ всей повести: „Оставьте меня! Зачем
вы меня обижаете?“ И что-то странное заключалось в словах и в голосе, с каким они были произнесены. В нем
слышалось что-то такое, преклоняющее на жалость, что один молодой человек... И долго потом, среди самых
веселых минут, представлялся ему низенький чиновник с лысинкою на лбу... И в этих проникающих словах
звенели другие слова... И закрывал себя рукою... “ и т. д. В черновых набросках этого места нет — оно позднее и, несомненно, принадлежит ко второму слою, осложняющему чисто-анекдотический стиль первоначальных
набросков элементами патетической декламации
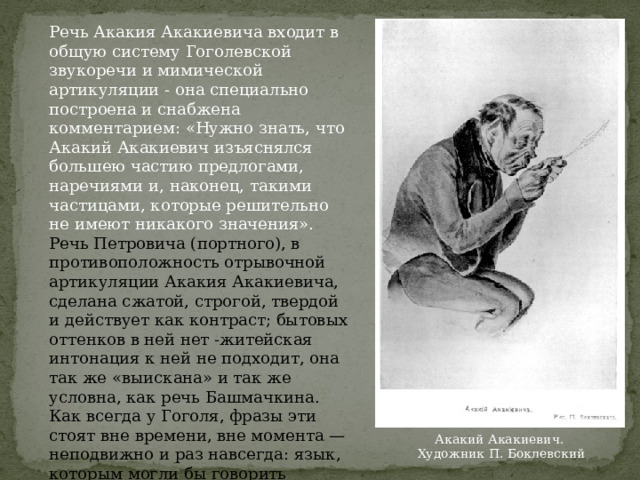
Речь Акакия Акакиевича входит в общую систему Гоголевской звукоречи и мимической артикуляции - она специально построена и снабжена комментарием: «Нужно знать, что Акакий Акакиевич изъяснялся большею частию предлогами, наречиями и, наконец, такими частицами, которые решительно не имеют никакого значения».
Речь Петровича (портного), в противоположность отрывочной артикуляции Акакия Акакиевича, сделана сжатой, строгой, твердой и действует как контраст; бытовых оттенков в ней нет -житейская интонация к ней не подходит, она так же «выискана» и так же условна, как речь Башмачкина. Как всегда у Гоголя, фразы эти стоят вне времени, вне момента — неподвижно и раз навсегда: язык, которым могли бы говорить марионетки.
Акакий Акакиевич.
Художник П. Боклевский
Получился гротеск, в котором мимика смеха сменяется мимикой скорби - и то и другое имеет вид игры, с условным чередованием жестов и интонаций.
Личный тон, со всеми приёмами Гоголевского сказа, определенно внедряется в повесть и принимает характер гротескной ужимки или гримасы. Этим уже подготовлен переход к каламбуру с фамилией и к анекдоту о рождении и крещении Акакия Акакиевича. Деловые фразы, замыкающие этот анекдот («Таким образом и произошел Акакий Акакиевич... Итак, вот каким образом произошло всё это»), производят впечатление игры с повествовательной формой - недаром и в них скрыт легкий каламбур, придающий им вид неуклюжего повторения.
Идёт поток «издевательств» - в таком роде продолжается сказ вплоть до фразы: «но
ни одного слова не отвечал...», когда комический сказ внезапно прерывается сентиментально-
мелодраматическим отступлением, с характерными приёмами чувствительного стиля. Этим приёмом
достигнуто возведение «Шинели» из простого анекдота в гротеск.
Мелодраматический эпизод использован как контраст к комическому сказу. Чем искуснее были каламбуры, тем, конечно, патетичнее и стилизованнее в сторону сентиментального примитивизма должен быть приём, нарушающий комическую игру. Форма серьёзного размышления не дала бы контраста и не была бы способна
сообщить сразу всей композиции гротескный характер.

В анекдоте о чиновнике Гоголю был ценен именно этот фантастически-ограниченный, замкнутый состав дум, чувств и желаний, в узких
пределах которого художник волен преувеличивать детали и нарушать обычные пропорции мира. На этой основе и сделан чертёж «Шинели».
Тут дело совсем не в «ничтожестве» Акакия Акакиевича и не в проповеди «гуманности» к малому брату, а в том, что, отгородив всю сферу повести от большой реальности, Гоголь может соединять несоединимое, преувеличивать малое и сокращать большое - одним словом, он может играть со всеми нормами и законами реальной душевной жизни. Так он и поступает. Душевный мир Акакия Акакиевича - не ничтожный, а фантастически-замкнутый, свой.
В этом мире свои пропорции. Свои законы.
Смерть Акакия Акакиевича рассказана так же гротескно, как и его рождение – с чередованием комических и трагических подробностей, с внезапным – «наконец бедный Акакий Акакиевич
испустил дух», с непосредственным переходом ко всяким мелочам и, наконец, с заключением в обычном стиле: «Кому все это досталось, бог знает, об этом, признаюсь, даже не интересовался рассказывающий сию повесть».
Конец «Шинели» - эффектный апофеоз гротеска, нечто вроде немой сцены «Ревизора». Наивные ученые, усмотревшие в «гуманном» месте всю соль повести, останавливаются в недоумении перед этим неожиданным и непонятным внедрением «романтизма» в «реализм».
Им подсказал сам Гоголь: «Но кто бы мог вообразить, что здесь ещё не всё об Акакии Акакиевиче, что суждено ему на несколько дней прожить шумно после своей смерти, как бы в награду за непримеченную никем жизнь. Но так случилось, и бедная история наша неожиданно
принимает фантастическое окончание». На самом деле конец этот нисколько не фантастичнее и не «романтичнее», чем вся повесть. Наоборот - там была действительная гротескная фантастика, переданная как игра с реальностью; тут повесть выплывает в мир более обычных представлений и фактов, но всё трактуется в стиле игры с фантастикой.