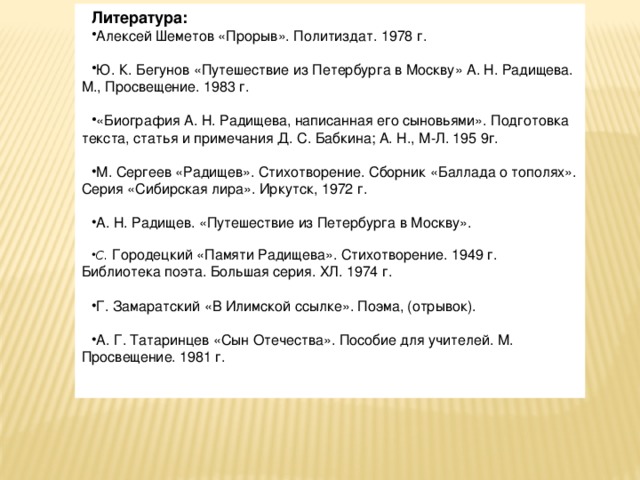Александр
Радищев
Подготовила – Огородникова Л. В. – учитель русского языка и литературы МКОУ СОШ с. Преображенка
2015 г.

«Подвижники нужны как солнце. Составляя самый поэтичный и жизнерадостный элемент общества, они возбуждают, утешают и облагораживают. Их личность — это живые документы, указывающие обществу, что есть еще люди иного порядка, люди подвига, веры и ясно осознанной цели».
А. П. Чехов
А. Н. Радищев (неизвестный художник).
XVIII век.
Со старинного портрета, быть может писанного крепостным художником, на нас смотрит умное, красивое лицо. Карие глаза, высокий чистый лоб, «соболиные» брови вразлет, гладкий пудреный парик, изящное жабо. Добрый открытый взгляд, полный благородства и глубокой мысли. Оh словно прислушивается к чему-то, вот- вот сейчас заговорит, — и мы услышим простые и сильные слова правды и добра.
А. Н. Радищев. Неизвестный художник. 18 век.
Выдающийся русский писатель, философ, революционер Александр Николаевич Радищев родился 31 августа (20 августа старого стиля) 1749 года в состоятельной дворянской семье.
Ранние детские годы Радищева, родившегося скорее всего в Москве, прошли в саратовском поместье отца, селе Верхнем Аблязове (ныне Кузнецкого района Пензенской области). Первыми пестунами мальчика были крепостные крестьяне: няня Прасковья Клементьевна, которую Радищев тепло вспоминает в одной из глав своего «Путешествия», и дядька Петр Мамонтов, по прозвищу Сума. Не совсем обычный его облик. Радищев полушутя зарисовывает в своей поэме «Бова».
Мальчик рос среди могучих просторов Поволжья, в мире народного творчества, интерес и любовь к которому он сохранил на всю жизнь. Его окружала атмосфера народных сказок, рассказывавшихся ему нянюшкой и дядькой. «Сладкую речь» дядьки, обладавшего, как и няня Пушкина Арина Родионовна, самородным литературным дарованием, он припоминает в том же «Бове». С детства Радищев слышал народные песни, сказания, широко распространенные по всему краю, о волжских «удалых добрых молодцах» во главе со знаменитым атаманом Степаном Тимофеевичем Разиным.
Иными были отношения к крестьянам родителей Радищева. В течение многих лет в списках их крестьян, так называемых «ревижских сказках», по Верхнему Аблязову не значится ни беглых, ни сосланных на поселение. Позднее, во время пугачевского восстания, радищевские крестьяне помогали своему помещику скрываться в окрестных лесах; малолетних же его детей — младших братьев и сестер Радищева — деревенские женщины прятали у себя, замазав им лица сажей, чтобы придать нм вид крестьянских ребятишек.
Грамоте Радищев был обучен тем же «просвещенным» дядькой Петром Мамонтовым. Когда мальчику исполнилось семь лет, родители для продолжения образования отправили его в Москву, к дяде по матери М. Ф. Аргамакову, который был в родстве с директором только что открывшегося Московского университета. Радищев воспитывался и учился вместе с детьми Аргамакова. Гувернером у них был француз, убежденный республиканец, вынужденный в силу этого покинуть родину; уроки давали лучшие профессора университета.
Вскоре после дворцового переворота 1762 года — низложения и убийства группой заговорщиков царя Петра III и возведения на престол его жены Екатерины II—Радищев, очевидно по хлопотам влиятельных Аргамаковых, был пожалован в пажи императрицы и зачислен в особое, привилегированное дворянское учебное заведение — Петербургский пажеский корпус.
Образовательная часть в корпусе была поставлена очень невысоко: учебная программа отличалась изобилием предметов, но «всем наукам» обучал только один преподаватель, француз Морамбер. Да и не в науке было дело. Корпус должен был навести на пажей «придворный лоск». Питомцы корпуса обязаны были дежурить во дворце, прислуживая самой императрице и членам царской семьи (принимали от лакеев кушанья и напитки и подавали их к «высочайшему» столу, были на посылках у императрицы и т. п.). Радищев был свидетелем растленных придворных нравов и раболепной дворцовой обстановки, которые он так ярко обрисовал впоследствии в своем «Путешествии из Петербурга в Москву».
Екатерина II в первую пору своего царствования сулила реформы, торжественно созвала комиссию депутатов — представителей от государственных учреждений, городов и всех сословий (за исключением помещичьих крестьян) для приведения в порядок существующих и установления новых законов. Несколько лучших учеников Пажеского корпуса были посланы ею в Германию, в Лейпциг, специально для изучения права.
Радищев своими выдающимися способностями, очевидно, обратил на себя внимание: по окончании корпуса он в 1766 году был включен в число шести пажей, отправлявшихся за гр аницу.
В Лейпциге Радищев пробыл около пяти лет.
По инструкции, составленной самой Екатериной, русские студенты должны были обучаться «латинскому, немецкому, французскому и, если возможно, славянскому языкам... моральной философии, истории, а наипаче праву естественному и всенародному и несколько в римской империи праву. Прочим наукам обучаться оставить всякому на произволение».
В прохождении обязательных предметов Радищев, согласно отзывам профессоров, «превзошел чаяния своих учителей». Наряду с этим он вышел в своих занятиях далеко за рамки предписанной студентам программы обучения. Особую склонность Радищев обнаружил при этом, с одной стороны, к литературе, с другой — к естественным наукам; основательные знания приобрел он в области химии и медицины.
. Русские студенты усиленно занимались самообразованием, читали и изучали передовых мыслителей XVIII века. Доходили, очевидно, до них и новинки русской литературы, в том числе сатирические журналы Новикова.
Эти внешкольные занятия, совместные чтения, обсуждения, споры, раздумья развивали сознание Радищева и его товарищей, их философские и политические воззрения.
Пребывание на чужбине сплотило русских студентов в тесный дружеский кружок.
Молодых людей сопровождали в Лейпциг два официальных лица: майор Бокум и священник — монах отец Павел. В обязанности Бокума входили заботы о содержании студентов и надзор за их успехами и поведением, а отец Павел должен был оберегать «чистоту» их православной веры. Человек недалекий, отец Павел был крайне смешлив, почему во избежание соблазна совершал церковные службы «зажмурившись». Радищев и его товарищи нарочно смешили его. В результате вместо укрепления православия отец Павел только способствовал «умалению» в студентах «почтени я к духовной власти».
Значительно более серьезные столкновения начали вскоре возникать между студентами и их «гофмейстером»— майором Бокумом. Это был тупой, грубый и корыстный человек.
Присваивая себе деньги, назначенные на содержание студентов, он создал для них почти невыносимые бытовые условия. Бокум «рассовал» молодых людей «по разным скаредным, вонию и нечистотою зараженным лачугам». В комнате, где жил Радищев с другим студентом, А. М. Кутузовым, с которым он подружился еще в Пажеском корпусе, была «всегда сырость». «Во всяком кушанье масло горькое, тож и мясо старое, крепкое».
Бокум не только морил студентов голодом, но и безобразно обращался с ними, подвергая унизительным телесным наказаниям, граничившим подчас с прямыми истязаниями. Одного из них «гофмейстер» высек розгами, другого избил бильярдным кием, третьего бил плашмя обнаженной шпагой — «фухтелем» — с такой яростью, что после двадцать пятого удара шпага сломалась. Соорудил Бокум даже специальную железную клетку, в которой нельзя было «ни стоять, ни сидеть прямо», и на блоке подвешивал в ней провинившихся. Попытки студентов сообщать в Петербург о поведении Бокума вначале ни к чему не привели. Родители их пытались было пожаловаться самой императрице, но получили суровую отповедь.
Тогда студенты решили действовать сами.
Особенным влиянием и авторитетом в группе русских студентов пользовался Федор Васильевич Ушаков. Он был значительно старше других, находился на пути к блестящей карьере, но, «алкая науки», добился присоединения к группе юношей, направлявшихся в Лейпциг.
Ушаков сразу же повёл себя крайне независимо по отношению к Бокуму, а через некоторое время возглавил борьбу студентов против их «гофмейстера», которая закончилась форменным «бунтом». Бокум однажды ударил одного из студентов по лицу. Остальные, «предводительствуемые» Ушаковым, настояли, чтобы обиженный при всех ответил Бокуму тем же.
Дело могло бы принять весьма серьезный оборот, если бы струсивший майор не спасся бегством. На помощь себе он вызвал отряд вооруженных солдат; студенты были взяты «под стражу». В своих донесениях в Петербург Бокум изобразил выступление студентов как попытку его убить.
Конфликт с Бокумом разрешился в конце концов благополучно, даже победой студентов. Русский посол в Лейпциге «помирил» их с Бокумом, «и с того времени,— рассказывает Радищев,— жили мы с ним почти как ему неподвластные...»
Столкновение с Бокумом сыграло весьма значительную роль и запомнилось Радищеву на долгие годы. Бокум не был в его глазах только грубым и жадным, «злонравным» чиновником, он являлся как бы одним из наглядных примеров екатерининского самовластия вообще. Это был, по выражению Радищева, маленький «частный» тиран и «притеснитель», действия которого были совершенно подобны действиям «притеснителей общих».
Окончив курс в университете, Радищев вместе с двумя своими товарищами в середине октября 1771 года выехал в Россию, в Петербург.
В русских дворянских кругах того времени было весьма распространено рабское преклонение перед Западом. Побывав в «чужих краях», дворянские сынки зачастую возвращались к себе на родину разодетыми по последней моде и усвоившими внешние западные манеры «поросятами», «русскими парижанцами», как метко окрестила их сатира XVIII века. В Радищеве и его друзьях, наоборот, пребывание на чужбине еще больше усилило любовь к родной стране. Они были исполнены самых высоких гражданских и патриотических чувств, искреннего стремления употребить свои знания и способности на пользу родной земле.
Создание «Путешествия из Петербурга в Москву» было основным делом и воистину героическим подвигом всей жизни Радищева. В этом произведении, решительно осуждающем нестерпимый гнет самодержавно-крепостнического строя, как бы нашел литературное выражение грозный протест многомиллионных масс порабощенного трудового народа, незадолго до этого проявившийся в крестьянской войне под предводительством Пугачева. И это придает голосу Радищева громовую силу, делает его книгу самым революционным и самым демократическим произведением всей современной ему мировой литературы.
Как раз в ту пору, когда в Радищеве созревал замысел его книги, Екатерина II весной 1787 года отправилась в путешествие из Петербурга на юг России — в Новороссию и недавно вошедший в состав русского государства Крым. Путешествие императрицы, которую сопровождала многочисленнейшая свита, совершалось с необычайной пышностью и великолепием. Колоссальные затраты на него всей своей тяжестью ложились на трудовой народ — на крестьянство. Так, для того чтобы перевезти царицу и ее свиту, крестьяне тех губерний, через которые она проезжала, должны были в самую горячую рабочую пору выставить семьдесят шесть тысяч лошадей.
По приказу всемогущего Потемкина, бывшего тогда новороссийским генерал-губернатором, на всем протяжении пути были сооружены искусственные, бутафорские деревни, так и получившие название «потемкинских деревень». Эти декоративные «деревни» должны были наглядно продемонстрировать, как якобы счастливо и изобильно живет русское крестьянство. Продажными казенными писаками «высочайшее» путешествие было использовано для восторженных сообщений о благоденствии народов России под «материнским скипетром» «просвещенной» императрицы.
Этому наглому обману Радищев противопоставлял в своем «Путешествии из Петербурга в Москву», которое в известной части совпадает с маршрутом императрицы, подлинную, неприкрашенную картину крепостнической действительности.
Радищев отпечатал «Путешествие из Петербурга в Москву» небольшим тиражом в шестьсот пятьдесят экземпляров. Из этого числа он отдал в продажу только двадцать пять экземпляров да семь роздал разным лицам, мнением которых он особенно дорожил. Но книга Радищева сразу же привлекла к себе внимание, по свидетельству осведомленных современников, вызвала «великое любопытство». Скоро радищевская книга, как уже было сказано, попала в руки императрицы.
На следующий же день по прочтении «Путешествия» Екатерина II послала А. Р. Воронцову предписание допросить Радищева обо всех обстоятельствах создания и выпуска его книги. Не успело это приказание дойти до Воронцова, как новым письмом, посланным вслед первому, он предупреждался, что «спрашивать» Радищева не нужно, ибо «дело пошло уже формальным следствием». Эти два следующих одно за другим распоряжения нагляднее всего свидетельствуют о почти паническом состоянии, в которое поверг императрицу выход в свет мятежной книги.
Слухи о надвигающейся грозе дошли и до Радищева. Он сознавал крайнюю опасность своего положения и распорядился сжечь все остальные экземпляры «Путешествия из Петербурга в Москву». Небольшая часть их (около двадцати пяти) была, по-видимому, утаена исполнителями этого поручения и пущена в продажу.
30 июня 1790 года Радищев был брошен в каземат Петропавловской крепости. Вести следствие императрица поручила одному из самых страшных мастеров сыскных дел — «кнутобойце» Шешковскому. Через руки этого «домашнего палача» Екатерины, как метко окрестил его Пушкин, прошел за пятнадцать лет до того и Пугачев. Есть сведения, что Шешковский не применял по отношению к Радищеву обычных пыток лишь потому, что был щедро задарен свояченицей Радищева Е. В. Рубановской.

Через две недели после начала следствия императрица передала дело о Радищеве суду. Однако Екатерина II сама заранее предрешила его судьбу. Она указала, что «Путешествие из Петербурга в Москву» наполнено «самыми вредными умствованиями, разрушающими покой общественный, умаляющими должное ко властям уважение, стремящимися к тому, чтобы произвесть в народе негодование против начальников и начальства»; Радищева она называла «бунтовщиком хуже Пугачева».
Пугачев был казнен. К смертной казни был приговорен и Радищев. Но, опасаясь слишком восстановить против себя общественное мнение, Екатерина и здесь стала в позу лицемерного «милосердия»: смертный приговор был заменен ссылкой на десять лет в Сибирь.

В острог Илимский
еду…

Местом ссылки Радищеву был назначен один из самых глухих уголков тогдашней Сибири — Илимский острог, небольшое поселение, меньше чем с тремястами жителей. Почти семь тысяч верст отделяли Илимск от Петербурга и около тысячи верст от Иркутска.
Полубольной, закованный в кандалы, Радищев, конечно, не перенес бы такого долгого и сурового пути. Помог ему бывший его начальник А. Р. Воронцов. Он добился посылки вслед за Радищевым специального курьера с приказом расковать его и снабдить всем необходимым. К губернаторам, через губернии которых должен был проезжать ссыльный, Воронцов обратился с просьбой оказывать Радищеву всяческое содействие, прибавляя, что он «поставляет оказанные ему услуги в личное себе одолжение». В течение всей ссылки Радищева Воронцов поддерживал с ним переписку, посылал ему книги и все необходимое.
В Илимске не было никакой врачебной помощи. Радищев становится, по его собственным словам, «местным врачом и хирургом», производит (тогда еще совершенная новость) прививку оспы, смело ставя вопрос о возможности прививок и против других болезней. Свои медицинские знания и навыки он передает своему служителю Степану Александровичу Дьяконову, отпущенному отцом Радищева на свободу по просьбе сына. Дьяконов добровольно последовал за Радищевым в Сибирь. После отъезда Радищева он навсегда остался там в качестве «городского лекаря».
Радищев устраивает у себя домашнюю школу, в которой вместе со своими детьми обучает детей местных жителей.
Почти сразу же взялся Радищев и за перо. Меньше чем через две недели по приезде в Илимск он начал работать над большим философским трактатом «О человеке, о его смертности и бессмертии». В своем трактате он с материалистических позиций рассматривает основные вопросы бытия и теории познания. Несмотря на некоторую исторически вполне объяснимую непоследовательность своих взглядов, Радищев является одним из основоположников философской материалистической мысли в России.
Там же, в Илимске, наряду с философским трактатом Радищев пишет историческую работу «Сокращенное повествование о приобретении Сибири» и, по просьбе Воронцова, экономический трактат «Письмо о китайском торге».
Радищев вернулся из Илимска лишь при Павле I. Недолго находился под Павлом российский трон. Теперь уже рука опального революционера карала властителей. Родственник Радищева Аргамаков был в числе заговорщиков, убивших царя в ночь на 13 марта 1801 г. Уходил один самодержец, восседал другой. Менялись цари. Но самодержавие оставалось незыблемым. Воцарился Александр I. Он приказал Радищеву составить новые законы. Бывший преступник составил законы...неподходящие для царей и помещиков.
Граф Завадовский сказал Радищеву с упреком: «Эх, Александр Николаевич! Охота тебе пустословить. Или мало тебе было Сибири?».
В этих словах Радищев увидел угрозу. Он не мог жить, примирившись. Он вернулся домой и... отравился. Сохранились предсмертные слова Радищева: «Уйду я лучше от вас, звери, а заветы мои пребудут до лучших дней. Потомки отомстят за меня».
Итак, Радищева не стало!
Мой друг, уже во гробе он!
То сердце, что добром дышало,
Постиг ничтожества закон.
— »—-
Сей друг людей, сей друг природы,
Кто к счастью вел путем свободы,
Навек, навек оставил нас!
Оставил и пришел к покою,
Благословим его мы прах!
Кто столько жертвовал собою,
Не для своих, но общих благ.
Ив. Петр. Пнин «На смерть Радищева».

Радищев был погребен на Волковой кладбище Петербурга, где хоронили бездомных бродяг и прочий подлый люд. Могила великого мятежника была затоптана и забыта.
Не горела на надгробии лампада. Не возлагали к могиле цветы.
Так сурово с великим сыном Отечества судьба не обходилась ни с кем. Самодержавие приготовило самую высокую расплату за дерзость — забвение. Императоры в борьбе с непокорным Радищевым выиграли десятилетия, но проиграли века. Голос протестанта и сейчас обращается к нашей совести: «Не страшиться пожертвовать жизнью, если смерть принесет крепость и славу Отечеству».
Мы не знаем, где находится могила революционера. Эта превратность судьбы только подчеркнула его величие. Он оставался первым русским писателем, которого похоронили на Волковом кладбище. Теперь это известный всему миру музей-некрополь «Литераторские мостки». Отсчет имен русских писателей здесь начинается с Радищева.

Скульптура Шервуд. Первый памятник А. Н. Радищеву.

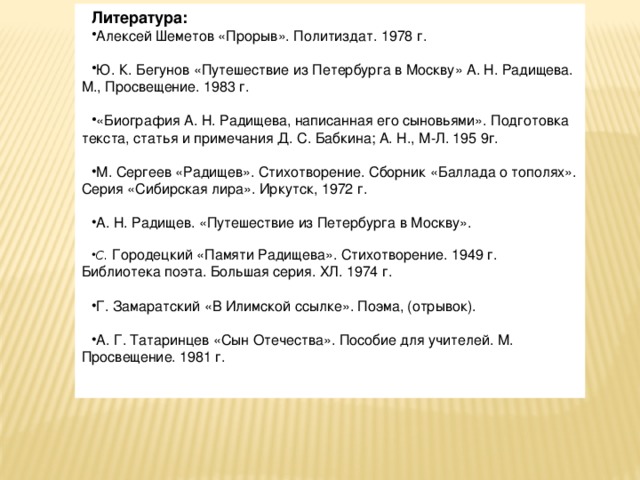
Литература:
- Алексей Шеметов «Прорыв». Политиздат. 1978 г.
- Ю. К. Бегунов «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева. М., Просвещение. 1983 г.
- «Биография А. Н. Радищева, написанная его сыновьями». Подготовка текста, статья и примечания Д. С. Бабкина; А. Н., М-Л. 195 9г.
- М. Сергеев «Радищев». Стихотворение. Сборник «Баллада о тополях». Серия «Сибирская лира». Иркутск, 1972 г.
- А. Н. Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву».
- С. Городецкий «Памяти Радищева». Стихотворение. 1949 г. Библиотека поэта. Большая серия. ХЛ. 1974 г.
- Г. Замаратский «В Илимской ссылке». Поэма, (отрывок).
- А. Г. Татаринцев «Сын Отечества». Пособие для учителей. М. Просвещение. 1981 г.