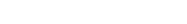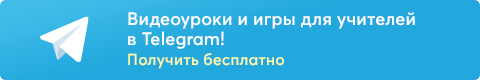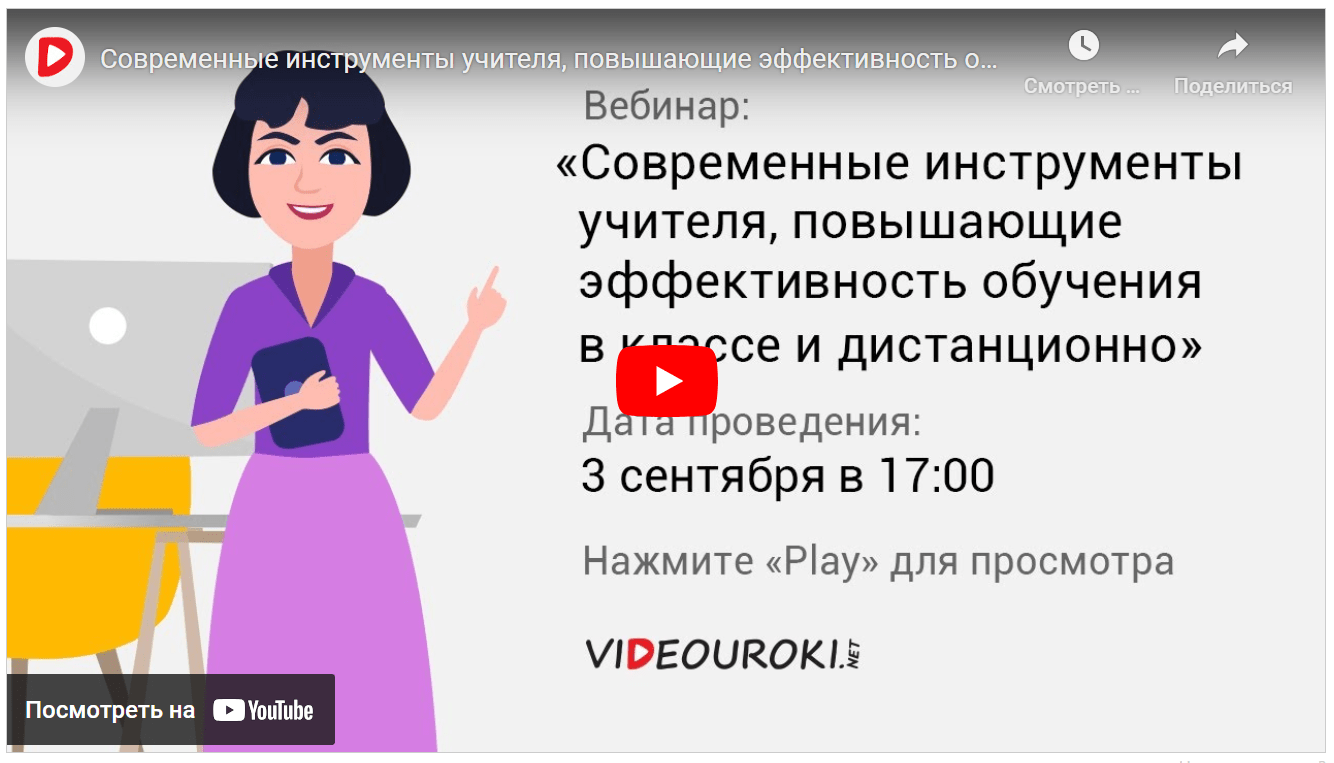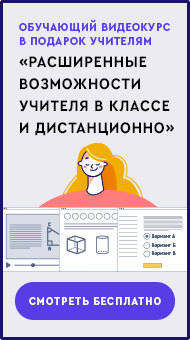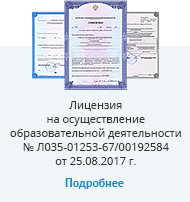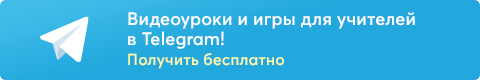
Из «Литературных и житейских воспоминаний» (1852 г.).
Лермонтова я тоже видел всего два раза: в доме одной знатной петербургской дамы, княгини Ш<аховск>ой, и несколько дней спустя на маскараде в Благородном собрании, под новый 1840 год. У княгини Шаховской я, весьма редкий и непривычный посетитель светских вечеров, лишь издали, из уголка, куда я забился, наблюдал за быстро вошедшим в славу поэтом. В наружности Лермонтова было что-то зловещее и трагическое; какой-то сумрачной и недоброй силой, задумчивой презрительностью и страстью веяло от его смуглого лица, от его больших и неподвижно-темных глаз. Их тяжелый взор странно не согласовался с выражением почти детски нежных и выдававшихся губ. Известно, что он до некоторой степени изобразил самого себя в Печорине. Слова «Глаза его не смеялись, когда он смеялся» и т.д. — действительно, применялись к нему. Не было сомнения, что он, следуя тогдашней моде, напустил на себя известного рода бай-роновский жанр, с примесью других, еще худших капризов и чудачеств. И дорого же он поплатился за них! Внутренне Лермонтов, вероятно, скучал глубоко; он задыхался в тесной сфере, куда его втолкнула судьба. На бале дворянского собрания ему не давали покоя, беспрестанно приставали к нему, брали его за руки; одна маска сменялась другою, а он почти не сходил с места и молча слушал их писк, поочередно обращая на них свои сумрачные глаза. Мне тогда же почудилось, что я уловил на лице его прекрасное выражение поэтического творчества.