

СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ
Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно
Скидки до 50 % на комплекты
только до
Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой
Организационный момент
Проверка знаний
Объяснение материала
Закрепление изученного
Итоги урока

Экспериментальная психология
экспериментальная психология.сообщение к семинару
Просмотр содержимого документа
«Экспериментальная психология»
1.Научное исследование: направления, типы, принципы, этапы, структура.
Наука — это сфера человеческой деятельности, результатом которой является новое знание о действительности, отвечающее критерию истинности. Практичность, полезность, эффективность научного знания считаются производными от его истинности. Ученый, а точнее, научный работник, — это профессионал, который строит своею деятельность, руководствуясь критерием «истинность—ложность».
Кроме того, термин «наука» относят ко всей совокупности знаний, полученных на сегодняшний день научным методом.
Результатом научной деятельности может быть описание реальности, объяснение предсказания процессов и явлений, которые выражаются в виде текста, структурной схемы, графической зависимости, формулы и т. д. Идеалом научного поиска считается открытие законов — теоретическое объяснение действительности.
Однако научное познание не исчерпывается теориями. Все виды научных результатов можно условно упорядочить на шкале «эмпирическое — теоретическое знание»: единичный факт, эмпирическое обобщение, модель, закономерность, закон, теория.
От любой другой сферы человеческой деятельности наука отличается своими целями, средствами, мотивами и условиями, в которых научная работа протекает. Цель науки — постижение истины, а способ постижения истины — научное исследование.
Исследование, в отличие от стихийных форм познания окружающего мира, основано на норме деятельности — научном методе. Его осуществление предполагает осознание и фиксацию цели исследования, средств исследования (методологию, подходы, методы, методики), ориентацию исследования на воспроизводимость результата.
Различают эмпирическое и теоретическое исследования, хотя разграничение это условно. Как правило, большинство исследований имеет теоретико-эмпирический характер. Любое исследование осуществляется не изолированно, а в рамках целостной научной программы или в целях развития научного направления.
Исследования по их характеру можно разделить на фундаментальные и прикладные, монодисциплинарные и междисциплинарные, аналитические и комплексные и т. д. Фундаментальное исследование направлено на познание реальности без учета практического эффекта от применения знании.
Прикладное исследование проводится в целях получения знания, которое должно быть использовано для решения конкретной практической задачи. Монодисциплинарные исследования проводятся в рамках отдельной науки (в данном случае — психологии). Как и междисциплинарные, эти исследования требуют участия специалистов различных областей и проводятся на стыке нескольких научных дисциплин. К этой группе можно отнести генетические исследования, исследования в области инженерной психофизиологии, а также исследования на стыке этнопсихологии и социологии.
Комплексные исследования проводятся с помощью системы методов и методик, посредством которых ученые стремятся охватить максимально (или оптимально) возможное число значимых параметров изучаемой реальности.
Однофакторное, или аналитическое, исследование направлено на выявление одного, наиболее существенного, по мнению исследователя, аспекта реальности.
Исследования по цели их проведения можно разделить на несколько типов.
К первому типу относятся поисковые исследования. Хотя название звучит тавтологично, под ним подразумевается попытка решения проблемы, которую никто не ставил или не решал подобным методом. Иногда аналогичные исследования называют исследованиями «методом тыка»: «Попробуем так, может, что-то и получится». Научные работы такого рода направлены на получение принципиально новых результатов в малоисследованной области.
Второй тип — критические исследования Они проводятся в целях опровержения существующей теории, модели, гипотезы, закона и пр. или для проверки того, какая из двух альтернативных гипотез точнее прогнозирует реальность. Критические исследования проводятся в тех областях, где накоплен богатый теоретический и эмпирический запас знаний и имеются апробированные методики для осуществления эксперимента.
Большинство исследований, проводимых в науке, относится к уточняющим. Их цель — установление границ, в пределах которых теория предсказывает факты и эмпирические закономерности. Обычно, по сравнению с первоначальным экспериментальным образцом, изменяются условия проведения исследования, объект, методика. Тем самым регистрируется, на какую область реальности распространяется полученное ранее теоретическое знание.
И, наконец, последний тип — воспроизводящее исследование. Его цель — точное повторение эксперимента предшественников для определения достоверности, надежности и объективности полученных результатов. Результаты любого исследования должны повториться в ходе аналогичного эксперимента, проведенного другим научным работником, обладающим соответствующей компетенцией. Поэтому после открытия нового эффекта, закономерности, создания новой методики и т.п. возникает лавина воспроизводящих исследований, призванных проверить результаты первооткрывателей. Воспроизводящее исследование — основа всей науки. Следовательно, метод и конкретная методика эксперимента должны быть интерсубъективными, т.е. операции, проводимые в ходе исследования, должны воспроизводиться любым квалифицированным исследователем.
Огромный вклад в развитие научной методологии середины и конца XX в. внесли К. Поппер, И. Лакатос, П. Фейерабенд, П. Холтон и ряд других выдающихся философов и ученых. Они основывались на анализе развития нужного знания и реальной деятельности исследователей. Особое влияние на их взгляды оказала революция в естествознании, затронувшая математику, физику, химию, биологию, психологию и другие фундаментальные науки. Изменился сам подход к науке и жизни в науке. В XIXв. ученый, обнаружив факт, закономерность, создав теорию, мог в течение всей жизни защищать свои взгляды от критических нападок и проповедовать их ex cathedra — наука не очень-то отличалась от философии, — надеясь на истинность и неопровержимость своих убеждений. Отсюда — принцип верифицируемости, фактической подтверждаемости теории, выдвинутый О. Контом. В XX в. на протяжении жизни одного поколения научные взгляды на реальность порой претерпевали кардинальные изменения. Старые теории опровергались наблюдением и экспериментом. Ученый в течение активной научной жизни мог для объяснения экспериментальных данных, полученных коллегами, выдвигать последовательно ряд теорий, опровергающих одна другую. Человек перестал отождествлять себя со своей идеей, «паранойяльная» установка оказалась неэффективной и была отвергнута. Теория уже не считалась сверхценностью и превратилась во временный инструмент, который, как резец или фрезу, можно затачивать, но в конце концов он подлежит замене.
Итак, любая теория есть временное сооружение и может быть разрушена. Отсюда — критерий научности знания: научным признается такое знание, которое может быть опровергнуто (признано ложным) в процессе эмпирической проверки. Знание, для опровержения которого нельзя придумать соответствующую процедуру, не может быть научным.
С позиций критического рационализма (так характеризовали свое мировоззрение Поппер и его последователи) эксперимент — это метод опровержения правдоподобных гипотез. Из логики критического рационализма исходят современная теория статистической проверки гипотез и планирование эксперимента.
Принцип потенциальной опровержимости научной теории Поппер назвал принципом фальсифицируемости.
Нормативный процесс научного исследования строится следующим образом:
1. Выдвижение гипотезы (гипотез).
2. Планирование исследования.
3. Проведение исследования.
4. Интерпретация данных.
5. Опровержение или неопровержение гипотезы (гипотез).
6. В случае опровержения старой — формулирование новой гипотезы (гипотез).
Любое исследование включает в себя ряд необходимых этапов.
В самом первом приближении любое научное исследование, в том числе и психологическое, проходит три этапа: 1) подготовительный; 2) основной; 3) заключительный.
На первом этапе формулируются цели и задачи исследования, производится ориентация в совокупности знаний в данной области, составляется программа действий, решаются организационные, материальные и финансовые вопросы. На основном этапе производится собственно исследовательский процесс: ученый с помощью специальных методов вступает в контакт (непосредственный или опосредованный) с изучаемым объектом и производит сбор данных о нем. Именно этот этап обычно в наибольшей степени отражает специфику исследования: изучаемую реальность в виде исследуемых объекта и предмета, область знаний, вид исследования, методическое оснащение. На заключительном этапе производится обработка полученных данных и превращение их в искомый результат. Результаты соотносятся с выдвинутыми целями, объясняются и включаются в имеющуюся в данной области систему знаний.
Приведенные этапы можно разукрупнить, и тогда получим более подробную схему, аналоги которой в том или ином виде приводятся в научной литературе [21, 126, 176]:
I. Подготовительный этап
Постановка проблемы.
Выдвижение гипотезы.
Планирование исследования.
II. Основной этап
4. Сбор данных.
III. Заключительный этап
Обработка данных.
Интерпретация результатов.
Выводы и включение результатов в систему знаний.
Надо сказать, что приведенная последовательность этапов не должна рассматриваться как жесткая и обязательно принимаемая к неуклонному исполнению схема. Это скорее общий принцип алгоритмизации исследовательских действий. В некоторых условиях порядок следования этапов может изменяться, исследователь может возвращаться к пройденным этапам, не завершив или даже не приступив к исполнению последующих, отдельные этапы могут выполняться частично, а некоторые даже выпадать. Такая свобода выполнения этапов и операций предусматривается при так называемом гибком планировании.
Все методы современной науки делятся на теоретические и эмпирические. Деление это весьма условное.
В качестве самостоятельного можно выделить метод моделирования, имеющий собственную специфику.
Кроме того, от теоретических и эмпирических методов отличают интерпретационные методы, в частности методы представления и обработки данных.
При проведении теоретического исследования ученый имеет дело не с самой реальностью, а с ее мысленной репрезентацией — представлением в форме умственных образов, формул, пространственно-динамических моделей, схем, описаний в естественном языке и т. д. Теоретическая работа совершается «в уме».
Эмпирическое исследование проводится для проверки правильности теоретических построений; ученый взаимодействует с самим объектом, а не с его знаково-символическим или пространственно-образным аналогом. Обрабатывая и интерпретируя данные эмпирического исследования, экспериментатор так же, как и теоретик, работает с графиками, таблицами, формулами, но взаимодействие с ними протекает в основном «во внешнем плане действия»: рисуются схемы, с помощью компьютера делаются расчеты и пр. В теоретическом исследовании проводится «мысленный эксперимент», когда идеализированный объект исследования (точнее — умственный образ) ставится в различные условия (также мысленные), после чего, на основе логических рассуждений, анализируется его возможное поведение.
Метод моделирования отличен как от теоретического метода, дающего обобщенное, абстрагированное знание, так и от эмпирического. При моделировании исследователь пользуется методом аналогий, умозаключением «от частного к частному», тогда как экспериментатор работает с помощью методов индукции (математическая статистика является современным вариантом индуктивного вывода). Теоретик пользуется правилами дедуктивного умозаключения, разработанными еще Аристотелем.
Для исследователя, применяющего моделирование, модель — аналог объекта. Моделирование используется тогда, когда невозможно провести экспериментальное исследование объекта. К таким объектам относятся уникальные системы, недоступные экспериментальному изучению, или системы, на которых эксперимент производить по моральным соображениям нельзя: Вселенная, Солнечная система, экосистема национального парка «Лосиный остров» и человек как объект, например, ряда медицинских и психофармакологических исследований. Иногда модель выбирается исходя из принципа удобства, большей простоты и экономичности проведения исследования. Так, вместо испытания гигантского корабля первоначально исследуется его плавучесть на модели (с учетом принципиально важных масштабных искажений). Вместо того чтобы исследовать особенности элементарных форм научения и познавательной активности у человека, психологи успешно используют для этого «биологические модели»: крыс, обезьян, кроликов и даже свиней.
Различают «физическое» и «знаково-символическое» моделирование. «Физическая» модель исследуется экспериментально. «Знаково-символическая» модель, как правило, реализуется в виде более или менее сложной компьютерной программы, и исследование ее поведения — дело теоретиков.
К общенаучным эмпирическим методам относятся: 1) наблюдение, 2) эксперимент, 3) измерение. Рассмотрим их особенности, возможности, которые они предоставляют исследователю, и недостатки.
Первый метод, с которым обычно начинают знакомить студентов, — наблюдение. В ряде наук это единственный эмпирический метод. Классической наблюдательной наукой является астрономия. Все ее достижения связаны с совершенствованием техники наблюдения. Не меньшее значение наблюдение имеет в поведенческих науках. Основные результаты в этологии (науке о поведении животных) получены с помощью наблюдения за активностью животных в естественных условиях. Наблюдение имеет огромное значение в физике, химии, биологии. С наблюдением связан так называемый идиографический подход к исследованию реальности. Последователи этого подхода считают его единственно возможным в науках, изучающих уникальные объекты, их поведение и историю.
Идиографический подход требует наблюдения и фиксации единичных явлений и событий. Он широко применяется в исторических дисциплинах. Важное значение он имеет и в психологии. Достаточно вспомнить такие исследования, как работа А. Р. Лурии «Маленькая книжка о большой памяти» или монография 3. Фрейда «Леонардо да Винчи».
Идиографическому подходу противостоит номотетический подход — исследование, выявляющее общие законы развития, существования и взаимодействия объектов.
Наблюдение является методом, на основе которого можно реализовать или номотетический, или идиографический подход к познанию реальности.
Наблюдением называется целенаправленное, организованное и определенным образом фиксируемое восприятие исследуемого объекта. Результаты фиксации данных наблюдения называются описанием поведения объекта.
Наблюдение может проводиться непосредственно или же с использованием технических средств и способов регистрации данных (фото-, аудио- и видеоаппаратура, карты наблюдения и пр.). Однако с помощью наблюдения можно обнаружить лишь явления, встречающиеся в обычных, «нормальных» условиях, а для познания существенных свойств объекта необходимо создание особых условий, отличных от «нормальных». Кроме того, наблюдение не позволяет исследователю целенаправленно варьировать условия наблюдения в соответствии с замыслом. Исследователь не может воздействовать на объект, чтобы познать его характеристики, скрытые от непосредственного восприятия.
Эксперимент позволяет выявить причинные зависимости и ответить на вопрос: «Что вызвало изменение в поведении?» Наблюдение применяется тогда, когда либо невозможно, либо непозволительно вмешиваться в естественное течение процесса.
Главными особенностями метода наблюдения являются:
— непосредственная связь наблюдателя и наблюдаемого объекта;
— пристрастность (эмоциональная окрашенность) наблюдения;
— сложность (порой — невозможность) повторного наблюдения.
В естественных науках наблюдатель, как правило, не влияет на изучаемый процесс (явление). В психологии существует проблема взаимодействия наблюдателя и наблюдаемого. Если испытуемый знает, что за ним наблюдают, то присутствие исследователя оказывает влияние на его поведение.
Ограниченность метода наблюдения вызвала к жизни другие, более «совершенные» методы эмпирического исследования: эксперимент и измерение. Эксперимент и измерение позволяют объективировать процесс, ибо они проводятся с использованием специальной аппаратуры и способов объективной регистрации результатов в количественной форме.
В отличие от наблюдения и измерения, эксперимент позволяет воспроизводить явления реальности в специально созданных условиях и тем самым выявлять причинно-следственные зависимости между явлением и особенностями внешних условий.
Измерение проводится как в естественных, так и в искусственно созданных условиях. Отличие измерения от эксперимента состоит в том, что исследователь не стремится воздействовать на объект, но регистрирует его характеристики такими, какими они являются «объективно», независимо от исследователя и методики измерения (последнее для ряда наук невыполнимо).
В отличие от наблюдения, измерение проводится в ходе приборно-опосредованного взаимодействия объекта и измерительного инструмента: естественное «поведение» объекта не модифицируется, но контролируется и регистрируется прибором. При измерении невозможно выявить причинно-следственные зависимости, но можно установить связи между уровнями разных параметров объектов. Так измерение превращается в корреляционное исследование.
Измерение обычно определяют как некоторую операцию, с помощью которой вещам приписываются числа. С математической точки зрения, это «приписывание» требует установления соответствия между свойствами чисел и свойствами вещей.
С методической точки зрения, измерение — это регистрация состояния объекта (объектов) на основе регистрации изменения состояний другого объекта (прибора). При этом должна быть определена функция, связывающая состояния объекта и прибора. Операция приписывания чисел объекту является вторичной: числовые значения на шкале прибора мы считаем не показателями прибора, а количественными характеристиками состояния объекта. Специалисты по теории измерений всегда большее внимание уделяли второй процедуре — интерпретации показателей, а не первой — описанию взаимодействия прибора и объекта. В идеале операция интерпретации должна точно описывать процесс взаимодействия объекта и прибора, а именно — влияние характеристик объекта на его показания.
Итак, измерение можно определить как эмпирический метод выявления свойств или состояний объекта путем организации взаимодействия объекта с измерительным прибором, изменения состояний которого зависят от изменения состояния объекта. Прибором может быть не только внешний по отношению к исследователю предмет, например, линейка — прибор для измерения длины. Сам исследователь может быть измерительным инструментом: «человек есть мера всех вещей». И действительно, ступня, палец, предплечье служили первичными мерами длины (фут, дюйм, локоть и пр.). Так же и с «измерением» человеческого поведения: особенности поведения другого человека исследователь может оценивать непосредственно — тогда он превращается в эксперта. Такой вид измерения сходен с наблюдением. Но существует инструментальное измерение, когда психолог применяет какую-нибудь измерительную методику, например тест на интеллект.
Психологическим измерением считают оценку величины тех или иных параметров реальности, сходств и различий объектов реальности, и оценку эту производит испытуемый. На основании этих оценок исследователь «измеряет» особенности субъективной реальности испытуемого. В этом смысле «психологическое измерение» является задачей, данной испытуемому.
Психологическое измерение во втором значении, о котором мы и будем говорить в дальнейшем, проводится исследователем для оценки особенностей поведения испытуемого. Это — задача психолога, а не испытуемого.
Наблюдение условно можно отнести к «пассивным» методам исследования. Действительно, наблюдая поведение людей или измеряя параметры поведения, мы имеем дело с тем, что нам предоставляет природа «здесь-и-теперь». Мы не можем повторно провести наблюдение в удобное для нас время и воспроизвести процесс по своей воле. При измерении мы регистрируем лишь «внешние» свойства; зачастую, чтобы выявить «скрытые» свойства, необходимо «спровоцировать» изменение объекта или его поведения, сконструировав иные внешние условия.
Для установления причинно-следственных связей между явлениями и процессами проводится эксперимент. Исследователь старается изменить внешние условия так, чтобы повлиять на изучаемый объект. При этом внешнее воздействие на объект считается причиной, а изменение состояния (поведения) объекта — следствием.
Эксперимент является «активным» методом изучения реальности. Исследователь не только задает вопросы природе, но и «вынуждает» ее на них отвечать. Наблюдение и измерение позволяют ответить на вопросы «Как? Когда? Каким образом?», а эксперимент отвечает на вопрос «Почему?».
Экспериментом называется проведение исследований в специально созданных, управляемых условиях в целях проверки экспериментальной гипотезы о причинно-следственной связи. В процессе эксперимента исследователь всегда наблюдает за поведением объекта и измеряет его состояние. Процедуры наблюдения и измерения входят в процесс эксперимента. Кроме того, исследователь воздействует планово и целенаправленно на объект, чтобы измерить его состояние. Эта операция называется экспериментальным воздействием.
Эксперимент — основной метод современного естествознания и естественнонаучно ориентированной психологии. В научной литературе термин «эксперимент»
Таблица 1.1
|
| Активный | Пассивный |
| Опосредованный | Эксперимент | Измерение |
| Непосредственный | Беседа | Наблюдение |
применяется как к целостному экспериментальному исследованию — серии экспериментальных проб, проводимых по единому плану, так и к единичной экспериментальной пробе — опыту.
Подводя промежуточный итог, отметим, что наблюдение является непосредственным, «пассивным» методом исследования. Измерение — «пассивный», но опосредованный метод. Эксперимент — «активный», но также опосредованный метод изучения реальности.
Теоретически возможен и четвертый вид эмпирического исследования: непосредственный и «активный», при котором исследователь без приборов регистрации и воздействия взаимодействует с объектом, активно меняя его состояние. Такой метод возможен, наверное, только в психологии, и называется он беседой, а шире — коммуникативным методом.
Таким образом, получаем простейшую классификацию эмпирических методов исследования, представленную в таблице (табл. 1.1).
С точки зрения Б. Г. Ананьева, методы психологического исследования являются системами операций с психологическими объектами и вместе с тем гносеологическими объектами психологической науки.
Рассматривая проблему применения эмпирических методов в психологии (если следовать требованиям системного подхода), нужно начать с определения их места в системе психологических методов. Можно выделить, по крайней мере, пять уровней:
1. Уровень методики.
2. Уровень методического приема.
3. Уровень метода (эксперимент, наблюдение и пр.).
4. Уровень организации исследования.
5. Уровень методологического подхода.
Правда, термин «метод» может применяться к любому из уровней. Например, в психофизике есть метод средней ошибки, метод границ; в психодиагностике — проективный метод (уровень 2); в психосемантике говорят о методе семантического дифференциала и о методе репертуарных решеток (уровень 1); в психологии развития обсуждают психогенетический метод и его разновидности — близнецовый метод (уровень 4).
Приведенное уровневое деление способов, применяемых в психологическом исследовании, близко к тому, которое предложил Г. Д. Пирьов, разделив «методы» на
1) собственно методы (наблюдение, эксперимент, моделирование и пр.),
2) методические приемы и
3) методические подходы (генетический, психофизиологический и пр.).
С. Л. Рубинштейн в «Основах общей психологии» [Рубинштейн С. Л., 1946] в качестве главных психологических методов выделил наблюдение и эксперимент. Наблюдение подразделялось на «внешнее» и «внутреннее» (самонаблюдение), эксперимент — на лабораторный, естественный и психолого-педагогический плюс вспомогательный метод — физиологический эксперимент в его основной модификации (метод условных рефлексов). Кроме того, он выделил приемы изучения продуктов деятельности, беседу (в частности, клиническую беседу в генетической психологии Пиаже) и анкету.
Вторая развернутая классификация методов психологического исследования, получившая распространение в отечественной психологии благодаря Б.Г. Ананьеву, — классификация болгарского психолога Г.Д. Пирьова [Пирьов Г.Д., 1985].
Он выделил как самостоятельные методы:
наблюдение (объективное — непосредственное и опосредованное, субъективное — непосредственное и опосредованное),
эксперимент (лабораторный, естественный и психолого-педагогический),
моделирование,
психологическую характеристику,
вспомогательные методы (математические, графические, биохимические и др.),
специфические методические подходы (генетические, сравнительный и др.). Каждый из этих методов подразделяется на ряд других.
Так, например, наблюдение (опосредованное) делится на анкеты, вопросники, изучение продуктов деятельности и др.
Б.Г. Ананьев [Ананьев Б.Г., 1977] подверг критике классификацию Пирьова, предложив другую. Все методы он разделил на:
1) организационные (4-й и 5-й уровни, выделенные нами выше);
2) эмпирические;
3) способы обработки данных и
4) интерпретационные.
К организационным методам Ананьев отнес сравнительный, лонгитюдный и комплексный.
Во второй группе оказались обсервационные методы (наблюдение и самонаблюдение), эксперимент (лабораторный, полевой, естественный и др.), психодиагностический метод, анализ процессов и продуктов деятельности (праксиометрические методы), моделирование и биографический метод.
В третью группу вошли методы математико-статистического анализа данных и качественного описания.
Наконец, четвертую группу составили генетический (фило- и онтогенетический) и структурные методы (классификация, типологизация и др.).
Существуют и другие подходы к описанию и классификации методов психологического исследования, но практически всегда ставится знак тождества между эмпирическими методами психологического исследования и психологическими методами вообще, что затрудняет определение специфики тех и других.
Целесообразно по аналогии с другими науками выделить в психологии три класса методов:
1. Эмпирические, при которых осуществляется внешнее реальное взаимодействие субъекта и объекта исследования.
2. Теоретические, когда субъект взаимодействует с мысленной моделью объекта (точнее — предметом исследования).
3. Итерпретация и описание, при которых субъект «внешне» взаимодействует со знаково-символическим представлением объекта (графиками, таблицами, схемами).
Результатом применения первой группы методов являются данные, фиксирующие состояния объекта показаниями приборов, состояниями субъекта, памятью компьютера, продуктами деятельности и др.
Результат применения теоретических методов представлен знанием о предмете в форме естественноязыковой, знаково-символической или пространственно-схематической.
Наконец, интерпретационно-описательные методы — это «место встречи» результатов применения теоретических и экспериментальных методов и место их взаимодействия. Данные эмпирического исследования, с одной стороны, подвергаются первичной обработке и представлению в соответствии с требованиями, предъявляемыми к результатам со стороны организующих исследование теории, модели, индуктивной гипотезы.
С другой стороны, происходит интерпретация этих данных в терминах конкурирующих концепций на предмет соответствия гипотез результатам. Продуктом интерпретации являются факт, эмпирическая зависимость и в конечном счете оправдание или опровержение гипотезы.
Интерпретационно-описательные методы играют важнейшую, хотя и не очевидную роль в целостном психологическом исследовании. Зачастую именно отрефлексированное исследователем владение этими методами предопределяет успех научной программы. Особенности описательных методов в психологии подробно изложены в монографии В. А. Ганзена [Ганзен В. А., 1984], хотя в ней и не проводится различие между описанием как теорией и описанием эмпирических данных.
Рассмотрим еще одну классификацию психологических эмпирических методов.
РАНЕЕ была приведена классификация, которая разделяла методы по двум основаниям, связанным с познавательной деятельностью исследователя: активность — пассивность; наличие средств — непосредственность.
В психологическом исследовании объект также может быть активным, ведем ли мы речь о человеке или животном. Человек в качестве испытуемого является субъектом общения, познания и деятельности, как и исследователь. Следовательно, при классификации эмпирических психологических методов нужно учесть и эту особенность.
В психологии большое значение имеет интерпретация и понимание поведения испытуемого. Процесс понимания в каком-то смысле противоположен процессу измерения. При измерении мы максимально стремимся объективировать результаты исследования, а используя понимание, наоборот, субъективно интерпретируем поведение испытуемого в своих собственных смысловых единицах.
Удобно располагать все психологические эмпирические методы в двухмерном пространстве, оси которого обозначают два специфических признака психологического исследования. Первый — наличие или отсутствие взаимодействия между испытуемым и исследователем или же интенсивность этого взаимодействия. Оно максимально в клиническом эксперименте и минимально при самонаблюдении (исследователь и исследуемый — одно лицо). Второй — объективированность и субъективированность процедуры. Крайними вариантами являются тестирование (или измерение) и «чистое» понимание поведения другого человека путем «вчувствования», эмпатии, сопереживания, личностной интерпретации его действий. Нельзя сказать, что во втором случае исследователь не использует никаких средств: они есть, но «внутренние» (в смысле Л. С. Выготского), — личный опыт исследователя, индивидуальные смыслы, приемы интерпретации и т. д. Средства, которые исследователь использует в измерении, — внешние (приборы, тесты и т. д.). Эти два специфических признака, разделяющие психологические методы на типы, можно назвать и по-другому. Первый образует ось «два субъекта — один субъект», или «внешний» диалог — «внутренний» диалог. Второй образует ось «внешние» средства — «внутренние» средства, или «измерение — интерпретация».
В квадратах, образованных этими осями, можно расположить основные психологические эмпирические методы (рис. 2.5).

Психологический эксперимент с этой точки зрения является методом, в котором взаимодействие с испытуемым сочетается с объективной регистрацией его поведения.
Наблюдением называется целенаправленное, организованное восприятие и регистрация поведения объекта. Наблюдение наряду с самонаблюдением является старейшим психологическим методом.
Как научный эмпирический метод наблюдение широко применяется с конца XIX в. в клинической, социальной, педагогической психологии, психологии развития, а с начала XX в. — в психологии труда, т. е. в тех областях, где особое значение имеет фиксация особенностей естественного поведения человека в привычных для него условиях, где вмешательство экспериментатора нарушает процесс взаимодействия человека со средой. Тем самым для наблюдения особое значение имеет сохранение «внешней» валидности.
Различают несистематическое и систематическое наблюдение. Несистематическое наблюдение проводится в ходе полевого исследования и широко применяется в этнопсихологии, психологии развития, социальной психологии. Для исследователя, проводящего несистематическое наблюдение, важны не фиксация причинных зависимостей и строгое описание явления, а создание некоторой обобщенной картины поведения индивида либо группы в определенных условиях.
Систематическое наблюдение проводится по определенному плану. Исследователь выделяет регистрируемые особенности поведения (переменные) и классифицирует условия внешней среды. План систематического наблюдения соответствует схеме квазиэксперимента или корреляционного исследования.
Различают «сплошное» и выборочное наблюдение. В первом случае исследователь (или группа исследователей) фиксирует все особенности поведения, доступные для максимально подробного наблюдения. Во втором случае он обращает внимание лишь на определенные параметры поведения или типы поведенческих актов, например, фиксирует только частоту проявления агрессии либо время взаимодействия матери и ребенка в течение дня и т. д.
Наблюдение может проводиться непосредственно либо с использованием наблюдательных приборов и средств фиксации результатов. К их числу относятся аудио-, фото- и видеоаппаратура, особые карты наблюдения и т. д.
Фиксация результатов наблюдения может производиться в процессе наблюдения либо по прошествии времени. В последнем случае возрастает значение памяти наблюдателя, «страдает» полнота и надежность регистрации поведения, а следовательно, и достоверность полученных результатов. Особое значение имеет проблема наблюдателя. Поведение человека или группы людей изменяется, если они знают, что за ними наблюдают со стороны. Этот эффект возрастает, если наблюдатель неизвестен группе или индивиду, если он авторитетен, значим и может компетентно оценить поведение испытуемых. Особенно сильно эффект наблюдателя проявляется при обучении сложным навыкам, выполнении новых и сложных задач, а также в ходе групповой деятельности. В некоторых случаях, например при исследовании «закрытых групп» (банд, воинских коллективов, подростковых группировок и т. д.), внешнее наблюдение исключено. Включенное наблюдение предполагает, что наблюдатель сам является членом группы, поведение которой он исследует. При исследовании индивида, например ребенка, наблюдатель находится в постоянном естественном общении с ним.
Есть два варианта включенного наблюдения: 1) наблюдаемые знают о том, что их поведение фиксируется исследователем (например, при изучении динамики поведения в группе альпинистов или экипажа подводной лодки); 2) наблюдаемые не знают, что их поведение фиксируется (например, дети, играющие в комнате, одна стена которой — зеркало Гезелла; группа заключенных в общей камере и т. д.).
В любом случае важнейшую роль играет личность психолога — его профессионально важные качества. При открытом наблюдении через определенное время люди привыкают к психологу и начинают вести себя естественно, если он сам не провоцирует «особое» отношение к себе. В том случае, когда применяется скрытое наблюдение, «разоблачение» исследователя может иметь самые серьезные последствия не только для успеха исследования, но и для здоровья и жизни самого наблюдателя.
Кроме того, включенное наблюдение, при котором исследователь маскируется, а цели наблюдения скрываются, порождает серьезные этические проблемы. Многие психологи считают недопустимым проведение исследований «методом обмана», когда его цели скрываются от исследуемых людей и/или когда испытуемые не знают, что они — объекты наблюдения или экспериментальных манипуляций.
Модификацией метода включенного наблюдения, сочетающей наблюдение с самонаблюдением, является «трудовой метод», который очень часто использовали зарубежные и отечественные психотехники в 20-30-х гг. нашего века.
Процедура исследования методом наблюдения состоит из следующих этапов:
1) определяются предмет наблюдения (поведение), объект (отдельные индивиды или группа), ситуации;
2) выбирается способ наблюдения и регистрации данных;
3) строится план наблюдения (ситуации — объект — время);
4) выбирается метод обработки результатов;
5) проводится обработка и интерпретация полученной информации.
Предметом наблюдения могут являться различные особенности вербального и невербального поведения. Исследователь может наблюдать: 1) речевые акты (содержание, последовательность, частоту, продолжительность, интенсивность и т.д.); 2) выразительные движения, экспрессию лица, глаз, тела и др.; 3) движения (перемещения и неподвижные состояния людей, дистанцию между ними, скорость и направление движений и пр.); 4) физические воздействия (касания, толчки, удары, усилия, передачи и т. д.).
Главная проблема регистрации результатов наблюдения — категоризация поведенческих актов и параметров поведения. Помимо этого наблюдатель должен уметь точно устанавливать отличие по поведенческому акту одной категории от другой.
Соблюдение операциональной валидности при проведении исследования методом наблюдения всегда вызывает наибольшие сложности. Влияние субъекта исследования — наблюдателя, его индивидуально-психологических особенностей также чрезвычайно велико. При такой фиксации поведения наблюдаемых индивидов можно избежать субъективной оценки, используя (если это позволяют условия) средства регистрации (аудио- или видеозапись). Но субъективную оценку нельзя исключить на этапе вторичной кодировки и интерпретации результатов. Тогда здесь требуется участие экспертов, чьи мнения и оценки «обрабатываются»; вычисляется коэффициент согласованности; к рассмотрению принимаются лишь те случаи, в отношении которых проявляется наибольшая согласованность мнений экспертов.
Какие же конкретные недостатки метода наблюдения нельзя в принципе исключить? В первую очередь, все ошибки, допущенные наблюдателем. Искажение восприятия событий тем больше, чем сильнее наблюдатель стремится подтвердить свою гипотезу. Он устает, адаптируется к ситуации и перестает замечать важные изменения, делает ошибки при записях и т. д. и т. п.
А. А. Ершов (1977) выделяет следующие типичные ошибки наблюдения:
1. Гало-эффект. Обобщенное впечатление наблюдателя ведет к грубому восприятию поведения, игнорированию тонких различий.
2. Эффект снисхождения. Тенденция всегда давать положительную оценку происходящему.
3. Ошибка центральной тенденции. Наблюдатель стремится давать усредненную оценку наблюдаемому поведению.
4. Ошибка корреляции. Оценка одного признака поведения дается на основании другого наблюдаемого признака (интеллект оценивается по беглости речи).
5. Ошибка контраста. Склонность наблюдателя выделять у наблюдаемых черты, противоположные собственным.
6. Ошибка первого впечатления. Первое впечатление об индивиде определяет восприятие и оценку его дальнейшего поведения.
Однако наблюдение является незаменимым методом, если необходимо исследовать естественное поведение без вмешательства извне в ситуацию, когда нужно получить целостную картину происходящего и отразить поведение индивидов во всей полноте.
Наблюдение может выступать в качестве самостоятельной процедуры и рассматриваться как метод, включенный в процесс экспериментирования. Результаты наблюдения за испытуемыми в ходе выполнения ими экспериментального задания являются важнейшей дополнительной информацией для исследователя. Не случайно величайшие естествоиспытатели, такие как Ч. Дарвин, В. Гумбольдт, И. П. Павлов, К. Лоренц и многие другие, считали метод наблюдения главным источником научных фактов.
Анализ и сравнение многочисленных определений эксперимента демонстрирует их несогласованность и неполноту.
Избежать определения эксперимента в психологии невозможно. Поэтому попытаемся в кратком виде обобщить соответствующие сведения.
Считается, что главное отличие эксперимента в психологии (впрочем, как и других психологических методов) от эксперимента в других науках предопределено основным объектом исследования. Человек как объект изучения в силу своей активности и сознательности очень сильно влияет как на процесс, так и на результаты исследования. Отсюда вытекают особые требования к процессу экспериментирования, рассматриваемому как процесс общения экспериментатора с испытуемым [147,148].
Главное же отличие психологического эксперимента от других психологических методов заключается в том, что он дает возможность внутреннему психическому явлению адекватно и однозначно проявиться во внешнем поведении, доступном объективному наблюдению. Адекватность и однозначность объективизации экспериментально вызываемых психических явлений достигаются за счет целенаправленного жесткого контроля условий их возникновения и протекания. С. Л. Рубинштейн писал на этот счет: «Основная задача психологического эксперимента заключается в том, чтобы сделать доступными для объективного внешнего наблюдения существенные особенности внутреннего психического процесса. Для этого нужно, варьируя условия протекания внешней деятельности, найти ситуацию, при которой внешнее протекание акта адекватно отражало бы его внутреннее психическое содержание. Задача экспериментального варьирования условий при психологическом эксперименте заключается прежде всего в том, чтобы вскрыть правильность одной единственной психологической интерпретации действия или поступка, исключив возможность всех остальных» [328, с. 37].
Осуществление главной цели экспериментального метода – предельно возможной однозначности в понимании связей между явлениями внутренней психической жизни и их внешними проявлениями – достигается благодаря следующим основным особенностям эксперимента: 1) инициатива экспериментатора в появлении интересующих его психологических фактов; 2) возможность варьирования условий возникновения и развития этих явлений; 3) строгий контроль и фиксация условий и процесса их протекания; 4) изоляция одних и акцентирование других факторов, обусловливающих изучаемые феномены, дает возможность выявления закономерностей их существования; 5) возможность повторения условий эксперимента позволяет многократную проверку получаемых научных данных и их накопление, что значительно повышает их надежность; 6) варьирование условий предполагает не только присутствие или отсутствие каких-то элементов экспериментальной ситуации, но и их количественные изменения, что позволяет выявленные закономерности представлять в строгих количественных выражениях.
Все сказанное позволяет определить эксперимент как метод, при котором исследователь сам вызывает интересующие его явления и изменяет условия их протекания с целью установления причин возникновения этих явлений и закономерностей их развития. Кроме того, получаемые научные факты могут неоднократно воспроизводиться благодаря управляемости и строгому контролю условий, что дает возможность их проверки, а также накопления количественных данных, на основе которых можно судить о типичности или случайности изучаемых явлений.
Основные элементы экспериментального методаГлавными компонентами любого эксперимента являются: 1) испытуемый (исследуемый субъект или группа); 2) экспериментатор (исследователь); 3) стимуляция (выбранный экспериментатором раздражитель, направленный на испытуемого); 4) ответ испытуемого на стимуляцию (его психическая реакция); 5) условия опыта (дополнительные к стимуляции воздействия на испытуемого, которые могут влиять на его ответы).
Ответ испытуемого является той внешней реальностью, по которой можно судить о протекающих в его внутреннем субъективном пространстве процессах. Сами эти процессы есть результат воздействий на него стимуляции и условий опыта.
Если ответ испытуемого обозначить символом R (от лат. reactio – реакция, противодействие), а воздействия на него экспериментальной ситуации (как совокупности воздействий стимуляции и условий эксперимента) – символом S (от франц. situation – ситуация), то их соотношение можно выразить формулой R=f(S). To есть реакция есть функция от ситуации. Но эта формула верна лишь как первое приближение. Именно ею пользуется бихевиоризм, игнорирующий активную роль психики. В действительности реакция на ситуацию всегда опосредована психикой. В отношении человека лучше говорить об опосредовании ответов его личностью (Р – от лат. persona). И более того, в понятие «ситуация» необходимо включить и влияние на испытуемого экспериментатора, проводящего опыт. Действительно, отношения, сложившиеся между исследователем и испытуемым, могут в значительной степени влиять на ответы последнего. Об этой специфике эксперимента подробнее поговорим позже, а сейчас зафиксируем соотношение между основными элементами эксперимента: Р = f(P, S).
В зависимости от задач исследования различают три классических типа отношений между этими тремя компонентами эксперимента: 1) функциональные отношения, 2) структурные отношения, 3) дифференциальные отношения [388].
Функциональные отношения характеризуются вариативностью ответов (R) испытуемого (Р) при систематических качественных или количественных изменениях ситуации (S). Различия в реакциях свидетельствуют о различиях в способах взаимодействия субъекта и среды. Графически эти отношения можно отразить следующей схемой:

Примеры: изменение величины ощущения (R) от изменения величины стимула (S); эффективность запоминания (R) от объема материала (S) или числа повторений (S); вид и интенсивность эмоционального отклика (R) на действие различных эмоциоген-ных факторов (S); развитие адаптационных процессов (R) во времени (S) и т. д.
![]()
Структурные отношения раскрываются через систему ответов (Rp ..., Rn) на различные ситуации (Sl5..., Sn). Отношения между отдельными ответами структурируются в систему, отражающую структуру личности (Р). Схематически это выглядит так:
Примеры: система эмоциональных реакций на действие стрессоров; семантическое индивидуальное пространство; отношение между уровнями эффективности решения различных интеллектуальных задач и т. п.
Дифференциальные отношения выявляются через анализ реакций (Rp ..., Rn) разных испытуемых (Рр ... , Рп) на одну и ту же ситуацию (S). Различия в ответах характеризуют индивидуальные различия испытуемых. Схема этих отношений такова:

Примеры: разница в скорости реакции у разных людей; различия в точности исполнения движений у представителей разных профессий; развитие интеллекта в онтогенезе (когда человек в разные возрастные периоды рассматривается как разные индивиды); национальные различия в проявлении эмоций; половые различия в какой-либо деятельности и т. д.
Уровни экспериментаВ зависимости от задачи исследования эксперимент может осуществляться на трех уровнях: 1) качественном, 2) факторном, 3) функциональном. Речь идет об уровнях, потому что эта градация связана со степенью информативности получаемых экспериментальных данных.
На качественном уровне задача состоит в получении данных, характеризующих какое-либо изучаемое явление, какого-либо человека как нечто отдельное, вне связи с другими явлениями. Это данные для описания психологического факта самого по себе, вне контекста влияний на него, вне его динамики. В этом варианте эксперимента интерес представляет только сама по себе ЗП, без выяснения ее связей с НП. Таким образом просто констатируется наличие и степень выраженности исследуемого феномена. Примеры: тип памяти; уровень эмоциональности; острота зрения; интеллектуальные особенности и т. д. Этому уровню эксперимента соответствует процедура тестирования.
На факторном уровне устанавливается наличие или отсутствие зависимости отдельного явления от каких-либо факторов. Иначе говоря, выясняется, появится или не появится ЗП при действии НП. Примеры: факт зависимости скорости запоминания или срока хранения от структурированности материала; способ решения задачи от установки; появление кожно-гальванической реакции (КГР) при эмоциональном воздействии и т. д. Эксперименты этого уровня иногда называют поисковыми, исследовательскими (в английской транскрипции – эксплораторными) [120], что, на наш взгляд, неточно. Функциональный уровень характеризуется выявлением характера связей между явлениями. Эксперимент на этом уровне позволяет ответить на вопрос, как изменяется одно явление при изменении другого? То есть какой функцией ЗП связана с НП. Примеры: зависимость времени реакции от интенсивности стимула; основной психофизический закон; психофизические шкалы; влияние объема материала на число повторений при запоминании и т. д. Ясно, что это высший по информативности уровень экспериментирования. Эксперименты этого уровня изредка называют подтверждающими (конфирматорными) как альтернатива экспериментам предыдущего уровня. Но как термин «исследовательский» не отражает сути факторного уровня, так и термин «подтверждающий» не отражает сути функционального уровня экспериментирования.
Квазиэксперимент. «Промежуточный» между естественными методами проведения исследования и методами, где применяется строгий контроль переменных. Часто его отождествляют (в частности, Ф.-Дж. МакГиган) с методом систематического наблюдения, при котором экспериментатор не воздействует на исследуемый объект. Но такая точка зрения не оправданна. Другое дело, что воздействие может быть выделено в природе как независимое от исследователя, естественно происходящее, но в этом случае мы получаем исследовательский метод, занимающий именно промежуточное положение между экспериментом и наблюдением. Под квазиэкспериментом принято понимать такой метод, при котором не удается полностью реализовать схему, предписываемую идеальным исследованием, но эти отношения частично компенсируются использованием особых квазиэкспериментальных планов.
Экспериментальный процесс, во-первых, есть процесс общения исследователя с испытуемым и, во-вторых, есть процесс выполнения каждым из них своих специфических, но взаимосвязанных функций, определяющих своеобразие выполняемых ими индивидуальных деятельностей, напрашхенных на получение единого результата. Таким образом, работу экспериментатора и испытуемого следует рассматривать как совместную деятельность. Действительно, здесь обнаруживаются все основные признаки совместной деятельности: 1) пространственное и временное соприсутствие; 2) наличие организующего и руководящего элемента (в лице экспериментатора); 3) наличие единой цели (в форме успешного выполнения экспериментальных задач); 4) разделение процесса деятельности между участниками; 5) возникновение в процессе деятельности межличностных отношений. Очевидно, что успех этой совместной деятельности в эксперименте в огромной степени зависит от слаженности работы исследователя и испытуемого, от их взаимопонимания и благорасположения друг к другу и к целям исследования. Действие этих факторов не ограничивается только рамками собственно экспериментальной ситуации. Определяющие взаимосвязи экспериментатора и испытуемого присутствуют и до, и после эксперимента.
Экспериментальное общениеПсихологический эксперимент — это совместная деятельность испытуемого и экспериментатора, которая организуется экспериментатором и направлена на исследование особенностей психики испытуемых.
Процессом, организующим и регулирующим совместную деятельность, является общение.
Испытуемый приходит к экспериментатору, имея свои жизненные планы, мотивы, цели участия в эксперименте. И естественно, на результат исследования влияют особенности его личности, проявляющиеся в общении с экспериментатором. Этими проблемами занимается социальная психология психологического эксперимента.
Психологический эксперимент рассматривается как целостная ситуация. Влияние ситуации тестирования на проявление интеллекта детей было обнаружено еще в 1910-1920-е гг. В частности, было обнаружено, что оценка интеллектуального развития детей по тесту Бине—Симона зависит от социального статуса их семьи. Он проявляется при любом исследовании, на любой выборке, в любое время и любой стране (за редким исключением). Психология вначале интерпретировала этот факт как зависимость от «социального заказа» или полагала, используя гипотезу Ф. Гальтона о наследовании способностей, что элита общества должна состоять из высокоодаренных людей и таковых рекрутировать в свой состав.
Однако если в ситуации тестирования использовать различные подходы при общении с детьми из разных общественных слоев, а также речевые обороты, привычные для ребенка, то разница в интеллекте детей разных социальных слоев отсутствует. Более того, советские психологи обнаруживали более высокие показатели интеллекта у детей из рабочих семей.
Специалисты по тестированию не примут эти результаты, поскольку при их получении нарушалось основное условие научного измерения — стандартизация и унификация процедуры.
Следует отметить, что все психологи признают значение влияния ситуации эксперимента на его результаты. Так, выявлено, что процедура эксперимента оказывает большее воздействие на детей, чем на взрослых. Объяснения этому находят в особенностях детской психики:
1. Дети более эмоциональны при общении со взрослым. Взрослый для ребенка всегда является психологически значимой фигурой. Он либо полезен, либо опасен, либо симпатичен и заслуживает доверия, либо неприятен и от него надо держаться подальше.
Следовательно, дети стремятся понравиться незнакомому взрослому либо «спрятаться» от контактов с ним. Отношения с экспериментатором определяют отношение к эксперименту (а не наоборот).
2. Проявление личностных особенностей у ребенка зависит от ситуации в большей степени, чем у взрослого. Ситуация конструируется в ходе общения ребенок должен успешно общаться с экспериментатором, понимать его вопросы и требования. Ребенок овладевает родным языком при общении с ближним окружением, усваивая не литературный язык, а говор, наречие, «сленг». Экспериментатор, говорящий на литературно-научном языке, никогда не будет для него «эмоционально своим», если только ребенок не принадлежит к тому же социальному слою. Непривычная для ребенка система понятий, способов коммуникации (манера говорить, мимика, пантомима и др.) будет мощнейшим барьером при его включении в эксперимент.
3. Ребенок обладает более живым воображением, чем экспериментатор, и поэтому может иначе, «фантастически», интерпретировать ситуацию эксперимента, чем взрослый. В частности, критикуя эксперименты Пиаже, некоторые авторы высказывают следующие аргументы. Ребенок может рассматривать эксперимент как игру со «своими» законами. Экспериментатор переливает воду из одного сосуда в другой и спрашивает ребенка, сохранилось ли количество жидкости. Ребенку правильный ответ может показаться банальным, неинтересным, и он станет играть с экспериментатором. Он может вообразить, что ему предложили посмотреть фокус с волшебным стаканчиком или поучаствовать в игре, где не действуют законы сохранения материи. Но вряд ли ребенок раскроет содержание своих фантазий. Эти аргументы могут быть лишь домыслами критиков Пиаже. Ведь рациональное восприятие ситуации эксперимента есть симптом определенного уровня развития интеллекта. Однако проблема остается нерешенной, и экспериментаторам рекомендуют обращать внимание на то, правильно ли понимает ребенок обращенные к нему вопросы и просьбы, что он имеет в виду, давая тот или иной ответ.
Основоположником изучения социально-психологических аспектов психологического эксперимента стал С. Розенцвейг. В 1933 г. (цит. по: Christensen L. В., 1980) он опубликовал аналитический обзор по этой проблеме, где выделил основные факторы общения, которые могут искажать результаты эксперимента:
1. Ошибки «отношения к наблюдаемому». Они связаны с пониманием испытуемым критерия принятия решения при выборе реакции.
2. Ошибки, связанные с мотивацией испытуемого. Испытуемый может быть мотивирован любопытством, гордостью, тщеславием и действовать не в соответствии с целями экспериментатора, а в соответствии со своим пониманием целей и смысла эксперимента.
3. Ошибки личностного влияния, связанные с восприятием испытуемым личности экспериментатора.
В настоящее время эти источники артефактов не относятся к социально-психологическим (кроме социально-психологической мотивации).
Испытуемый может участвовать в эксперименте либо добровольно, либо по принуждению.
Само участие в эксперименте порождает у испытуемых ряд поведенческих проявлений, которые являются причинами артефактов. Среди наиболее известных — «эффект плацебо», «эффект Хотторна», «эффект аудитории».
Эффект плацебо был обнаружен медиками: когда испытуемые считают, что препарат или действия врача способствуют их выздоровлению, у них наблюдается улучшение состояния. Эффект основан на механизмах внушения и самовнушения.
Эффект Хотторна проявился при проведении социально-психологических исследований на фабриках. Привлечение к участию в эксперименте, который проводили психологи, расценивалось испытуемым как проявление внимания к нему лично. Участники исследования вели себя так, как ожидали от них экспериментаторы. Эффекта Хотторна можно избежать, если не сообщать испытуемому гипотезу исследования или дать ложную («ортогональную»), а также знакомить с инструкциями как можно более безразличным тоном.
Эффект социальной фасилитации (усиления), или эффект аудитории, был обнаружен Р. Зайонцем. Присутствие любого внешнего наблюдателя, в частности экспериментатора и ассистента, изменяет поведение человека, выполняющего ту или иную работу. Эффект ярко проявляется у спортсменов на соревнованиях: разница в результатах, показываемых на публике и на тренировке. Зайонц обнаружил, что во время обучения присутствие зрителей смущает испытуемых и снижает их результативные показатели. Когда деятельность освоена или сводится к простому физическому усилию, то результат улучшается. После проведения дополнительных исследований были установлены такие зависимости:
1. Влияние оказывает не любой наблюдатель, а лишь компетентный, значимый для исполнителя и способный дать оценку. Чем более компетентен и значим наблюдатель, тем этот эффект существеннее.
2. Влияние тем больше, чем труднее задача. Новые навыки и умения, интеллектуальные способности более подвержены воздействию (в сторону снижения эффективности). Наоборот, старые, простые перцептивные и сенсомоторные навыки легче проявляются, продуктивность их реализации в присутствии значимого наблюдателя повышается.
3. Соревнование и совместная деятельность, увеличение количества наблюдателей усиливает эффект (как положительную, так и отрицательную тенденцию).
4. «Тревожные» испытуемые при выполнении сложных и новых заданий, требующих интеллектуальных усилий, испытывают большие затруднения, чем эмоционально стабильные личности.
5. Действие «эффекта Зайонца» хорошо описывается законом оптимума активации Йеркса—Додсона. Присутствие внешнего наблюдателя (экспериментатора) повышает мотивацию испытуемого. Соответственно оно может либо улучшить продуктивность, либо привести к «перемотивации» и вызвать срыв деятельности. Следует различать мотивацию участия в исследовании от мотивации, возникающей у испытуемых по ходу эксперимента при общении с экспериментатором.
Считается, что в ходе эксперимента у испытуемого может возникать какая угодно мотивация. М. Т. Орн [Orne M. Т., 1962] полагал, что основным мотивом испытуемого является стремление к социальному одобрению, желание быть хорошим: он хочет помочь эксперименатору и ведет себя так, чтобы подтвердить гипотезу экспериментатора. Существуют и другие точки зрения. Полагают, что испытуемый стремится проявить себя с лучшей стороны и дает те ответы, которые, по его мнению, более высоко оцениваются экспериментатором. Помимо проявления «эффекта фасада» существует и тенденция вести себя эмоционально стабильно, «не поддаваться» давлению ситуации эксперимента.
Ряд исследователей предлагает модель «злонамеренного испытуемого». Они считают, что испытуемые враждебно настроены по отношению к экспериментатору и процедуре исследования, и делают все, чтобы разрушить гипотезу эксперимента.
Но более распространена точка зрения, что взрослые испытуемые стремятся только точно выполнять инструкцию, а не поддаваться своим подозрениям и догадкам. Очевидно, это зависит от психологической зрелости личности испытуемого.
Исследования, проведенные для определения роли мотивации социального одобрения, дают весьма разноречивые результаты: во многих ранних работах эта роль подтверждается, в последующих исследованиях отрицается наличие у испытуемых мотивации высокой оценки своих результатов.
Итог дискуссиям подвел Л. Б. Кристиансен. С его точки зрения, все варианты поведения испытуемого в эксперименте можно объяснить актуализацией одного мотива — стремления к позитивной саморепрезентации, т. е. стремления выглядеть в собственных глазах как можно лучше. Взрослый испытуемый, входя в ситуацию эксперимента, ориентируется в ней и ведет себя в соответствии с ситуацией, но побуждается стремлением «не потерять лица» перед самим собой. Он обращает внимание на слухи об эксперименте и его целях, на инструкцию и сообщения экспериментатора в процессе беседы, на специфические черты личности экспериментатора, условия проведения исследования (оборудование лаборатории, состояние помещения, комфортность обстановки и др.), учитывает особенности общения с экспериментатором в ходе эксперимента. Опираясь на эти признаки, испытуемый строит «внутреннюю» модель экспериментальной ситуации. Метод «обмана», если подмена целей эксперимента обнаружена испытуемым, не будет эффективным. Испытуемые, у которых возникает подозрение, что при помощи инструкции пытаются манипулировать их поведением, обмануть их и т. д., воздерживаются от ожидаемых экспериментатором действий, сопротивляясь его влиянию. Для себя они объясняют это сопротивление тем, что манипулировать человеком помимо его воли недостойно.
И вместе с тем эксперимент активизирует мотив саморепрезентации, поскольку его условия неестественны и отличны от предшествующего опыта индивида.
Демонстративные личности склонны превращать эксперимент в театр: они ведут себя неестественно и нарочито, словно находятся на сцене. «Тревожные» личности могут вести себя скованно, напряженно и т.д.
Мотивация саморепрезентации оказывается наиболее сильной, если испытуемый считает, что его поведение в эксперименте личностно детерминировано, т.е. его поступки — не следствие экспериментальных воздействий, а проявление реальных намерений, чувств, убеждений, способностей и т.д. Если же испытуемый полагает, что его поведение в эксперименте зависит от условий, содержания заданий, взаимодействия с экспериментатором, то мотивация саморепрезентации не проявится в его поведении.
Л. Б. Кристиансен, наиболее известный специалист по проблеме влияния саморепрезентации на ход эксперимента, сделал неутешительный вывод на основе своих собственных и чужих исследований: мотив саморепрезентации контролировать крайне трудно, поскольку не определены ни условия, в которых он проявляется, ни направление его влияния на экспериментальные результаты.
Например, мотив саморепрезентации взаимодействует с мотивом социального одобрения: испытуемые особенно стремятся проявить себя «лучшим образом» тогда, когда экспериментатор не может их непосредственно уличить во лжи. Если испытуемых попросить дать оценку своего интеллекта, она особо завышается тогда, когда экспериментатор не собирается «проверять» их интеллект. Если же испытуемым известно, что после субъективного оценивания своего интеллекта им следует выполнять тест, они оценивают себя значительно ниже.
Кроме того, если испытуемый полагает, что экспериментатор им манипулирует, у него также более сильно проявляется мотивация саморепрезентации.
Таким образом, и мотивация саморепрезентации, и мотивация социального одобрения (вопреки первоначальной гипотезе Кристиансена) равно актуализируются у испытуемых в психологических экспериментах.
Для контроля влияния личности испытуемого и эффектов общения на результаты эксперимента предлагается ряд специальных методических приемов. Перечислим их и дадим характеристику каждому.
1. Метод «плацебо вслепую», или «двойной слепой опыт». Контролируется эффект Розенталя (он же — эффект Пигмалиона). Подбираются идентичные контрольная и экспериментальная группы. Экспериментальная процедура повторяется в обоих случаях. Сам экспериментатор не знает, какая группа получает «нулевое» воздействие, а какая подвергается реальному манипулированию. Существуют модификации этого плана. Одна из них состоит в том, что эксперимент проводит не сам экспериментатор, а приглашенный ассистент, которому не сообщается истинная гипотеза исследования и то, какая из групп подвергается реальному воздействию. Этот план позволяет элиминировать и эффект ожиданий испытуемого, и эффект ожиданий экспериментатора.
Психофармаколог X. К. Бичер исследовал с помощью этого экспериментального плана влияние морфия на болевую чувствительность. Работая по схеме «плацебо вслепую», он не смог отличить данные контрольной группы от данных экспериментальной. Когда же он провел эксперимент традиционным способом, то получил классические различающиеся кривые.
«Двойной слепой опыт» контролирует эффекты Розенталя и Хотторна.
2. Метод обмана. Основан на целенаправленном введении испытуемых в заблуждение. При его применении возникают, естественно, этические проблемы, и многие социальные психологи гуманистической ориентации считают его неприемлемым.
Экспериментатор придумывает ложные цель и гипотезу исследования, независимые (ортогональные) от основных. Выдуманные цель и гипотеза сообщаются испытуемым. Содержание ложной гипотезы варьируется в зависимости от характера эксперимента: могут применяться как простые гипотезы «здравого смысла», так и сложные теоретические конструкции, которые получили название «когнитивные плацебо».
Возможным вариантом метода обмана является простое сокрытие истинных целей и гипотезы эксперимента. В данном случае испытуемые будут сами придумывать варианты, и вместо учета влияния ложной гипотезы нам придется разбираться в фантазиях испытуемого, чтобы устранить влияние этой неконтролируемой переменной. Таким образом, лучше предложить испытуемому хоть какой-то вариант гипотезы, чем не предлагать никакой. Метод «когнитивного плацебо» предпочтительнее.
Метод «скрытого» эксперимента. Часто применяется в полевых исследованиях, при реализации так называемого «естественного» эксперимента. Эксперимент так включается в естественную жизнь испытуемого, что он не подозревает о своем участии в исследовании в качестве испытуемого. По сути метод «скрытого» эксперимента является модификацией метода обмана, с той лишь разницей, что испытуемому не надо давать ложную информацию о целях и гипотезе исследования, так как он уже обманом вовлечен в исследование и не знает об этом. Этических проблем здесь возникает еще больше, так как, применяя метод обмана, мы оповещаем испытуемого о привлечении его к исследованию (даже к принудительному); здесь же испытуемый полностью подконтролен другому лицу и является объектом манипуляций.
Главная трудность проведения такого эксперимента — учет неконтролируемых переменных, поскольку этот эксперимент может быть лишь натурным.
Метод «естественного эксперимента», предложенный А. Ф. Лазурским, является одной из модификаций этого исследовательского приема.
4. Метод независимого измерения зависимых параметров. Применяется очень редко, так как реализовать его на практике очень трудно. Эксперимент проводится с испытуемым по обычному плану, но эффект воздействия измеряется не в ходе эксперимента, а вне его, например, при контроле результатов учебной или трудовой деятельности бывшего испытуемого.
5. Контроль восприятия испытуемым ситуации. Обычно для этого применяется предложенная Орне схема постэкспериментального интервью. Кроме того, принимаются меры для того, чтобы учитывать или контролировать отношение испытуемого к экспериментатору и эксперименту, понимание им инструкции, принятие целей исследования. К сожалению, данные, получаемые при постэкспериментальном опросе, позволяют лишь отбраковать неудачные пробы или учесть эту информацию при интерпретации результатов эксперимента, когда уже ничего нельзя исправить.
Как всегда, следует помнить, что нет абсолютного метода, и все они хороши или плохи в зависимости от конкретной ситуации. Ни один не дает абсолютно достоверного знания.
Экспериментатор: его личность и деятельностьКлассический естественнонаучный эксперимент рассматривается теоретически с нормативных позиций: если из экспериментальной ситуации можно было бы удалить исследователя и заменить автоматом, то эксперимент соответствовал бы идеальному.
К сожалению или к счастью, психология человека относится к таким дисциплинам, где это сделать невозможно. Следовательно, психолог вынужден учитывать то, что любой экспериментатор, в том числе и он сам, — человек и ничто человеческое ему не чуждо. В первую очередь — ошибки, т. е. невольные отклонения от нормы эксперимента (идеального эксперимента). Сознательный обман, искажение результатов здесь разбирать не будем. Ошибками дело не ограничивается — их можно иногда исправить. Другое дело — устойчивые тенденции поведения экспериментатора, которые воздействуют на ход экспериментальной ситуации и являются следствием бессознательной психической регуляции поведения.
Эксперимент, в том числе психологический, должен воспроизводиться любым другим исследователем. Поэтому схема его проведения (норма эксперимента) должна быть максимально объективирована, т. е. воспроизведение результатов не должно зависеть от умелых профессиональных действий экспериментатора, внешних обстоятельств или случая.
С позиций деятельностного подхода эксперимент — это деятельность экспериментатора, который воздействует на испытуемого, изменяя условия его деятельности, чтобы выявить особенности психики обследуемого. Процедура эксперимента служит доказательством степени активности экспериментатора: он организует работу испытуемого, дает ему задание, оценивает результаты, варьирует условия эксперимента, регистрирует поведение испытуемого и результаты его деятельности и т.д.
С социально-психологической точки зрения, экспериментатор выполняет роль руководителя, учителя, инициатора игры, испытуемый же предстает в качестве подчиненного, исполнителя, ученика, ведомого участника игры.
Схема эксперимента, если рассматривать его как деятельность экспериментатора, соответствует модели необихевиоризма: стимул — промежуточные переменные — реакция. Экспериментатор дает испытуемому задания, испытуемый (промежуточная переменная) их выполняет. Если исследователь заинтересован в подтверждении (или опровержении) своей гипотезы, то он может неосознанно вносить искажения в ход эксперимента и интерпретацию данных, добиваясь, чтобы испытуемый «работал под гипотезу», создавая привилегированные условия лишь для экспериментальной группы. Такие действия экспериментатора — источник артефактов. Американский психолог Р. Розенталь назвал это явление «эффектом Пигмалиона» в честь персонажа греческого мифа. (Скульптор Пигмалион изваял статую прекрасной девушки Галатеи. Она была так хороша, что Пигмалион влюбился в Галатею и стал умолять богов оживить статую. Боги отозвались на его просьбы, и девушка ожила.)
Исследователь, заинтересованный в подтверждении теории, действует непроизвольно так, чтобы она была подтверждена. Можно контролировать данный эффект. Для этого следует привлекать к проведению исследования экспериментаторов-ассистентов, не знающих его целей и гипотез. Полноценный контроль — перепроверка результатов другими исследователями, критически относящимися к гипотезе автора эксперимента. Однако и в этом случае мы не гарантированы от артефактов — контролеры такие же грешные люди, как и автор эксперимента.
Н. Фридман назвал научным мифом господствовавшую до 1960-х годов в американской психологии точку зрения, заключавшуюся в том, что процедура проведения экспериментов одинакова, а экспериментаторы равно беспристрастны и квалифицированны. Экспериментаторы не анонимны и не безлики: по-разному наблюдают, фиксируют и оценивают результаты эксперимента.
Главная проблема — различия в мотивации экспериментаторов. Даже если все они стремятся к познанию нового, то представления о путях, средствах, целях познания у них различаются. Тем более что исследователи часто принадлежат к разным этнокультурным общностям.
Вместе с тем все экспериментаторы мечтают об «идеальном испытуемом». «Идеальный испытуемый» должен обладать набором соответствующих психологических качеств: быть послушным, сообразительным, стремящимся к сотрудничеству с экспериментатором, работоспособным, дружески настроенным, неагрессивным и лишенным негативизма. Модель «идеального испытуемого» с социально-психологической точки зрения полностью соответствует модели идеального подчиненного или идеального ученика.
Разумный экспериментатор понимает, что эта мечта неосуществима. Однако если поведение испытуемого в эксперименте отклоняется от ожиданий исследователя, он может проявить к испытуемому враждебность или раздражение.
Каковы же конкретные проявления эффекта Пигмалиона?
Ожидания экспериментатора могут привести его к неосознанным действиям, модифицирующим поведение испытуемого. Розенталь, наиболее известный специалист по проблеме воздействия личности исследователя на ход исследования, установил, что значимое влияние экспериментатора на результат эксперимента выявлено: в экспериментах с обучением, при диагностике способностей, в психофизических экспериментах, при определении времени реакции, проведении проективных тестов (тест Роршаха), в лабораторных исследованиях трудовой деятельности, при исследовании социальной перцепции.
Каким же образом испытуемому передаются ожидания экспериментатора?
Поскольку источник влияния — неосознаваемые установки, то и проявляются они в параметрах поведения экспериментатора, которые регулируются неосознанно. Это в первую очередь мимика и пантомимика (кивки головой, улыбки и пр.). Во-вторых, важную роль играют «паралингвистические» речевые способы воздействия на испытуемого, а именно: интонация при чтении инструкции, эмоциональный тон, экспрессия и т.д. В экспериментах на животных экспериментатор может неосознанно изменять способы обращения с ними.
Особенно сильно влияние экспериментатора до эксперимента: при вербовке испытуемых, первой беседе, чтении инструкции. В ходе эксперимента большое значение имеет внимание, проявляемое экспериментатором к действиям испытуемого. По данным экспериментальных исследований, это внимание повышает продуктивность деятельности испытуемого. Тем самым исследователь создает первичную установку испытуемого на эксперимент и формирует отношение к себе.
Известно, что именно «эффект первого впечатления» приводит к тому, что вся дальнейшая информация, не соответствующая созданному образу, может отбрасываться как случайная.
Ожидания экспериментатора сказываются и при записи им результатов эксперимента. В частности, Кеннеди и Упхофф [Kennedy J.L., Uphoff H.F., 1936] установили влияние отношения исследователя на допущенные им ошибки при записи результатов эксперимента. Эксперимент был посвящен изучению «феномена телепатии». Были отобраны две равночисленные группы людей, верящих и не верящих в телепатию. Их просили записывать результаты попыток испытуемого угадать содержание «телепатического послания», которое делал другой испытуемый.
Те, кто верил в телепатию, в среднем увеличили количество угадываний на 63 %, а те, кто в нее не верил, уменьшили его на 67 %.
Розенталь проанализировал 21 работу по проблеме влияния ожидания на фиксацию результатов эксперимента. Оказалось, что 60 % ошибок записи результатов обусловлены стремлением подтвердить экспериментальную гипотезу. В другом обзоре (36 работ) также подтвержден этот факт. Влияние ожидания проявляется не только при фиксации результатов действия людей, но и в экспериментах на животных.
Розенталь провел следующее исследование. Он просил нескольких экспериментаторов фиксировать поведение крыс в ходе эксперимента. Одной группе экспериментаторов говорилось, что они работают со специально выведенной линией «особо умных крыс». Другой группе сообщали, что их крысы «особо глупы». На самом деле все крысы относились к одной и той же популяции и не различались по способностям.
В итоге оценки поведения, поставленные крысам, соответствовали тем установкам, которые были заданы экспериментаторам.
Л. Бергер [Berger L., 1987] выделил следующие типы ошибок экспериментаторов при оценке результатов деятельности испытуемого:
1. Занижение очень высоких результатов. Причиной считается стремление исследователя подсознательно «привязать» данные испытуемого к собственным достижениям. Возможно и завышение низких оценок. В любом случае шкала деформируется и сжимается, так как крайние результаты сближаются со средними.
2. Избегание крайних оценок (как низких, так и высоких). Эффект тот же — группировка данных выше среднего.
3. Завышение значимости одного свойства испытуемого или одного задания из серии. Через призму этой установки производится оценка личности и заданий.
4. Аналогичный случай, но эффект кратковременный, когда особое значение придается заданию, следующему после выделения существенной для экспериментатора личностной черты испытуемого.
5. Аналогичный случай, но оценка опосредована концепцией о связи или противопоставлении тех или иных свойств личности.
6. Ошибки, обусловленные влиянием событий, эмоционально связанных с конкретным испытуемым.
Разумеется, «эффект Пигмалиона» существует, но в какой мере он значим? Может быть, в ряде случаев им можно пренебречь при интерпретации результата? Существуют разные мнения. Можно выделить, по крайней мере, три точки зрения:
Первая. Розенталь утверждает, что фактов универсального влияния в 7 раз больше, чем если бы они были случайными. По крайней мере, 1/3 всех работ, посвященных этой проблеме, влияние экспериментатора на результат эксперимента установлено на уровне значимости р = 0,95.
Вторая. Т. Барбер и М. Сильвер [Barber Т.X., Silver M.J., 1968] считают, что это влияние не значимо и все исследования, посвященные выявлению влияния экспериментатора на результат психологического эксперимента, осуществлялись с ошибками в планировании, плохим выбором статистических мер и при неумелом ведении экспериментирования. Они сделали вывод, что лишь в 29 % исследований подтверждается «эффект Пигмалиона» — влияние подсознательных тенденций экспериментатора на поведение испытуемого и его оценку. Очевидно, этот процент значительно ниже, чем пишет Розенталь.
Третья точка зрения выражена Барбером: мы утверждаем, что влияние может быть, но не в состоянии предсказать, каким оно будет в конкретном эксперименте.
Однако исследователи пытаются выявить более конкретные зависимости. Еще раз отметим, что возможны три варианта ответа на вопрос об «искажающем» влиянии экспериментатора на результаты.
1. Неосуществимый идеал экспериментальной психологии — влияния экспериментатора нет никогда либо оно несущественно, им можно пренебречь. Гипотеза малоправдоподобна.
2. Личность экспериментатора всегда и постоянно влияет на ход и результаты эксперимента. В этом случае эффект влияния можно считать систематической ошибкой измерения— константой, ее легко учесть и «вынести за скобки».
3. Влияние его проявляется по-разному, в зависимости от типа эксперимента, личности экспериментатора и личности испытуемого.
Учет превращается в сложную задачу выделения и контроля большого числа релевантных психологических переменных в каждом конкретном эксперименте.
Существует множество исследований, которые в той или иной мере освещают проблему. Приведем основные факты.
1. На результаты влияет тип личности и состояние экспериментатора: биосоциальные качества (возраст, пол, раса, культурно-религиозная, этническая принадлежность и т. д.); психосоциальные качества (уровень тревожности, потребность в социальном одобрении, агрессивность, враждебность, авторитарность, интеллект, социальный статус, дружелюбие); ситуационные переменные (знакомство с испытуемым, настроение и др.).
Наиболее точно установлено влияние пола исследователя на ход и результаты эксперимента. В частности, маленькие дети всегда лучше и охотнее работают с экспериментаторами-женщинами, а взрослые испытуемые — с экспериментаторами-мужчинами.
Кроме того, в ходе эксперимента присутствие экспериментаторов-мужчин провоцирует испытуемых на активные действия, направленные на осмысление своей ситуации и поиск новой информации, а женщины-экспериментаторы вызывают желание «раскрыть душу», стремление к откровенности, поэтому поведение испытуемых становится более эмоционально выразительным.
Точно установить меру влияния очень трудно. Часто невозможно исключить влияние других переменных: возраста, статуса, дружелюбия и т. д. Так, пол экспериментатора по-разному влияет на мужчин и женщин, бедных и богатых, влияние зависит от взаимного статуса, симпатии и др. Он может быть значимым при выполнении испытуемым заданий одного типа и совершенно незначимым — в других экспериментах. Расширять арсенал методик в ходе одного исследования невозможно.
2. Достоверно выявлена закономерность проявления влияния экспериментатора в экспериментах, различающихся по предмету исследования. Все исследования можно упорядочить по шкале «социальное — биологическое»: от социально-психологических экспериментов («верх» шкалы) до психофизиологических («низ» шкалы). Чем «выше» структурный уровень психической реальности, изучаемой нами, тем это влияние значимее.
Влияние личности экспериментатора максимально в экспериментах по психологии личности и социальной психологии и минимально — в психофизиологических и психофизических экспериментах, исследованиях сенсорики и перцепции. «Среднее» влияние наблюдается при исследовании «глобальных» индивидуальных процессов — интеллекта, мотивации, принятия решения и др.
Какие способы учета и контроля влияния экспериментатора на результат эксперимента можно рекомендовать?
Примерно 98 % психологов считают влияние экспериментатора серьезной методологической проблемой, но на деле о контроле и учете его заботятся значительно меньше, чем о наличии хорошей мебели, освещении и окраске стен лаборатории.
А. Анастази [Анастази А., 1982] считает, что в большинстве правильно проведенных исследований влияние этих факторов практически несущественно, и рекомендует свести его к минимуму, не прибегать к методическим изыскам, а пользоваться здравым смыслом. Если это не удается, необходимо обязательно учитывать влияние экспериментатора при описании условий эксперимента.
Чаще всего рекомендуются и используются следующие методы контроля влияния экспериментатора.
1. Автоматизация исследования. Влияние экспериментатора сохраняется при вербовке и первичной беседе с испытуемым, между отдельными сериями и на «выходе».
2. Участие экспериментаторов, не знающих целей исследования (уже обсуждавшийся ранее «двойной слепой опыт»). Экспериментаторы будут строить предположения о намерениях первого исследователя. Влияние этих предположений необходимо контролировать.
3. Участие нескольких экспериментаторов и использование плана, позволяющего элиминировать фактор влияния экспериментатора. Остается проблема критерия отбора экспериментаторов и предельного числа контрольных групп. Влияние экспериментатора полностью не устранимо, так как это противоречит сути психологического эксперимента, но может быть в той или иной мере учтено и проконтролировано.
Испытуемый: его деятельность в экспериментеЗдесь речь пойдет только об эксперименте, проводимом с участием человека. Эксперимент, где объектом исследований является человек, а предметом — человеческая психика, отличается тем, что его нельзя провести без включения испытуемого в совместную деятельность с экспериментатором. Испытуемый должен знать не только цели и задачи исследования (не обязательно истинные цели), но понимать, что и для чего он должен делать в ходе эксперимента, более того — личностно принимать эту деятельность.
С точки зрения испытуемого, эксперимент — это часть его личной жизни (времени, действий, усилий и т. д.), которую он проводит в общении с экспериментатором для того, чтобы решить какие-то свои личные проблемы. Испытуемый может быть активным в учебе, игре, трудовой деятельности, общении: его активность является эмоциональной или творческой. В любом случае он должен проявлять ее либо стихийно, либо сознательно, чтобы экспериментатор мог решить свои исследовательские задачи. Поэтому ряд исследователей склонен определять эксперимент в психологии «с позиции испытуемого» как организованную экспериментатором деятельность испытуемого (испытуемых) по выполнению поведенческой задачи. В зависимости от целей эксперимента, особенностей группы испытуемых (возраст, пол, здоровье и т.п.) задачи могут быть творческими, трудовыми, игровыми, учебными и т.д.
Всегда, если смотреть на эксперимент с позиций испытуемого, он является моделью реальной деятельности. Следовательно, в любом эксперименте есть элемент игры, как бы работы «понарошку», имитации жизненной ситуации. Но любой эксперимент есть также «игра всерьез», так как параллельной жизни нам не дано, процесс и результат исследования оказывают влияние на жизнь испытуемого, тем более что, участвуя в нем, он намеревается решить какие-то свои личностные проблемы.
Общение испытуемого и экспериментатора является необходимым условием организации их совместной деятельности и регуляции деятельности испытуемого.
Человек включается в эксперимент как целостный объект. Следовательно, организация эксперимента требует учета основных, т.е. известных в настоящий момент, психологических закономерностей, определяющих поведение личности в условиях, соответствующих экспериментальным.
Рассматривая эксперимент как деятельность испытуемого, Г. Е. Журавлев [Журавлев Г. Е. , 1977] выделяет несколько планов его описания:
1. Физический: люди, участвующие в эксперименте; объекты, которыми манипулирует или которые преобразует испытуемый; средства, которыми для этого располагает испытуемый; условия, в которых происходит эксперимент. Аналогичные компоненты выделяются и в деятельности экспериментатора.
2. Функциональный: способы действия, которые предписаны испытуемому; необходимый уровень компетентности испытуемого; критерии оценки качества деятельности испытуемого; временные характеристики деятельности испытуемого и проведения эксперимента.
3. Знаково-символический (инструкция испытуемому): описание 1) целей исследования и целей деятельности испытуемого; 2) способов и правил действий; 3) общения с экспериментатором; 4) знакомство с мотивационной установкой, оплатой и т.д.
Важнейшим моментом, отличающим психологический эксперимент с участием людей от других видов естественнонаучного исследования, является наличие инструкции. Испытуемый, получая ее, обязуется добросовестно выполнять все требования. Иногда инструкция редуцирована (в экспериментах с младенцами, пациентами клиники душевных болезней и т.д.), но общение испытуемого с экспериментатором происходит всегда.
Получивший инструкцию испытуемый должен понять и принять задание. Если он не понимает задание, то неверно совершает предусмотренные в инструкции операции. Чтобы проконтролировать понимание инструкции, прибегают не только к опросу испытуемых, но и к включению в эксперимент короткой предварительной обучающей серии. Успешное выполнение операций в контрольной серии служит критерием понимания инструкции.
По окончании экспериментальной серии проводится интервью для выявления трудностей в выполнении задания и причин отклонений действий испытуемых от требований инструкции.
Испытуемый может не принять экспериментальное задание и отказаться его выполнять. Хуже, если из-за непонимания или неприятия задания испытуемый подменяет внешнюю задачу своей субъективной. Экспериментатор должен убедиться, проводя постэкспериментальное интервью, что такой подмены не произошло.
Описание структуры деятельности испытуемого входит составной частью в норму эксперимента.
Испытуемый должен воспринять, понять и принять эту норму, личность экспериментатора и осуществить соответствующую деятельность. Эта деятельность сводится к выполнению определенных заданий (достижению цели) с помощью набора средств, которые экспериментатор варьирует в ходе преодоления препятствий (помех, шумов, трудностей), также изменяемых им.
Независимые переменные (для экспериментатора) — это всегда средства, препятствия и цели, которые он предъявляет испытуемому.
Психика человека является системой. На ход и результат психологического эксперимента влияет не только изучаемая сторона психики испытуемого, но и вся психика в целом, отсюда возникает необходимость учета и регистрации гораздо большего числа психических проявлений, нежели это нужно, исходя из гипотезы исследования.
Проблема понимания и принятия задания отнюдь не тривиальна. Например, почти все критические замечания по поводу интерпретации, которую дал Пиаже результатам своих классических экспериментов, сводятся к одному: он предлагал детям задания во «взрослой», не адекватной для них форме. Дети попросту не понимали задание и давали ответы, подменяя задачу экспериментатора собственной субъективной задачей. Стоило экспериментаторам сформулировать ту же задачу адекватно жизненному опыту ребенка, как феномены Пиаже «исчезали»: 5-6-летние дети демонстрировали уровень когнитивного развития, соответствующий стадии конкретных операций.
Классический вариант «эффекта инструкции» проявляется при измерении времени реакции. Экспериментаторы знают, что инструкция, настраивающая испытуемого на обнаружение сигнала, увеличивает время реакции, а инструкция, требующая максимально быстрого ответа, ускоряет реагирование.
Кроме того, сами испытуемые могут различаться по тому, какая установка — моторная или сенсорная — у них доминирует.
Личность испытуемого и ситуация психологического экспериментаПсихологический эксперимент — это встреча испытуемого (испытуемых) с экспериментатором. Однако за ней следует расставание. Ситуация эксперимента может быть рассмотрена как с внешней стороны («вход» и «выход» из ситуации), так и с внутренней (что случилось за время проведения эксперимента).
Выше уже отмечалось, что испытуемый реагирует не просто на эксперимент как на некоторое непонятное целое, но отождествляет его с каким-то классом реальных жизненных ситуаций, с которыми он сталкивается, и соответственно строит свое поведение.
Следует заметить, что экспериментатор не просто набирает репрезентативную группу и разбивает ее на рандомизированные подгруппы, как это делает селекционер-биолог, но активно привлекает людей к участию в эксперименте.
Значит, для исследователя не безразлично, какие неконтролируемые психологические особенности отличают людей, привлеченных к исследованию, от всех прочих; какими мотивами побуждаемы были они, включаясь в психологическое исследование в качестве испытуемых.
Испытуемый может участвовать в исследовании добровольно или принудительно, помимо своей воли. Принимая участие в «естественном эксперименте», он может и не знать, что стал испытуемым.
Почему люди добровольно участвуют в исследовании? Проблема сводится к выяснению особенностей мотивации испытуемых-добровольцев. В классических экспериментах с сенсорной депривацией было выявлено, что половина испытуемых согласилась участвовать в экспериментах (длительных и утомительных), движимая лишь любопытством. Часто испытуемому хочется узнать что-либо о самом себе, в частности, для того, чтобы разобраться в своих отношениях с окружающими.
Добровольное участие в эксперименте принимают испытуемые, стремящиеся заработать деньги, получить зачет (если речь идет о студентах-психологах). Зачастую ими движет простое любопытство или уговоры друзей: «Пойдем за компанию». И крайне редко испытуемый стремится просто «послужить науке». Существует обширная литература, посвященная личностным особенностям испытуемого-добровольца.
Другое дело, если испытуемый принужден участвовать в эксперименте. В исследованиях, посвященных этой проблеме, показано, что большинство испытуемых, принудительно привлеченных к участию в эксперименте, противились этому, относились к эксперименту критично, а к экспериментатору — враждебно и недоверчиво. Зачастую они стремятся разрушить план экспериментатора, «переиграть» его, т.е. рассматривают ситуацию эксперимента как конфликтную.
Кто же такой психологический испытуемый? Американские психологи установили, что от 70 до 90 % всех исследований поведения человека проводилось с испытуемыми — студентами колледжей, причем большинство из них — студенты-психологи. Поэтому не случайно скептики называют психологию «наукой о студентах-второкурсниках и белых крысах». Студенты колледжей представляют 3 % от популяции жителей США. У нас в России ситуация аналогичная. В большинстве случаев исследуются мужчины. Поэтому экспериментальные данные могут быть нерелевантными почти для 51 % всей популяции.
Чаще всего эксперименты проводятся с испытуемыми, которые привлекаются к участию принудительно. Около 7 % привлекаемых к исследованиям являются добровольцами. Большинство из них — студенты, слушающие курс «Введение в психологию».
Психологи давно заинтересовались тем, что представляет собой испытуемый-доброволец, а Р. Розенталь даже написал книгу «Испытуемый-доброволец» (The Volunteer Subject). Он пишет, что испытуемый-доброволец отличается от испытуемого, привлеченного принудительно, рядом личностных особенностей, прежде всего: 1) более высоким уровнем образования, 2) более высоким социально-классовым статусом, 3) более высоким уровнем интеллекта, 4) более выраженной потребностью в социальном одобрении и 5) большей социабельностью. Очевидно, что это — социально-психологическая характеристика студентов североамериканского колледжа.
Отсюда возникает закономерный вопрос, в течение нескольких десятилетий обсуждаемый психологами-исследователями: в какой мере данные, полученные на выборке американских студентов-психологов, можно переносить на любого представителя рода человеческого?
Помимо того, что испытуемый включается в ситуацию исследования, он из нее в конце концов выходит. На первый взгляд, это не должно волновать исследователя: ведь он решил свои задачи. Но это не всегда можно сказать об испытуемом. Заинтересованный в получении социального одобрения может его не получить; стремящийся проявить компетентность может плохо выполнить задание и т. д. То есть испытуемый часто остается наедине с теми же проблемами, стремление решить которые побудило его принять участие в эксперименте. Кроме того, он приобретает опыт участия в экспериментальной психологической деятельности и определяется в эмоциональном отношении к психологическим экспериментам, психологам и психологии в целом. Пока психология не столь широко раскинула свои сети, этим можно было пренебречь. Но сегодня сведения о психологии, распространяемые бывшими испытуемыми, способны формировать мнение о ней в обществе и служить помощью или препятствием в развертывании исследовательской работы.
Компетентность испытуемого может сказаться на его поведении и результатах при участии в других психологических исследованиях. Как правило, психологи оценивают компетентного испытуемого негативно, есть даже термин «испорченный испытуемый», т. е. знающий схему эксперимента и способный воспроизвести результаты «под гипотезу» (или против). Поэтому большинство экспериментаторов предпочитают «наивных испытуемых».
М. Мэтлин ввела классификацию, разделив всех испытуемых на позитивно настроенных, негативных настроенных и доверчивых. Обычно экспериментаторы предпочитают первых и последних.
Исследование может проводиться при участии не только добровольцев или принудительно привлеченных, но и анонимных и сообщающих свои паспортные данные испытуемых. Предполагается, что при анонимном исследовании испытуемые более открыты, а это особо значимо при проведении личностных и социально-психологических экспериментов. Однако выясняется, что в ходе эксперимента неанонимные испытуемые более ответственно относятся к деятельности и ее результатам.
Часто исследовательская работа включается в контекст практической деятельности психолога. Так было со времен Фрейда и Жанй и продолжается по сей день. Но такое включение создает ряд дополнительных трудностей. В первую очередь резко ограничивается свобода в выборе объектов исследования, варьировании условий, методов воздействия и контроля переменных. Этот выбор строго подчинен достижению консультационного или психотерапевтического эффекта. С другой стороны, жизненная ситуация испытуемого более ясна, мотивация его участия в исследовании определена, что позволяет строже подходить к конструированию и типологизации ситуации эксперимента, а следовательно — учету и контролю ее влияния на поведение испытуемого.
А. Г. Шмелев [Общая психодиагностика, 1987] приводит следующий вариант проведения исследований с учетом двух видов отношений — психолога с пользователем и психолога с испытуемым с точки зрения применения данных исследования:
1. Данные используются специалистом-смежником для постановки психологического диагноза или формулировки административного решения. Психолог не несет ответственности за диагноз. К этому типу относятся диагнозы в медицине, психодиагностике по запросу суда, в комплексной психодиагностической экспертизе, в психодиагностике при оценке профессиональной пригодности по запросу администрации.
2. Данные используются психодиагностом для постановки психологического диагноза, хотя вмешательство в ситуацию и помощь обследуемому осуществляется специалистом другого профиля (психодиагностика причин низкой успеваемости).
3. Данные используются самим психодиагностом для постановки психологического диагноза в условиях психологической консультации.
4. Диагностические данные используются самим обследуемым в целях саморазвития, коррекции поведения и т.п.
Решение научно-практической задачи сводится к определенному изменению судьбы испытуемого: его могут принять или не принять на работу, в вуз, назначить или не назначить лечение и т.д. «Вход» в психодиагностическую ситуацию характеризуется «внешней» или «внутренней» мотивацией, побуждающей испытуемого участвовать в обследовании. В первом случае он принуждается к этому участию, во втором — становится добровольцем. Таким образом, первый параметр, описывающий психодиагностическую ситуацию, — «добровольность — принудительность» участия испытуемого в эксперименте т.д. В конце обследования (точке «выхода») испытуемый может получить результаты и сам определить на их основе свое поведение и жизненный путь. В ином случае его жизненный путь изменяет другое лицо (психодиагност, представитель администрации, врач и т.д.). При этом решение экспериментатора или лица, которому психодиагност доверил данные, не зависит от дальнейших действий обследуемого и определяется только волей других. Следовательно, в первом случае (при добровольном участии) субъектом выбора (принятия решения) является испытуемый, во втором (при вынужденном участии) — другое лицо.
Решающий фактор, который определяет ситуацию тестирования: кто является субъектом принятия решения — испытуемый или другое лицо? Этот признак характеризует как «вход», так и «выход» психодиагностической ситуации.
Тем самым теоретически возможны четыре крайних варианта научно-практических задач (ситуаций): 1) добровольное участие в эксперименте, самостоятельный выбор дальнейшего жизненного поведения; 2) принудительное участие, самостоятельный выбор поведения; 3) принудительное участие, выбор поведения после обследования навязан; 4) добровольное участие в обследовании, выбор дальнейшего поведения навязан. Основные типы ситуаций приведены в табл. 3.1.
Таблица 3.1
| Субъект принятия решения о «входе» в ситуацию | Субъект принятия решения о «выходе» из ситуации | |
| Испытуемый | Другое лицо | |
| Испытуемый | I | II |
| Другое лицо | III | IV |
В этой таблице указаны крайние типы возможных психодиагностических ситуаций, встречающиеся в психологической практике. Следующая задача состоит в идентификации конкретных психодиагностических ситуаций и отнесении их к типам.
Тип I. К нему относится ситуация добровольной психодиагностической консультации. Консультант берет на себя обязательство помочь испытуемому в решении его жизненных проблем. Испытуемый обращается к консультанту по своей воле, доверяя его компетентности, принимает обязательство быть откровенным и активно участвовать в выработке решения.
Типичным видом психологической консультации является консультация по проблемам семьи и брака, в которой принимают участие как один клиент, так и группы (муж и жена; жена, муж и дети и т. д.). Как правило, окончательный выбор будущего поведения остается за клиентом.
Другой вариант ситуаций I типа — психологическая профессиональная консультация школьников, принципы которой разработаны И. В. Кузнецовой. Консультация основана на 1) добровольном участии испытуемого; 2) его активности в выработке решения и ответственности за выбранный вариант; 3) конфиденциальности психодиагностической информации. Первый принцип, очевидно, характеризует «вход» в ситуацию, два последних — «выход» из нее.
Психодиагностическая процедура, встроенная в контекст научно-практической задачи «консультации», приобретает ее основные черты.
Следующий вариант ситуаций типа I: консультирование руководителей по проблемам стиля руководства и общения. Зачастую диагностическая процедура встраивается в контекст деловой игры, призванной модифицировать поведение руководителей. Здесь также имеются признаки добровольности принятия участия в обследовании и личной ответственности испытуемого за выбранное решение.
В школьной учебной практике подобного рода ситуации практически не встречаются. Исключения составляют занятия в кружках технического и художественного творчества, да и то лишь тогда, когда сам ребенок выбрал кружок, а не подчинился воле родителей или преподавателей.
Тип II. Ситуации этого типа встречаются наиболее часто. К ним относится, в частности, профессиональный отбор, психологический отбор в учебные заведения и т. д. Обследуемый, как правило, сам принимает решение о выборе профиля подготовки или обучения. Возможны случаи влияния родителей, внешнего принуждения и т. д., однако нормативной является ситуация, когда лица, проводящие диагностику и отбор, не принуждают испытуемого к участию в обследовании. Решение (рассмотрение с позиций нормативной модели) о будущей судьбе обследуемого принимается не им самим, а другими лицами (приемной комиссией, комиссией профессионального отбора, отделом кадров и т. д.). После выполнения задачи испытуемый уже не может повлиять на исход ситуации.
Ситуация II типа характеризуется меньшей свободой и активностью испытуемого, но большой эмоционально-мотивационной напряженностью и большей степенью значимости психодиагностического результата для испытуемого, поскольку нет возможности повлиять на решение, а также повторить решение тестовых заданий. Следует отметить, что не всякая ситуация профотбора характеризуется полной добровольностью участия испытуемого: в частности, отбор в Вооруженные Силы не относится к числу психологических ситуаций II типа.
Тип III. Это — массовые обследования, участие в которых обязательно (социологические, демографические и др.). Многие психологические информационные обследования, проводимые по решению администрации или общественных организаций, относятся к данному типу в том случае, если диагностическая информация сообщается обследуемым и они могут сами учитывать данные о себе, о коллективе при планировании своего поведения и жизненного пути. Такими можно считать обследования студентов-психологов, привлекаемых к участию в психологических экспериментах, в частности при разработке тестовых методик.
Принудительное обследование, не влекущее постороннего вмешательства в судьбу испытуемого, очень сходно по своим признакам с ситуацией проведения типичных школьных классных и домашних работ. Школьники не вправе отказаться от их выполнения, однако серьезного влияния на их будущее текущая оценка не имеет. Они сами могут принимать решение на основе оценки результатов выполнения работы о своем дальнейшем поведении. Однако этот тип ситуации является промежуточным между III и IV. Еще более близка к ситуации IV типа контрольная, тем более итоговая контрольная работа в школе. Влияние других лиц (учителей, родителей) на жизнь школьника на основе результатов выполнения таких работ весьма ощутимо.
Тип IV. Это множество диагностических ситуаций, возникающих в повседневной работе психолога и встречающихся в обыденной жизни. Все они характеризуются высоким уровнем социального контроля за поведением испытуемого, принуждением его к участию в обследовании. Решение о судьбе обследуемого принимается помимо его желаний. К таким ситуациям относится аттестация руководящих и инженерно-технических кадров. Принудительная экспертиза, в частности судебная, также считается ситуацией IV типа. Примером подобного рода ситуаций являются расстановка кадров на промышленном предприятии (если решение принимается без участия работника), профессиональный подбор и распределение лиц, призванных на срочную службу в ряды Вооруженных Сил.
Особенно часто ситуации IV типа встречаются в отечественной практике школьного и вузовского обучения: школьник, как правило, лишен возможности выбрать курс обучения, учебный предмет, учебник, учебную задачу и т. д. То же самое относится к студентам наших вузов, что противоречит мировой практике организации высшего образования.
Например, ситуациями IV типа являются экзамены в 8-х и 10-х классах, выпускные экзамены и экзамены на сессиях в вузах, по результатам которых студента могут отчислить из учебного заведения. Правда, студент может и добровольно покинуть вуз. Множество тестов и тестовых батарей ориентировано на их применение при решении задач IV типа.
Легко заметить, что ситуация психологической консультации наиболее комфортна для испытуемого. К участию в исследовании его побуждает только внутренняя мотивация. Мотивация социального одобрения незначима в этой ситуации. В ситуации отбора ответственность испытуемого за свой результат максимальна: от этого зависит его судьба, которую решает другой. В этом случае возможен эффект «перемотивации» испытуемого и снижение продуктивности его деятельности. В принудительном исследовании испытуемые могут различаться: среди них могут оказаться и внутренне мотивированные, и безразличные, и негативно настроенные к эксперименту. Внешняя мотивация актуализируется, но ответственности за результаты испытуемый не несет.
В ситуации IV типа присутствует ответственность за свои результаты и внешняя мотивация. Внутренняя есть ли или нет, но испытуемый в зависимости от своих целей может проявлять аггравационную, симулятивную тенденции или демонстрировать социально одобряемое поведение.
Вообще в принудительном исследовании мотивация испытуемых более разнообразна, она вносит максимальный вклад в общую дисперсию результатов исследования.
Влиянию ситуации максимально подвержена продуктивность «высших» когнитивных процессов и в меньшей мере — продуктивность простых навыков перцептивных и сенсомоторных процессов.
Экспериментатор проверяет гипотезу о причинной связи двух явлений, А и В. Понятие «причинность» является одним из наиболее сложных в науке.
В идеале в качестве предмета изучения следует принять зависимость ответов испытуемого от стимуляции. Однако в реальности подобной «чистой» связи не существует, так как в структуре ответа присутствуют элементы зависимости от других привходящих факторов, на которые мы уже обращали внимание. Это дополнительные воздействия, включенные в понятие «ситуация» (внешние условия опыта и влияние экспериментатора), и опосредование ответов личностью испытуемого. Для уточнения соотношения всех факторов, входящих в эксперимент, введено понятие «переменной величины» или просто переменной. Тогда предмет исследования в эксперименте предстает в виде соотношения этих переменных, которое и определяет появление, протекание и характеристики изучаемого явления.
Выделяют три вида переменных: независимые, зависимые и дополнительные. Фактор, изменяемый самим экспериментатором, т. е. стимул, называется независимой переменной (НП). Фактор, изменение которого является следствием изменения НП, называется зависимой переменной (ЗП). По сути, ЗП – это компонент в составе ответа испытуемого, который непосредственно интересует исследователя. Дополнительные переменные (ДП) – это сопутствующие стимуляции (НП) воздействия на испытуемого, оказывающие влияние на его ответ, и соответствующие составляющие ответа, дополняющие ЗП. Совокупность дополнительных воздействий состоит, как правило, из двух групп: внешних условий опыта физической природы и внутренних факторов психологической природы. К внешним ДП относятся: физическая обстановка опыта (освещенность, температурный режим, звуковой фон, пространственные характеристики помещения и т. д.), непредвиденные помехи (например, непредусмотренное появление посторонних лиц или самого экспериментатора в лаборатории), характеристики стимульного материала, не входящие в комплекс НП (например, форма зрительного тест-объекта при изучении влияния цвета на опознание); параметры аппаратуры и оборудования (например, дизайн измерительных приборов, отвлекающий испытуемого). К внутренним ДП относятся: настроение и мотивация испытуемого, его отношение к экспериментатору и опытам, его психологические установки, склонности, знания, навыки и опыт в данной деятельности, уровень утомления и т. д. Всю совокупность перечисленных факторов можно представить следующей схемой:
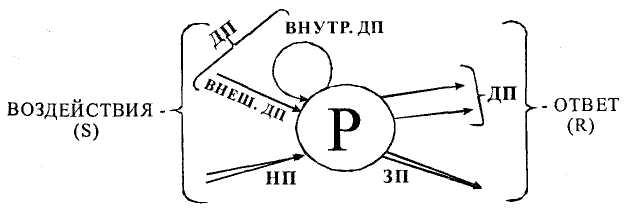
Рис. 11. Схема соотношений переменных в эксперименте
Все дополнительные воздействия исследователь в идеале стремится свести на нет или хотя бы к минимуму, чтобы выделить в «чистом виде» связь между независимой и зависимой переменными. История развития экспериментального метода ярко демонстрирует борьбу с подобными «посторонними» влияниями, борьбу за чистоту эксперимента. Увы! В реальных условиях экспериментирования этого добиться невозможно. И тогда для сравнимости результатов необходимо эти дополнительные воздействия привести к предельно одинаковому уровню во всех замерах в границах хотя бы одного опыта (экспериментальной серии). «Математическая теория эксперимента как раз и возникла из понимания того, что принципиально невозможно создать точно учитываемые условия для проведения эксперимента; результат любого эксперимента всегда связан с некоторой неопределенностью, и задача хорошей организации исследования заключается только в том, чтобы эту неопределенность устранить» [231, с. 13]. Подобная нивелировка воздействий дополнительных переменных является одним из основных правил экспериментирования.
В дополнение надо сказать, что как НП, так и ЗП могут включать в себя не обязательно один какой-то компонент. Их структура может быть сложной. Собственно понятие «фактора» подразумевает эту многокомпонентность его состава. Так, например, в социально-психологическом эксперименте в качестве НП может выступать поведение каких-либо людей, подлежащее оценке другого человека. Мало того, что само понятие «поведение» – многосоставная категория (движения, высказывания, система отношений к миру и к конкретному испытуемому), но к этому добавляются характеристики наблюдаемых людей (их социальные статус и роль, образовательный уровень, личностные качества и др.). Эта сложность независимой переменной отразилась в том, что входящие в ее состав отдельные элементы получили наименование организованных переменных, подлежащих изучению. Остальные параметры экспериментальной ситуации не подлежат специальному изучению в данном эксперименте и получили наименование неорганизованных переменных, они должны быть предельно константными.
Виды НПВ качестве независимой переменной в психологических экспериментах могут выступать любые воздействия, способные вызывать необходимые по задаче исследования психические реакции индивида или группы. Чаще всего в роли НП выступают следующие факторы: а) стимул; б) любое внешнее условие опыта; в) какая-либо внутренняя ДП; г) способ выполнения экспериментальной задачи; д) режим стимуляции.
а. Под стимулом в данном случае понимается специальное внешнее воздействие, побуждающее испытуемого к определенным реакциям. Это может быть любой физический раздражители. Например, свет при изучении темновой адаптации; звук при измерении слуховой чувствительности; форма или размеры при исследовании константности зрительного восприятия; механические, температурные, химические, электрические воздействия при изучении эмоций и т. д. Это может быть второсигнальный раздражитель – слово. Обычно в этом случае воздействующим фактором является смысл слова, смысл высказывания. Например/ разные по информативности или эмоциональности речевые воздействия. В качестве стимула могут выступать действия других людей или события, зарегистрированные каким-либо образом (скажем, на кинопленку) и представленные испытуемому. Например, демонстрация сцен насилия с целью изучения формирования и проявления агрессивности.
б. Любое внешнее условие экспериментальной ситуации, т. е.внешняя ДП, может приниматься исследователем как НП. Тогдаона практически ничем не отличается от «стимула». Но их разведение имеет смысл при многофакторном эксперименте, использующем не одну независимую переменную. В этом случае желательно специфическую стимуляцию акцентированно отделить отдругих изменяющихся дополнительных воздействий. Примерыподобных ситуаций: изучение эффективности интеллектуальнойдеятельности при помехах и без них; точность движений при зрителях и в одиночестве; исследование динамики сенсорных порогов при изменении освещенности.
в. В качестве НП может приниматься и любая доступная исследованию внутренняя дополнительная переменная. Те из них,которые в течение эксперимента у испытуемого могут изменяться, называются непостоянными ДП. Например, мотивация илипсихологическая установка на эксперимент, настроение, физиологическое состояние. Те же, которые в течение экспериментаостаются неизменными, называются постоянными ДП. Например, возраст, пол, тип темперамента, уровень способностей. Ихреализация в качестве НП может производиться только черезгрупповые эксперименты либо в лонгитюдных исследованиях.
г. Задача и способ ее выполнения определяются выбранной методикой, соответствующей цели исследования. Для испытуемогометодика раскрывается через инструкцию, регламентирующуюего действия со стимульным материалом (НП) и характер ответов (R). Достижение одних и тех же целей, как известно, можно осуществить разными путями. Влияние различий в этих путях на конечный результат (ответы) выясняется через предоставление разных вариантов решения одной и той же экспериментальной задачи. Классический пример в этом плане: получение разных порогов сенсорной чувствительности у одних и тех же людей при применении разных методов их измерения, что сыграло не последнюю роль в переходе от психофизики «чистых ощущений» к психофизике «решения сенсорных задач».
д. Режим стимуляции. Иногда экспериментатора интересуетвлияние на ответы порядка предъявления стимулов. Тогда режимизменения стимуляции сам выступает в качестве НП наряду сосновной независимой переменной. Такая задача часто встает настадии «отладки» методики, когда необходимо выяснить «вес»подобных влияний, чтобы учесть их в процедуре основных экспериментов. Если обнаруживается их значительное влияние, то в дальнейших опытах обычно применяется один из способов нейтрализации такого влияния: уравновешенный чередной порядок, предварительная практика, комбинирование группового состава и проч., о чем сказано ниже.
Из приведенного перечня возможных в психологическом эксперименте НП видно, что она может иметь количественное и качественное выражение. Количественному выражению, а следовательно, и изменению поддаются такие параметры экспериментальной ситуации, которые могут быть упорядочены в возрастающем или убывающем порядке. Таковы интенсивностные и временные показатели физических стимулов, число проб или время, отпускаемое на выполнение задания, объем экспериментального материала, возраст испытуемых и т. д. Подобные показатели могут представать в виде ряда (континуума) последовательных значений и отражаться порядковыми (ранговыми), интервальными или даже пропорциональными шкалами.
Переменные качественного характера представляют собой некий целостный и статический параметр ситуации, который либо есть в наличии, либо отсутствует. Эти показатели ситуации соответствуют номинативным шкалам. К такого рода переменным относятся тот или иной тип стимула (например, свет или звук при измерении времени реакции), наличие или отсутствие помех (шумов), осмысленность или бессмысленность экспериментального вербального материала, пол испытуемых, присутствие посторонних людей, наличие или отсутствие эмоциогенного фактора, то или иное физическое или психическое состояние и т. д.
Процедурные особенности экспериментаИз предложенного выше понимания предмета эксперимента – связь между НП и ЗП вытекают и основные элементы его процедуры. Это: 1) целенаправленное предъявление НП; 2) контроль всех дополнительных к НП условий с целью нивелировки (или исключения) их влияния на ответ. А следовательно, и обеспечение возможности вычленения зависимости ЗП именно от НП; 3) фиксация ЗП.
Выполнение этих процедур осуществляется, с одной стороны, экспериментатором, действия которого определены планом опыта, а с другой стороны, испытуемым, чьи действия регламентированы инструкцией.
Независимая переменная (НП) является главной составляющей экспериментальной ситуации. Именно ее воздействие на испытуемого исследуется в эксперименте через изучение его реакций. Обеспечив приемлемые внешние и внутренние условия опыта, экспериментатор приступает к непосредственному предъявлению испытуемому стимульного материала и регистрации его ответов, систематически контролируя постоянство созданных условий.
Требования к процедуре предъявления НПКонкретное предъявление и изменение НП зависит от задач исследования и методической специфики. Но есть и некоторые общие требования.
Во-первых, желательно иметь одновременно влияние только одной НП. Такие опыты называют «чистым экспериментом» [120, с. 115]. Если экспериментатором выделено две или несколько НП, то необходимо все кроме одной в данном опыте исключить. Остальные предъявлять поочередно в других экспериментах, исключая предыдущие НП. Если такого порядка добиться невозможно или в случае интереса к совместному воздействию двух или нескольких НП, то прибегают к специально предусмотренному режиму предъявления стимуляции, разработка которого носит наименование «планирование эксперимента». Об этом планировании поговорим чуть позже.
Второе требование: необходимо исключить одновременное изменение с НП других существенных условий экспериментальной ситуации. Это достигается контролем за ДП. Если этого добиться не удается, то могут быть три варианта решения проблемы. Либо пересмотреть экспериментальную ситуацию с целью исключения соответствующей ДП, либо косвенно учесть вклад ее влияния на ответ (предельный случай – проигнорировать это влияние), либо принять ее еще за одну НП и предусмотреть при планировании эксперимента.
Третье требование: максимум точности при изменении НП. В экспериментах с количественными НП это требование выливается в требование возможности измерения переменной. Во многих случаях отсюда следует необходимость использования специальных средств экспонирования стимуляции. Переменные, не поддающиеся изменению экспериментатором, изменяются через тщательный подбор испытуемых. Сюда относятся такие параметры как пол, возраст, способности, ЗУН и т. п.
Контроль дополнительных переменныхКак уже указывалось, дополнительные воздействия представляются двумя группами факторов: внешними и внутренними.
Контроль внешних ДПЗдесь необходимо выделить три группы: а) постоянные воздействия; б) непостоянные воздействия; в) влияние личности экспериментатора.
а. Постоянные условия – типа освещенности, температуры,вентиляции, акустического фона, влажности, обстановки интерьера и т. п. – должны поддерживаться на стабильном уровне в течение всего экспериментального цикла. В принципе эта задача выполнимая. При этом необходимо задавать исходно оптимальные параметры этих условий, чтобы они не затрудняли работу испытуемого. Обычно такие параметры обозначаются теоретически расплывчатым, но на практике понятным термином «норма».
б. Непостоянные (временные) воздействия могут быть либо случайными, либо неизбежными. Случайные раздражители по возможности надо исключить путем создания специальных условийи тщательной подготовки эксперимента. Особенно следует предохранять испытуемого от воздействий, способных его отвлечьот исполнения основной работы. Сюда относятся неожиданныешумы, появление новых лиц, сбои в работе аппаратуры и т. п. Так,с целью оградиться от подобных влияний в сопредельных помещениях вывешиваются предостерегающие надписи типа «Тихо!Идет эксперимент».
Если же избежать каких-либо непостоянных раздражителей невозможно, то следует дать испытуемому привыкнуть к этим неизбежным воздействиям, чтобы устранить эффект неожиданности и развитие ориентировочных реакций и отвлечений во время основного эксперимента. Этого можно добиться либо специальной демонстрацией испытуемому таких раздражителей по ходу объяснений процедуры эксперимента, либо путем проведения предварительных опытов. К такому типу воздействий можно отнести звуки время от времени включающейся аппаратуры, вопросы или корректирующие реплики экспериментатора, смена по ходу опыта стимульного материала и т. п.
в. Факт присутствия экспериментатора (и его помощников) также оказывает воздействие на испытуемого, а следовательно, и на его ответы. Влияние этого воздействия двояко.
Первая составляющая этого влияния определяется известным эффектом «работа в группе», тщательно изученным социальной психологией. Суть его в том, что показатели деятельности человека различны для ситуаций, когда он работает в одиночку или совместно с другими людьми. Даже элементарное соприсутствие посторонних оказывает влияние. Как известно, «на миру и смерть красна». Так, еще В. Мёде (1920 г.) обнаружил различия в способности переносить боль, в звукоразличении, в устойчивости и концентрации внимания, в счете и даже в проявлении физической силы индивидуально и в группе. Он выявил три типа людей по отношению к социальному окружению: положительный, отрицательный, нейтральный. В 1924 г. Ф. Олпорт установил, что в группе работа каждым человеком производится быстрее, чем в одиночку, но при этом страдает качество исполнения. Много внимания этим проблемам уделял В. М. Бехтерев, отметивший значительные физиологические и психологические сдвиги при переходе от индивидуальной деятельности к коллективной. К настоящему времени факт влияния социального окружения на психику и деятельность человека неоспорим. Да даже наш житейский опыт это все время подтверждает. Например, некоторые люди не могут плодотворно работать в библиотеке в присутствии других читателей, а некоторые именно в таких условиях достигают наибольшего эффекта. В эксперименте устранение этого вида воздействия (конечно, если оно не входит в экспериментальную задачу, например, при формирующем эксперименте) достигается изоляцией испытуемого от экспериментатора. Это осуществ-i ляется либо специальным оборудованием экспериментального помещения (например, односторонняя видимость перегородок), либо заменой экспериментатора наблюдательной техникой (телекамера, микрофоны и т. п.). Если исключить присутствие экспериментатора нельзя, то в целях нивелировки его воздействия в серии замеров следует поручить выполнение его функций одному и тому же лицу. Любая смена экспериментатора вносит сдвиги в ответы испытуемого, учесть которые не удается.
Вторая составляющая в воздействии экспериментатора на испытуемого относится больше не к внешним условиям опыта, а к внутренним, психологическим. Это фактор межличностных отношений. О нем – в следующем параграфе.
Внутренние ДП – это факторы, кроющиеся в личности испытуемого. Они в не меньшей, а во многих случаях даже в большей степени, чем внешние ДП, влияют на его ответы. И их воздействие, пожалуй, еще труднее проконтролировать и учесть. Тем не менее к этому необходимо стремиться. Так же, как и внешние ДП, эта группа переменных может быть представлена: а) постоянными и б) непостоянными факторами. Но признак постоянства здесь носит несколько иной оттенок. Для внешних ДП имеется в виду временной аспект: присутствуют ли они в течение всего эксперимента или только эпизодически. Здесь же показатель непостоянства отражает больше динамику соответствующего фактора, изменчивость силы и направления его влияния.
а. К постоянным факторам относятся те, которые в течение опыта существенно не изменяются. Следовательно, их воздействие хотя и присутствует, но приблизительно одинаково во всех замерах. Сюда включаются такие личностные качества испытуемого, как его темперамент, характер, способности, склонности, а следовательно, и лежащие в их основе сенсорно-перцептивные, эмоционально-волевые, интеллектуально-мнемические особенности. К этой же группе следует отнести привычки и базовые знания, умения и навыки испытуемого, т. е. ЗУН, не относящийся к специфике деятельности, осуществляемой в данном эксперименте. Системы интересов, взглядов, убеждений и т. п. компонентов общей направленности личности также относятся к этой группе факторов. Несколько сложнее обстоит дело с фактором мотивации. Если брать ее как глобальную характеристику личности, составляющую ядро ее общей направленности, то мотивацию следует отнести к постоянным факторам. Но если иметь в виду частное проявление мотивации в конкретном опыте, мотивацию как конкретное побуждение к участию в данном эксперименте, то ее необходимо отнести к группе непостоянных факторов. Понятно, что к постоянным условиям относятся возрастные, половые, этнические характеристики человека, его здоровье. Но о постоянстве всех этих факторов можно говорить, естественно, только в тех случаях, когда эксперимент проводится с одним испытуемым. Отчасти можно считать их постоянными в близнецовых экспериментах. Так, для тождественных (однояйцевых) близнецов идентичны будут психофизиологические факторы. А если они жили, развивались, воспитывались в одинаковых социальных условиях, то возможно как постоянные факторы рассматривать и их личностные характеристики.
В случаях же привлечения к эксперименту разных людей с целью выведения единой для всей выборки закономерности в связях между НП и ЗП все эти факторы переходят из разряда постоянных в разряд непостоянных. И тогда для нивелировки их влияния на обобщенный ответ и тем самым придания им функции неизменного фона, т. е. функции постоянных внутренних ДП, прибегают к особым процедурным (и теоретическим) приемам – к специальным способам формирования групп.
В некоторых случаях работа ведется с одной группой, рассматриваемой как единый испытуемый, обладающий комплексом особенностей. Каждая такая особенность является равнодействующей и индивидуальных особенностей членов группы. И тогда постули- 1 руется, что влияние этих равнодействующих на обобщенный ответ группы либо незначительно, либо постоянно. Незначительность получается из-за разнонаправленности индивидуальных тенденций и, соответственно, их взаимного уничтожения (равнодействующая стремится к нулю). Если такой постулат неприемлем, то утверждается постоянство воздействия равнодействующей на групповой ответ вследствие стабильности контингента и внешних условий опыта. Нивелировка же влияния непостоянных внутренних индивидуальных ДП достигается с помощью специальных процедурных приемов, аналогичных для работы с одним испытуемым. Эти приемы рассмотрим чуть позже.
Другой вариант групповых экспериментов заключается в работе с двумя (или несколькими) группами. Эти группы формируются таким образом, чтобы можно было считать их по рассматриваемым ДП одинаковыми. Тогда, давая этим группам одну и ту же задачу, но ставя их в неодинаковые экспериментальные ситуации по отношению к НП, можно выделить единую для популяции связь между НП и ЗП. Группа, которая испытывает воздействие НП называется экспериментальной, а которой НП не предъявляется, называется контрольной. А сама процедура их сопоставления носит наименование метода параллельных групп.
Сходство групп по ДП обеспечивается целенаправленным подбором их состава с помощью специальных способов, среди которых наиболее известны: 1) метод случайного подбора; 2) метод попарного подбора; 3) метод уравнивания групп в целом.
Метод случайного подбора. Предварительно формируется приблизительно однородная по существенным для данного опыта внутренним постоянным ДП (например, по полу, возрасту, уровню образования, социальному статусу, интеллектуальному развитию, эмоциональности и т. п.). Подбор людей может осуществляться «на глазок» или с предварительными обследованиями. Затем в случайном порядке выборку делят на две группы. Считается, что индивидуальные различия по отдельности в каждой группе уравниваются между группами.
Метод попарного подбора. Из предварительно подобранной выборки выделяются пары предельно одинаковых испытуемых, которых разводят по двум подгруппам. Последние становятся сходными по своему составу, что предопределяет и их сходство по степени влияния внутренних постоянных для всей выборки ДП.
Метод уравнивания групп в целом. Выборка делится на две подгруппы любым способом (скажем, методом случайного подбора). Далее с ними проводится задуманный эксперимент. Полученные индивидуальные и групповые результаты анализируются, и группы переформировываются таким образом, чтобы уравнять их по суммарному результату. Иначе говоря, перегруппировка производится не по личностным характеристикам, а по числовым экспериментальным данным (результатам). При этом вовсе не обязательно равномерное распределение по обеим группам «лидеров», «середнячков» и «отстающих». Их пропорции в составе групп могут быть и разными, поскольку компенсация общего результата может быть достигнута и за счет разного «удельного» веса ответов отдельных испытуемых. Важно добиться не однородного состава групп, а близких общегрупповых результатов.
б. К внутренним непостоянным ДП относятся такие психологические и физиологические характеристики испытуемого, которые либо могут значительно изменяться по ходу эксперимента, либо могут актуализироваться (или исчезать) в зависимости от его специфики (целей, задач, вида, формы организации и т. п.). Первую группу таких факторов составляют физиологические состояния, утомляемость, привыкание, упражняемость (приобретение опыта и навыков в процессе опыта), психические состояния (например, настроение, тревожность) и т. п. Другую группупредставляют такие факторы, как установка на данный опыт иданное исследование, уровень мотивации к данной экспериментальной деятельности, отношение испытуемого к экспериментатору и своей роли подопытного и проч. Конечно, жесткой гранимежду этими группами факторов нет. Так, отношение к экспериментатору или интерес к опыту по ходу эксперимента могут меняться, а настроение может быть испорченным или приподнятымименно из-за факта участия в данном опыте. Для уравниванияэффекта воздействия этих переменных на ответы в разных пробах можно дать ряд рекомендаций, успешно применяемых в экспериментальной практике.
Для устранения так называемого серийного эффекта, в основе которого лежит привыкание, используется особая очередность предъявления стимуляции. Это известная процедура «уравновешенного чередного порядка», когда стимулы разных категорий экспонируются симметрично относительно центра стимульного ряда. Принципиальная схема такой процедуры: АВВА, где А и В – стимулы разных категорий. Классический пример реализа-- \ ции такой процедуры дают многие модификации психофизичес- = кого метода «минимальных изменений», предусматривающие презентацию стимуляции поочередно в восходящих и нисходящих рядах. Тем самым добиваются взаимной компенсации ошибок ожидания (предвосхищения) и ошибок привыкания (запаздывания). Первые провоцируются настроем испытуемого на обнаружение околопороговых раздражителей, его нетерпением их уловить, а вторые вызываются инерцией его поведения, он «проскакивает» момент появления или исчезновения сигнала.
Для предотвращения влияния на ответ тревожности или неопытности проводятся ознакомительные или предварительные эксперименты. Их итоги не учитываются при обработке данных.
Чтобы избежать изменчивости ответов из-за появления опыта и навыков в процессе эксперимента, испытуемым предлагается исчерпывающая практика. В результате такой практики вырабатываются устойчивые навыки, и в дальнейших экспериментах : показатели испытуемого от этого фактора уже не претерпевают изменений.
Приведенные способы процедурного уравнивания внутренних непостоянных ДП применимы какдля индивидуальных, такидля групповых экспериментов. Пожалуй, добавить здесь можно еще один известный прием сведения к минимуму влияния на ответы упражняемости и утомления. Это «метод вращения». Согласно ему, выборка делится на подгруппы. Каждой из них предъявляется свой вариант комбинации стимулов. Совокупность этих комбинаций должна полностью исчерпывать все возможное множество основных вариантов предъявления стимуляции. Например, при трех типах стимулов (А, Б, В) необходимо обеспечить каждому из них первое, второе и третье места в экспозициях: АБВ; БВА; ВАБ. Каждая последовательность дается «своей» подгруппе.
Что касается установки и мотивации, то их желательно тоже поддерживать на одном и том же уровне во время всего опыта. Установка как готовность воспринимать раздражитель и отвечать на него определенным образом создается через инструкцию, которую экспериментатор дает испытуемому. Чтобы установка была именно такой, какая требуется по задаче исследования, инструкция должна испытуемым легко восприниматься и адекватно задаче пониматься. Последнее означает однозначность толкования инструкции. Если только не ставится определенной цели в ее многозначном понимании, но это уже вариант, когда установка сама выступает в роли НП и нет необходимости нивелировать ее влияние на ответ (частный случай такого варианта – эксперимент с самоинструкцией). Однозначность и легкость понимания инструкции достигаются ее ясностью и простотой. Во избежание вариативности инструкции ее обычно дают в письменном виде. Поддержание исходной установки контролируется экспериментатором путем постоянного наблюдения за испытуемым. Как только замечается смена установки (например, по измению тактики ответов), так следует поправить испытуемого, напомнив ему инструкцию.
Мотивация рассматривается главным образом как интерес к данному эксперименту. Если интерес отсутствует или слаб, то трудно рассчитывать и на создание установки, и на полноценность выполнения испытуемым предусмотренных в эксперименте операций, и на надежность его ответов. Слишком высокая мотивация, согласно знаменитому закону Йеркса-Додеона, тоже чревата неадекватностью ответов испытуемого. Поэтому для получения исходно приемлемого уровня мотивации экспериментатор должен самым серьезным образом подойти к формированию контингента испытуемых и подбору стимулирующих их мотивацию факторов. В качестве таких факторов могут выступать игра на тщеславии, состязательность, различные виды вознаграждения (например, для студентов – учет на экзамене), интерес к своим показателям (самопознание), профессиональный интерес (познавательный интерес студента) и проч. Но замотивировать испытуемого на эксперимент – это еще полдела. Надо этот интерес поддерживать в течение всего опыта. Если этого сделать не удается, то лучше результаты этого испытуемого из выборки исключить или заменить его на другого.
По поводу физиологических или психических состояний рекомендуется не только поддерживать их на одном уровне, но и оп-тимизировать этот уровень, т. е. испытуемый должен находиться _ в «нормальном» состоянии. Для этого необходимо избегать эксцессов до и во время опыта. Не следует испытуемого смешить,, огорчать, возбуждать. Даже чрезмерная дань еде перед опытом нежелательна. Если все же этих условий выполнить не удается, то опыт лучше отложить.
Фиксация экспериментаТретьим основным элементом экспериментальной процедуры f после предъявления НП и контроля ДП является фиксирование зависимой переменной. Если смотреть на процесс эксперимента как на реально исполняемую процедуру, то регистрация ЗП, во-первых, является частью общей процедуры фиксации всего эксперимента и, во-вторых, выглядит как регистрация ответов ис-: пытуемого, в составе которых присутствуют влияния не только независимой переменной, но и дополнительных. Выделение из интегрального ответа влияния лишь одной составляющей (НП) – дело дальнейших раздумий и манипуляций исследователя на этапах обработки и интерпретации данных. Если ему удалось обеспечить постоянство внешних и внутренних дополнительных переменных по ходу эксперимента, то проблем с таким выделением, понятно, не будет. Если что-то не удалось, то указанные раздумья неизбежны.
Рассмотрим фиксацию эксперимента как целостностное отражение всей процедуры. Тогда уместно привести слова специалиста по психологическому эксперименту Р. Готтсданкера: «Эксперимент не может существовать в уме, факт его проведения оформляется в документах. После эксперимента у исследователя остается одна или несколько переплетенных тетрадей, в которых содержится буквально все, что об этом эксперименте можно сказать» [92, с. 33].
Документальной регистрации подлежат все компоненты эксперимента: испытуемый, экспериментатор, стимуляция, ответы испытуемого и условия опыта. Об испытуемом сообщается максимум возможной информации: пол, возраст, физические и психологические характеристики, состояние здоровья в целом и исследуемых психофизиологических систем (например, сенсорных), уровень образования, ЗУН в соответствующей эксперименту области. Список этот зависит, естественно, от задач эксперимента и возможностей в получении достоверной информации. Иногда эти возможности стесняются этическими нормами. Но общее правило: осветить предельно возможное число характеристик испытуемого. Зачастую даже незначительные на первый взгляд сведения впоследствии (при анализе и интерпретации данных) могут оказаться весьма информативными. Экспериментатор должен четко определить, какие характеристики испытуемого он будет рассматривать в качестве дополнительных внутренних переменных и которые их этих ДП требуют строгого контроля. Что касается имени испытуемого, то если нет необходимости в анонимности обследования, то желательно привести и его. Иногда прибегают к условным обозначениям испытуемых, к псевдонимам.
Сведения об экспериментаторе и его помощниках (в частности, о протоколисте) нужны по трем причинам. Во-первых, это стимулирует повышенную ответственность за качество проведения и фиксации эксперимента. Во-вторых, есть возможность при повторениях эксперимента другими исследователями обратиться за сведениями, консультациями, рекомендациями к соответствующему адресату. В-третьих, если обнаруживается заметное влияние экспериментатора на ответы испытуемого, то возможно проанализировать, какие качества исследователя имеют значение в этих ситуациях. Данные об экспериментаторе, конечно, менее обширны, чем об испытуемом, но его имя, должность, специальность и т. п. «реквизиты» – обычно обязательный элемент экспериментальной документации.
Стимуляция в виде независимых переменных описывается в целом и конкретизируется в качественных и количественных характеристиках, приводимых в протоколе эксперимента. Многие эксперименты (особенно функционального уровня) проводятся с использованием специальных средств дозирования и предъявления стимуляции. Тогда дается описание соответствующей аппаратуры и режим экспонирования стимульного материала. Дан- ные о стимуляции должны быть исчерпывающими. Пробелы в этих сведениях недопустимы, так как чреваты серьезными ошибками на стадиях обработки данных и интерпретации результатов.
Ответы испытуемого синхронизируются с изменениями стимуляции. Их регистрация ведется столь же тщательно, как и фиксация предъявления НП. Здесь надо напомнить, что регистрации доступны только экстериоризированные действия испытуемого в виде вербальных, двигательных или физиологических ответов. Как писал П. Фресс, «мы наблюдаем не интеллект, а то, как испытуемые решают задачи, не общительность, а то, сколько раз и к скольким лицам обращается субъект в данной ситуации» [388, с. 111]. Поэтому регистрация ответов должна носить описательный, а не объяснительный характер. Интерпретация – потом. На стадии проведения эксперимента ответы должны фиксироваться точно, простым и единообразным для серии опытов языком. Чаще всего это цифровые или какие-либо унифицированные показатели и с однозначным толкованием. Как правило, для ответов в протоколе оставляются специальные места. Количество и порядок ответов предопределены планом эксперимента. Неожиданные изменения в предъявлении стимуляции, влекущие соответствующие изменения в режиме ответов нежелательны.
Способ реагирования испытуемого на стимуляцию, а следовательно, и типы ответов регламентируются инструкцией. В психологических экспериментах чаще других применяется принудительная инструкция, обязывающая испытуемого реагировать на стимуляцию заранее оговоренным образом. Инструкция испытуемому в экспериментальных отчетах приводится обязательно и дословно.
Условия опыта фиксируются предельно широко и точно. Экспериментатор заранее определяет, что необходимо отнести к важным и строго контролируемым условиям, а чем можно пренеб- ? речь, т. е. определяется область дополнительных внешних переменных, требующих строгого контроля. Обязательной фиксации обычно подлежат время (года, суток) проведения опыта, место (географическое и ситуационное), обстановка, акустическая среда, освещенность, используемая аппаратура и специальные устройства и оборудование, наличие других людей.
Большинство психологических экспериментов проводятся в специальных лабораторных условиях. «Классическим признаком психологической лаборатории является оснащенность ее оборудованием» [388, с. 122]. Поэтому немного задержимся на этом вопросе. Оборудование выполняет в эксперименте три функции:
средство воздействия на испытуемого (источник стимуляции),
средство регистрации его ответов, 3) средство обеспечения комфортности и постоянства внешних условий опыта. Главным компонентом оборудования выступает аппаратура, обеспечивающая выполнение первых двух функций. К аппаратуре предъявляются следующие основные требования: 1) необходимые точность и надежность; 2) прочность конструкции; 3) отсутствие дополнительных кроме стимуляции эффектов, влияющих на ответы испытуемого; 4) возможность автоматизации экспонирования стимульного материала и регистрации ответов; 5) удобство и простота в использовании.
В последнее время широкое распространение получили автоматизированные эксперименты. В них комплекс аппаратуры включает в себя ЭВМ, программа которой четко синхронизирует весь процесс эксперимента и обеспечивает не только предъявление стимуляции и регистрацию ответов, но и соответствующую обработку данных, а иногда и элементарную интерпретацию результатов [189]. К этому разряду эксперимента следует отнести и диалог «человек – ЭВМ». Диалоговый режим эксперимента повышает эффективность исследования, предоставляя возможность быстрого нахождения оптимальных вариантов процедуры за счет непрерывного получения промежуточных результатов, выдаваемых компьютером. Таким образом, диалоговый режим позволяет в полной мере реализовать упоминавшееся «гибкое планирование».
Возможности компьютеризации эксперимента еще далеко не исчерпаны, и подобные исследования имеют далекую перспективу. Однако надо заметить, что совершенство аппаратуры еще не гарантирует точности опыта и адекватности метода. Никакая техника не компенсирует изъянов гипотезы или методики. Тем более что в настоящее время «в России не налажен выпуск аппаратуры для проведения психологических экспериментальных исследований. Нет стандарта оборудования экспериментальных лабораторий. Выпуск тестовых методик также не удовлетворяет потребности исследователей и практиков. Поэтому основная аппаратура либо изготавливается самостоятельно, кустарным способом, либо, если это возможно (преимущественно в психофизиологических исследованиях), используется медицинское оборудование и аппаратура для биофизических и психофизиологических исследованиий» [120, с. 93].
Завершить обзор фиксации эксперимента следует указаниемна основной документ, составляемый экспериментатором. Это – протокол. В нем должны быть отражены все перечисленные выше сведения о всех основных компонентах исследования. Обычно протокол включает следующие крупные разделы: 1) вводная часть («шапка»), где приводятся основные «паспортные» сведения об эксперименте (тема, цели, задачи, внешние условия, методика с инструкцией испытуемому, данные об испытуемом, экспериментаторе и его ассистентах (в частности, о протоколисте); 2) основная часть – таблица с исчерпывающей информацией о системе стимулов и ответов испытуемого; 3) дополнительные сведения полученные в ходе эксперимента. Протокол подписывается экспериментатором и протоколистом. В учебных целях часто в протокол включаются дополнительные разделы: обработка данных, обсуждение результатов (интерпретация) и выводы.
5. Планирование и проведение эксперимента.
Планирование экспериментаПланирование эксперимента входит составной частью в общее планирование исследования, представляющее один из этапов исследовательского процесса, предшествующий непосредственному проведению опытов. «Планирование эксперимента – это раздел знаний, относящийся не только и не столько к математической статистике, сколько к логике» [231, с. 122]. Суть его заключается в составлении набора экспериментальных ситуаций с определенными комбинациями независимых и зависимых переменных [18, 48, 211, 388, 395].
Иногда планирование эксперимента толкуется расширительно: как обеспечение валидности опыта [120,356]. В самом общем плане под валидностью понимается соответствие метода задаче исследования. Для обеспечения валидности эксперимента тогда необходимо составить перечень всех видов переменных и продумать не только план предъявления независимых переменных, но и предусмотреть процедуры контроля дополнительных переменных. Эти ДП обычно рассматриваются как факторы, «угрожающие» валидности [178].
Мы в своем изложении будем придерживаться более традиционного узкого толкования планирования эксперимента – как части планирования эмпирической процедуры, касающейся лишь порядка предъявления НП. Тогда в зависимости от количества независимых и зависимых переменных возможны четыре типа планов:
Одна НП и одна ЗП. Этот тип называют одновариантным,или однофакторным планом. Наиболее часто встречающийся в исследовательской практике вариант. Можно сказать,что это «классический» вариант эксперимента. Посколькуизмерению и контролю подлежат только две переменные,этот тип эксперимента часто называют двумерным, или бивалентным.
Одна НП и несколько ЗП. В экспериментальной практикевариант встречается редко.
Несколько НП и одна ЗП. Распространенный вариант.Именно он обычно противопоставляется первому типу, когда говорят о многовариантном, многомерном, многофакторном или многоуровневом планировании и экспериментировании.
Несколько НП и несколько ЗП. Вариант так же редок, каки второй тип.
В дальнейшем изложении будем иметь в виду первый и третий типы эксперимента как наиболее характерные для психологических исследований. О планировании эксперимента как о предусмотрении необходимых ситуаций воздействия на испытуемого в полной мере обычно говорят лишь при многомерном эксперименте. В случае «классическом» нет особой нужды в специальном планировании, поскольку нет комбинаций воздействующих факторов – всего одна НП, имеющая некоторое заданное экспериментатором число значений. Эта процедура характерна для экспериментирования на функциональном уровне.
В многомерном эксперименте совокупность комбинаций переменных должна охватить все основные варианты возможного влияния НП на ЗП. И тогда для исчерпывающего ответа на вопросы, что и как влияет на реакции испытуемого, и для рационального расходования времени и ресурсов прибегают к специальному планированию и составлению необходимых сочетаний отдельных значений различных переменных. Эти значения могут относиться к переменным, выражаемым как количественно, так и качественно. Сочетаемые значения переменных П. Фресс именует «степенями переменных» [388, с. 135], К. У. Эттрих– «ступенями» и «модальностями» переменных [424, с. 471], Дж. Стенли и Дж. Гласе – «уровнями факторов» [87, с. 438], Р. -Готтсданкер – «условиями или уровнями переменной» [92, с. 363].
Подобное планирование осуществляется преимущественно при экспериментировании на факторном уровне. Составляемые планы позволяют выяснить, оказывает ли НП заметное влияние на ЗП. Но они не позволяют выяснить функциональной связи между НП и ЗП. Это удается сделать только в эксперименте с одной НП, изменения которой имеют количественный характер.
Идея планирования эксперимента обычно связывается с именем Р. Фишера, разрабатывавшего в этих целях метод дисперсионного анализа. Первые внедрения этого планирования относятся к агробиологии. В психологию планирование эксперимента введено около 1940 г.
Указанное планирование может осуществляться различными способами: факторное планирование; методы латинского и греко-латинского квадратов; методы латинского прямоугольника и куба; вариации латинского квадрата в виде диагональных, сбалансированных и частично сбалансированных неполноблочных планов; дробные факторные планы. Рассмотрим лишь три первых метода как базовые способы планирования.
а. Факторное планирование предусматривает все возможные сочетания значений независимых переменных. Проиллюстрируем этот метод примерами. Для наглядности представим их в табличной форме.
Допустим, имеются две НП с двумя значениями каждая: К1, К2 и L1, L2. Тогда возможны 4 их сочетания, т. е. 4 экспериментальных ситуации (2x2): 1) К1, L1; 2) К2 L1; 3) К1, L2; 4) К2 L2:

Для двух переменных с тремя значениями каждая будет иметь 9 ситуаций (3x3): 1) К1L1; 2) К1L2; 3) К1L3; 4) К2L1; 5) К2L2; 6) К2L3; 7) К3L1; 8) К3L2; 9) K3L3:

Для трех переменных с двумя значениями каждой имеем 8 ситуаций (2x2x2): 1) К1,L1,М1; 2) К2,L1,М1; 3) К1,L2,М1; 4) К1,L2,М2; 5) К2,L2,М1; 6) К2,L2,М2; 7) К2,L2,М2; 8) К1,L1,М1:

Для трех переменных с тремя значениями будет 27 сочетаний (3x3x3):

Таким образом, общее число возможных сочетаний определяется произведением показателей числа значений по каждому фактору (переменной). Для двух факторов с числом значений «К» для первого и «L» для второго число сочетаний равно KxL. Для трех факторов с числом значений соответственно К, L, М число сочетаний равно KxLxM. Для 4 факторов с показателями К, L, М, N число сочетаний равно KxLxMxN. И так далее.
В чем достоинство факторного планирования по сравнению с процедурой, предусматривающей изменение только одной переменной? Рассмотрим этот вопрос на простом примере, приводимом П. Фрессом в его «Экспериментальном методе» [388, с. 137– 138]. Изучается влияние ожидания на время реакции (ВР) при двух различных длительностях ожидания (А, = 20 с и А2= 60 с) и при двух типах ожидания (В,= безразличное ожидание и В2 = ожидание со страхом, когда сигнал сопровождается ударом электрического тока). Графически план выглядит так:

Тогда имеем: 1) измерения способствуют решению двух проблем одновременно: влияние длительности ожидания (влияние переменной А) и влияние характера ожидания (влияние переменной В). В эксперименте с изменением только одной переменной потребовалось бы для решения обеих этих проблем не четыре опыта (A,Bj, A2B2, А,В2, А2В2), а восемь: А, и Aj при условии В,, а затем при В2, после чего В( и В2 в случае А,, а потом в случае А2; 2) расширяется база для анализа и индуктивных выводов, так как возможны разнообразные перегруппировки данных. Так, можно проверить влияние каждого фактора (каждого значения НП) по отдельности и сравнить его с общим влиянием данной переменной. Для Aj – это ситуации 1 и 3, для Aj – 2 и 4, для B{ – 1 и 2, для В2 – 3 и 4.
Очевидно, что в этом случае представляется возможность определить влияние взаимодействия переменных, чего в однофак-торном эксперименте получить нельзя. Взаимодействие состоит в том, что влияние одной НП на зависимую переменную зависит от значения другой НП. В примере П. Фресса это означает, что влияние характера ожидания зависит от длительности. Скажем, ожидание со страхом по сравнению с нейтральным ожиданием по-разному влияет на время реакции в зависимости от того, короче оно или длиннее. Чтобы удостовериться в этом, нужно сравнить различия между ситуациями 1 и 2 с различиями между ситуациями 3 и 4. Если сравниваемые различия одного порядка – то взаимодействия нет, если же разного порядка– то взаимодействие НП налицо.
Факторное планирование удобно при небольшом числе переменных с небольшим числом их значений. Но даже незначительное увеличение числа НП или числа их значений резко увеличивает количество необходимых экспериментальных ситуаций.; Обилия ситуаций избегают путем искусственного ограничения количества сочетаний всех имеющихся значений переменных. Реализуется этот прием методами латинского и греко-латинского квадратов. Иногда эти методы называют «редуцированными г многовариантными планами» [424, с. 490-491].
б. Метод латинского квадрата. Этот прием используется при трех независимых переменных с несколькими значениями каждой из них. Принцип метода – каждая пара значений реализуется только один раз.
Практически строится таблица, где колонки соответствуют одной переменной, строки – второй, а каждая колонка и строка включали бы все значения третьей НП.

При трех переменных с тремя значениями каждой экспериментальный план выглядит следующим образом:
План включает 9 полей (ситуаций), тогда как при тех же условиях факторный план состоял бы из 27 ситуаций, а однофактор-ный (с одПлан включает 9 полей (ситуаций), тогда как при тех же условиях факторный план состоял бы из 27 ситуаций, а однофактор-ный (с одной НП) - из 81. Название метод получил по сложив-ной НП) - из 81. Название метод получил по сложившейся традиции обозначать показатели третьей переменной, а соответственно и получающиеся ситуации буквами латинского алфавита (А, В, С). Видно, что строки и колонки квадрата однородны: каждая есть совокупность ситуаций А, В и С. Это позволяет трижды перегруппировать результаты (по строкам, колонкам и буквам), что дает возможность проверить влияние каждой переменной по отдельности. Выявить взаимодействие переменных здесь весьма сложно. Но можно нейтрализовать влияние этого взаимодействия, увеличивая число разновидностей планов, изменив в строках и колонках порядок букв:
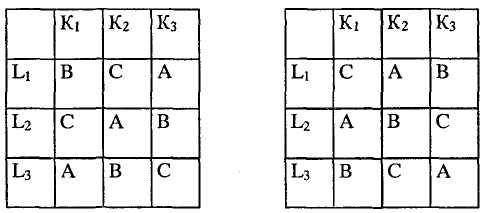
Полный набор вариантов тогда по сути повторяет комбинацию сочетаний по факторному плану. Что лучше? Выбирает экспериментатор.
в. Метод греко-латинского квадрата позволяет ввести четвертую переменную. К каждой латинской букве плана добавляется греческая буква, соответствующая значениям четвертой переменной. Распределение греческих букв подчиняется тому же закону, что и латинских: оно должно быть полным в каждой строке и колонке и таким, чтобы 3-я переменная (латинская буква) появлялась в каждом случае только один раз при появлении 4-й НП (греческой буквы). При трех значениях каждой из четырех НП план выглядит следующим образом:

Полученный план включает 9 ситуаций. Аналогичный вариант по факторному плану состоял бы из 3x3x3x3=81 ситуации.
Существуют, как уже говорилось, и другие, более сложные планы, нежели рассмотренные нами три метода. Но все они зиждятся на том же принципе: перегруппировка частных данных и их сравнение с совокупностями других результатов. Напомним, что любой экспериментальный план, во-первых, эффективен лишь на факторном уровне эксперимента и, во-вторых, может трансформироваться в другие виды при так называемом гибком планировании. Суть последнего – в одновременном исполнении исследовательских этапов планирования, сбора эмпирических данных и их обработки. Подобное совмещение разных по сути исследовательских процедур возможно при компьютерном варианте экспериментирования, когда «исследователь имеет возможность оценивать целостную картину полученных результатов после каждого промежуточного этапа проведения эксперимента (в полностью автоматизированном эксперименте минимальный шаг может равняться отдельной пробе)» [153, с. 48].
В целом, не принижая важности планирования эксперимента, не следует слишком переоценивать его значение в психологических исследованиях. Причина проста. Количество переменных в психологических опытах бесконечно. Учесть даже малую их толику невозможно. Поэтому исследователь выбирает, опираясь на свои опыт и интуицию, минимум переменных, наиболее существенных, по его мнению. Увеличение числа переменных и, как следствие, загромождение экспериментального исследования сложнейшими планами, которые в реальных условиях зачастую не выполнить, ведет к потере нити исследования и побледнению психологической специфики на фоне логико-математических манипуляций. «Деревья заслоняют лес». А уровень точности и тонкости исследования предопределяется не столько тщательностью планирования порядка предъявления НП и контроля ДП, сколько первичным отсевом действующих в реальности переменных.
Никоим образом не умаляя ценности самых широких и изощренных разработок в области планирования эксперимента и внедрения разнообразных планов в психологические исследования, все же следует предостеречь от гипертрофированного увлечения этой процедурой и придания ей статуса «центрального звена» [120, с. 93] всего процесса психологического экспериментирования.
Подробнее и в более широком контексте, ориентированном на перспективы развития психологических исследований, с вопросом планирования эксперимента можно познакомиться в целом ряде работ [3, 120, 165, 178 и др.].
Экспериментальное исследование в психологии, как и в любых других науках, проводится в несколько этапов. Часть из них обязательна, часть — в некоторых случаях может отсутствовать, но последовательность шагов необходимо запомнить, чтобы не делать элементарных ошибок.
Приведем основные этапы психологического экспериментального исследования и кратко рассмотрим их содержание.
1. Любое исследование начинается с определения его темы. Тема ограничивает область исследований, круг проблем, выбор предмета, объекта и метода. Однако первым этапом собственно исследования является первичная постановка проблемы. Исследователь должен уяснить себе, чем он неудовлетворен в современном психологическом знании, где он ощущает пробелы, какие теории дают противоречащие друг другу объяснения поведения человека и т.д.
Эмпирическое исследование проводится в трех основных случаях:
— проверка гипотезы о существовании явления;
— проверка гипотезы о существовании связи явлений;
— проверка гипотезы о причинной зависимости явления А от явления В.
Собственно эксперимент применяется только для обнаружения причинной связи явлений. Что является основной причиной повышенной невротизации (синдром школьной дезадаптации) детей 6-7 лет в первые месяцы учебы в школе? Возможные варианты ответов: низкий уровень готовности к учебной деятельности (несформированность первичных учебных навыков), недостаточное развитие произвольности, низкий уровень интеллекта, социально-психологические проблемы вхождения в классный коллектив и т.д. Каждая из этих гипотез требует проверки, хотя все они кажутся обоснованными и правдоподобными.
2. После первичной постановки проблемы наступает этап работы с научной литературой. Исследователь должен ознакомиться с экспериментальными данными, полученными другими психологами, и попытками объяснения причин заинтересовавшего его явления.
К услугам современного исследователя компьютерные базы данных, сети Internet или Relcom и др., библиотеки, специализированные журналы.
Первичная работа начинается с поиска определений базовых понятий, которые содержатся в психологических словарях, а также в словарях и энциклопедиях по смежным дисциплинам. Там же имеются и ссылки на основные публикации по проблеме. Следующий шаг — составление библиографии по тематике исследования с помощью библиотечных систематических каталогов. Предварительное знакомство с публикациями на тему исследования можно получить из реферативных журналов. В нашей стране единственный журнал такого рода, издаваемый ВИНИТИ, — «0.4. Биология. Раздел 0.4.II. Психология». Из зарубежных изданий наиболее авторитетным является Psychological Abstract, выпускаемый Американской психологической ассоциацией. В нем содержатся краткие аннотации на большинство работ, выходящих в англоязычных психологических журналах. Более подробную информацию об исследованиях, относящихся к выделенной проблеме, следует искать в самих публикациях: статьях научных журналов, сборниках и монографиях. Наиболее авторитетные психологические российские научные журналы: «Психологический журнал», издаваемый Российской академией наук; «Вопросы психологии» — орган Российской академии образования; «Вестник МГУ, серия Психология», выпускаемый издательством МГУ; «Психологическое обозрение» — орган Российского психологического общества; «Школа здоровья», издаваемый Центром «Диагностика, адаптация, развитие» им. Л. С. Выготского; «Иностранная психология», издаваемый Институтом психологии РАН.
Результат работы над литературным обзором — это уточнение проблемы, возникновение новой гипотезы и идеи плана экспериментального исследования. Возможно, что психолог и откажется от исследования, так как проблема может показаться неразрешимой или, наоборот, настолько исследованной, что ничего нового к имеющимся результатам добавить уже нельзя.
3. На следующем этапе происходит уточнение гипотезы и определение переменных. Первичная постановка проблемы уже скрыто предполагает варианты ответа на нее. Например, вопрос о том, что в большей мере — наследственность или среда — влияет на уровень развития общего интеллекта, ограничивает множество общих теоретических предположений. Аналогично, если поставить проблему — какой анализатор выполняет функцию интегратора сенсорной информации на ранних стадиях развития психики ребенка, — ответ будет ограничен списком анализаторных систем и «нулевым» ответом («никакой»).
Экспериментальная гипотеза, в отличие от теоретической, должна быть сформулирована в виде импликативного высказывания: «Если... то...». Кроме того, она должна быть конкретизирована и операционализирована. Это означает, что входящие в высказывание «если А, то В» переменные А и В должны контролироваться в эксперименте: А — управляться экспериментатором, а В — регистрироваться непосредственно или с помощью аппаратуры. Определение переменных в терминах экспериментальной процедуры и их операционализация завершают этап уточнения гипотезы. Тем самым уточняется предмет экспериментального исследования: та сторона психики, на которую направлено экспериментальное воздействие и которая регулирует проведение, регистрируемое в ходе эксперимента. Психическая реальность всегда выступает в эксперименте «переменной-модератором», или «промежуточной переменной».
Психолог управляет не психической реальностью, а внешними параметрами ситуации, воздействующими на психику испытуемого. Регистрируя независимую переменную, он исходит из того, что между «переменной-модератором» и параметрами поведения существует функциональная (психорегулятивная) связь. Это основная общая гипотеза — предпосылка любого психологического эксперимента.
Следует отметить, что встречающиеся в ряде бюрократических документов требования обязательно описать актуальность, научную новизну, практическую значимость исследования, выделить его «цели», «задачи» и др. к организации и планированию реальной научной работы никакого отношения не имеют.
Помимо независимой, зависимой переменных и «переменной-модератора» должны быть определены и операционализированы внешние переменные, которые могут влиять на зависимую переменную.
4. Исследователь должен выбрать экспериментальный инструмент, который позволял бы ему: а) управлять независимой переменной; б) регистрировать зависимую переменную. Речь идет о конкретной методике и аппаратуре психологического эксперимента. Кроме того, условия эксперимента (помещение, ситуация, время и др.) должны либо элиминировать влияние внешних переменных, либо сохранять константность величины их воздействия на зависимую переменную.
Характер используемой аппаратуры определяется тем, какую методику выберет или сконструирует экспериментатор. Исследование феномена полезависимости — поленезависимости может проводиться с помощью различных конкретных методик.
а) теста «Спрятанные фигуры»;
б) методики «Стержень — рамка» или «Крест — рамка»;
в) методики «Стержень — наклонная комната» и т.п.
В первом случае исследователь использует в работе карандаш, бланк теста Виткина—Готшальдта и секундомер. Во втором случае лучше проводить автоматизированный эксперимент с помощью компьютера: предъявление стимульного материала реализуется на дисплее, а действия испытуемого регистрируются посредством джойстика. Наконец, третий вариант требует специального оборудования — экспериментальной камеры.
В психологическом эксперименте может применяться самая разнообразная аппаратура, в том числе психофизиологическая. Следует лишь избегать перегрузки испытуемого избыточными для исследования тестами.
К сожалению, в России не налажен выпуск аппаратуры для проведения психологических экспериментальных исследований. Нет стандарта оборудования экспериментальных лабораторий. Выпуск тестовых методик также не удовлетворяет потребности исследователей и практиков. Поэтому основная аппаратура либо изготавливается самостоятельно, кустарным способом, либо, если это возможно (преимущественно в психофизиологических исследованиях), используется медицинское оборудование и аппаратура для биофизических и психофизиологических исследований.
5. Планирование экспериментального исследования является центральным этапом всей процедуры. В первую очередь речь идет о выделении внешних переменных, которые могут влиять на зависимую переменную. Планирование необходимо для обеспечения внешней и внутренней валидности эксперимента. Специалисты рекомендуют многочисленные техники контроля внешних переменных.
Следующим шагом является выбор экспериментального плана. Какой план предпочтительнее? Ответ на этот вопрос зависит от того, какова экспериментальная гипотеза, какое число внешних переменных вы должны контролировать в эксперименте, какие возможности предоставляет ситуация для проведения исследований и т.д. При ограниченности времени и ресурсов (в том числе финансовых) выбирают максимально простые экспериментальные планы. Для проверки сложных гипотез, требующих управления несколькими независимыми переменными и/или учета многих дополнительных переменных, используют соответствующие усложненные планы.
Исследователь может проводить эксперимент при участии одного испытуемого. В этом случае он применяет какой-либо из планов исследования для одного испытуемого (single-subject research). Если исследователь работает с группой, то он может выбрать ряд планов с использованием экспериментальной и контрольных групп. Простейшими являются планы для двух групп (основной и контрольной). Если необходим более сложный контроль, применяются планы для нескольких групп. Другой вариант, часто используемый в психологии, — факторные планы. Они используются, если требуется выявить влияние двух и более независимых переменных на одну зависимую. При этом независимые переменные могут иметь несколько уровней интенсивности. Простейшие факторные планы типа 2х2 или 2х2х2 предполагают использование двух и соответственно трех независимых переменных с двумя уровнями градации.
Существуют и более сложные экспериментальные планы.
Процессуальная классификация планов для исследования связи двух переменных создана Д. Кэмпбеллом. Основными являются: простой план для двух групп с предварительным тестированием (тест—воздействие—ретест); план для двух рандомизированных групп без предварительного тестирования (рандомизация—воздействие—тест); план Соломона для четырех групп, объединяющий оба этих плана. Они называются планами истинных экспериментов.
В случае, если план истинного эксперимента реализовать невозможно или не нужно, исследователь применяет один из квазиэкспериментальных планов.
6. Отбор и распределение испытуемых по группам проводится в соответствии с принятым экспериментальным планом. Всю совокупность потенциальных испытуемых, которые могут быть объектами данного психологического исследования, обозначают как популяцию, или генеральную совокупность. Множество людей или животных, принимающих участие в исследовании, называют выборкой. Состав экспериментальной выборки должен моделировать, представлять (репрезентировать) генеральную совокупность, поскольку выводы, получаемые в эксперименте, распространяются на всех членов популяции, а не только на представителей этой выборки.
Выбор популяции зависит от целей исследования. Специалист по психогенетике выбирает в качестве испытуемых моно- и дизиготных близнецов, а также их родителей, дедушек и бабушек. Медицинский психолог при изучении агрессивного поведения у лиц с синдромом посттравматического стресса исследует выборку ветеранов афганской войны. Исследователь закономерностей оперантного научения проводит эксперименты на выборке крыс.
Все потенциальные испытуемые характеризуются разным полом, возрастом, социальным положением, уровнем образования, состоянием здоровья и т. д. Кроме того, они обладают различными индивидуально-психологическими особенностями, например разными уровнями интеллекта, нейротизма, агрессивности. Для того чтобы выборка представляла генеральную совокупность, потенциальным испытуемым должны быть предоставлены равные шансы стать реальными участниками исследования. Техника рандомизации состоит в том, что всем представителям совокупности присваивается индекс, а затем производится случайный отбор в группу необходимой численности для участия в эксперименте. В этом случае мы имеем три группы: 1)всю генеральную совокупность; 2)группу рандомизации, из которой производится отбор; 3) экспериментальную рандомизированную выборку.
Одно из требований к выборке — репрезентативность. Выборка должна качественно и количественно представлять генеральную совокупность, основные типы потенциальных испытуемых, существующие в популяции. Испытуемые должны быть правильно распределены по экспериментальной и контрольным группам, чтобы все группы были эквивалентными. Существует множество конкретных приемов формирования выборки, которые будут рассмотрены в разделе 4.4.
Кроме того, исследователь распределяет группы относительно разных условий эксперимента так, чтобы контролировать или учитывать возможные эффекты последовательности, дифференцированного переноса и др.
7. Проведение эксперимента является, очевидно, наиболее ответственной частью исследования, требующей от человека не только знаний и навыков, но и способностей к экспериментированию. Любой самый лучший замысел можно испортить небрежным проведением эксперимента. В ходе эксперимента исследователь организует процесс взаимодействия с испытуемым, зачитывает инструкцию, проводит, если это необходимо, обучающую серию. Он варьирует независимую переменную (задачи, внешние условия и др.), проводит сам или с помощью ассистента регистрацию поведения испытуемого.
Наконец, экспериментатор опрашивает испытуемого по окончании эксперимента (постэкспериментальное интервью).
Кратко охарактеризуем основные этапы проведения эксперимента.
а) Подготовка эксперимента. Исследователь готовит экспериментальное помещение и оборудование. Если это необходимо, проводится несколько пробных опытов для отладки процедуры эксперимента. Важнейшим моментом является разработка и уточнение инструкции. Она должна состоять из кратких предложений, каждое из которых включает не более 11 слов. В инструкции с помощью абзацев выделяются смысловые блоки. Ее проверяют на понятность и простоту, проводя предварительный опыт на 5-10 испытуемых.
б) Инструктирование и мотивирование испытуемых. Инструкция должна включать в себя мотивационные компоненты. Испытуемый должен знать, какие возможности предоставляет ему участие в эксперименте. Это может быть денежная оплата (характерно для американской и бывшей советской психологии), информация о его способностях и личностных чертах, помощь в решении личных проблем и т. д. Поскольку ситуация эксперимента для большинства испытуемых непривычна, они испытывают тревогу, их внимание может флуктуировать. Кроме того, скорость понимания инструкции зависит от индивидуальных когнитивных способностей, особенностей темперамента, знания языка и т. д. Поэтому следует проверить, правильно ли испытуемые поняли инструкцию, и повторить ее при необходимости, избегая, однако, дополнительных развернутых комментариев.
в) Экспериментирование. Вначале следует убедиться в дееспособности испытуемого, в том, что он здоров и желает участвовать в эксперименте. Перед экспериментатором должна лежать инструкция, в которой зафиксирован порядок его действий в ходе исследования. Обычно в эксперименте принимает участие и ассистент. Он берет на себя вспомогательные задачи. Чаще всего именно ассистент ведет протокол, в котором фиксируются ответы испытуемого. Кроме того, ассистент ведет общее наблюдение за поведением испытуемого и его состоянием, а также за всеми отклонениями от стандартной процедуры эксперимента. Он же следит за работой аппаратуры. Если эксперимент проводится с использованием компьютера, то внимание ассистента и экспериментатора освобождается от ряда рутинных процедур. Эксперимент в зависимости от целей исследования может быть частично или полностью автоматизированным. Проблеме автоматизации психологического исследования и применению компьютеров в эксперименте на человеке посвящено множество монографий и сборников научных работ. Протоколировать ответы испытуемого лучше сразу посредством ввода данных в электронную таблицу, которая создается в компьютере (пакет EXCEL). В любом случае рекомендуется регистрировать дополнительные признаки поведения испытуемого, его эмоциональные реакции по ходу эксперимента. Необходимым завершающим этапом является постэкспериментальное интервью. По завершении эксперимента следует провести беседу с испытуемым и поблагодарить его за участие в исследовании.
8. Выбор методов статистической обработки, ее проведение и интерпретация результатов — следующий этап исследования.
Обычно методы обработки данных выбираются на стадии планирования эксперимента или же еще раньше — при выдвижении экспериментальной гипотезы. Экспериментальная гипотеза преобразуется в статистическую. Возможных типов статистических гипотез в экспериментальном исследовании немного:
а) о сходстве или различии двух и более групп;
б) о взаимодействии независимых переменных;
в) о статистической связи независимых и зависимых переменных;
г) о структуре латентных переменных (относится к корреляционному исследованию).
Статистические оценки дают информацию не о наличии, а о достоверности сходств и различий результатов контрольных и экспериментальных групп.
Существуют «привязки» определенных методов обработки результатов к экспериментальным планам. Для оценки различий данных, полученных при применении плана для двух групп, используют критерии: t, χ2 и F. Факторные планы требуют применения дисперсионного анализа для оценки влияния независимых переменных на зависимую, а также для определения меры их взаимодействия друг с другом.
Существуют стандартные пакеты программ для математической обработки данных. Наиболее известные и доступные: Statistica, Stadia, Statgraphics, SyStat, SPSS, SAS, BMDP. Все пакеты делятся на виды: 1) специализированные пакеты; 2) пакеты общего назначения и 3) неполные пакеты общего назначения. Для исследователей рекомендуются пакеты общего назначения. Западные статистические пакеты требуют хорошей подготовки пользователя на уровне знания университетского курса математической статистики и многомерного анализа данных. Каждая программа снабжается документацией. По мнению экспертов, наилучший вариант документации у пакета SPSS. Отечественные пакеты более приближены к возможностям нашего пользователя. Сопутствующая информация (справочник, интерпретатор выводов и др.) включается в программную систему. Примерами являются отечественные статистические пакеты Stadia, «Мезозавр», «Эвриста».
9. Выводы и интерпретация результатов завершают исследовательский цикл. Итогом экспериментального исследования является подтверждение или опровержение гипотезы о причинной зависимости между переменными: «Если А, то В».
Подтверждение статистических гипотез (о различиях, связи и пр.) — решающий, но не единственный аргумент в пользу принятия экспериментальной гипотезы. Исследователь сопоставляет свои выводы с выводами других авторов, высказывает гипотезы о причинах сходства или различия между данными, полученными им самим, и результатами предшественников. И наконец, он интерпретирует свои выводы в терминах теоретической гипотезы. Он должен ответить на вопрос: можно ли считать подтверждение или опровержение эмпирической гипотезы подтверждением или опровержением той или иной теории. Возможно, что ни одна теория не может объяснить полученные в эксперименте результаты. Тогда экспериментатор, если он склонен к теоретизированию, пытается сам теоретически объяснить полученные в эксперименте результаты. Кроме того, он высказывает предположения о возможности обобщения и переноса полученных им данных на другие ситуации, популяции и т.д.
10. Конечным продуктом исследования являются научный отчет, рукопись статьи, монография, письмо в редакцию научного журнала.
Существуют определенные требования к оформлению рукописной научной работы, наглядному представлению результатов и структуре изложения. (Представление результатов исследования рассматривается в гл. 7)
Подведем итог. Экспериментальное исследование проводится по определенной схеме. Важнейшие этапы его проведения: формулировка проблемы и выдвижение гипотезы, конструирование методики и подбор аппаратуры, отбор испытуемых, создание плана для контроля переменных, проведение эксперимента, обработка и интерпретация результатов, подготовка научного отчета.
Исследование считается завершенным, если экспериментальная гипотеза опровергнута или не опровергнута с заданной надежностью, а результаты исследования в соответствующей форме представлены на суд научной общественности. Ибо исследователь, как гласит старая поговорка, — это человек, испытывающий склочный интерес к работе коллег.
Научная проблемаПостановка проблемы — начало любого исследования. И самые наивные, «детские» вопросы («Почему небо голубое?» или «Кто сильнее: кит или слон?») являются прототипами проблемы. Не нуждается в исследовании лишь подтверждение очевидности.
В отличие от житейской, научная проблема формируется в терминах определенной научной отрасли. Она должна быть операционализированной. «Почему солнце светит?» — вопрос, но не проблема, поскольку здесь не указаны область средств и метод решения. «Являются ли различия в агрессивности, личностном свойстве людей, генетически детерминированным признаком или зависят от влияний семейного воспитания? — это проблема, которая сформулирована в терминах психологии развития и может быть решена определенными методами.
Постановка проблемы влечет за собой формулировку гипотезы. Откуда берется проблема? В науке формулирование проблемы — обнаружение «дефицита», нехватки информации для описания или объяснения реальности. Способность обнаружить «белое пятно» в знаниях о мире — одно из главных проявлений таланта исследователя.
Итак, можно выделить следующие этапы порождения проблемы:
— выявление нехватки в научном знании о реальности;
— описание проблемы на уровне обыденного языка;
— формулирование проблемы в терминах научной дисциплины.
Второй этап необходим, так как переход на уровень обыденного языка дает возможность переключаться из одной научной области (со своей специфической терминологией) в другую. Например, причины агрессивности поведения людей можно искать не в психологических факторах, а в биогенетических, и решать проблему методами общей или молекулярной генетики. Можно окунуться в астрологическое знание и попытаться сформулировать проблему в иных терминах — в терминах влияния планет на характер и поведение человека.
Таким образом, уже формулируя проблему, мы сужаем диапазон поиска ее возможных решений и в неявном виде выдвигаем гипотезу исследования.
Проблема — это риторический вопрос, который исследователь задает природе, но отвечать на него должен он сам. «Проблема» — объективно возникающий в ходе развития познания вопрос или комплекс вопросов, решение которых представляет существенный практический или теоретический интерес» [Философский энциклопедический словарь, 1989].
Проблемы подразделяются на реальные проблемы и «псевдопроблемы», которые кажутся значимыми. Кроме того, выделяется класс неразрешимых проблем (превращение ртути в золото, создание «вечного двигателя» и пр.) Доказательство неразрешимости проблемы само по себе является одним из вариантов ее решения.
ГипотезаГипотеза — это научное предположение, вытекающее из теории, которое еще не подтверждено и не опровергнуто.
В методологии науки различают теоретические гипотезы и гипотезы как эмпирические предположения, которые подлежат экспериментальной проверке. Первые входят в структуры теорий в качестве основных частей. Теоретические гипотезы выдвигаются для устранения внутренних противоречий в теории либо для преодоления рассогласований теории и экспериментальных результатов и являются инструментом совершенствования теоретического знания. Научная гипотеза должна удовлетворять принципам фальсифицируемости (если в ходе эксперимента она опровергается) и верифицируемости (если в ходе эксперимента она подтверждается).
Второй тип гипотез — предположения, выдвигаемые для решения проблемы методом экспериментального исследования. Это экспериментальные гипотезы, которые не обязательно должны основываться на теории.
Точнее, можно выделить, по крайней мере, три типа гипотез по их происхождению.
Гипотезы первого типа основываются на теории или модели реальности и представляют собой прогнозы, следствия этих теорий или моделей (так называемые теоретически обоснованные гипотезы). Они служат для проверки следствий конкретной теории или модели.
Второй тип — научные экспериментальные гипотезы, также выдвигаемые для подтверждения или опровержения тех или иных теорий, законов, ранее обнаруженных закономерностей или причинных связей между явлениями, но не основанные на уже существующих теориях, а сформулированные по принципу Фейерабенда: «все подходит». Их оправдание — в интуиции исследователя: «А почему бы не так?» Третий тип — эмпирические гипотезы, которые выдвигаются безотносительно какой-либо теории, модели, то есть формулируются для данного случая. Классическим вариантом такой гипотезы является афоризм Козьмы Пруткова: «Щелкни быку в нос, он махнет хвостом». После экспериментальной проверки такая гипотеза превращается в факт, опять же — для данного случая (для конкретной коровы, ее хвоста и экспериментатора).
Вместе с тем основная особенность любых экспериментальных гипотез заключается в том, что они операционализируемы, они сформулированы в терминах конкретной экспериментальной процедуры. Всегда можно провести эксперимент по их непосредственной проверке.
По содержанию гипотез их можно разделить на гипотезы о наличии: А) явления; Б) связи между явлениями; В) причинной связи между явлениями.
Проверка гипотез типа А — попытка установить истину: «А был ли мальчик? Может, мальчика-то не было?» Существуют или не существуют феномены экстрасенсорного восприятия, есть ли феномен «сдвига к риску» при групповом принятии решения, сколько символов удерживает человек одновременно в кратковременной памяти? Все это гипотезы о фактах.
Гипотезы типа Б — о связях между явлениями. К таким предположениям относится, например, гипотеза о зависимости между интеллектом детей и их родителей или же гипотеза о том, что экстраверты склонны к риску, а интроверты более осторожны. Эти гипотезы проверяются в ходе измерительного исследования, которое чаще называют корреляционным исследованием. Их результатом является установление линейной или нелинейной связи между процессами или обнаружение отсутствия таковой.
Собственно экспериментальными гипотезами обычно считают лишь гипотезы типа В — о причинно-следственных связях. В экспериментальную гипотезу включаются независимая переменная, зависимая переменная, отношения между ними и уровни дополнительных переменных.
Готтсданкер выделяет следующие варианты экспериментальных гипотез:
— контргипотеза — экспериментальная гипотеза, альтернативная к основному предположению; возникает автоматически;
— третья конкурирующая экспериментальная гипотеза — экспериментальная гипотеза об отсутствии влияния независимой переменной на зависимую; проверяется только в лабораторном эксперименте;
— точная экспериментальная гипотеза — предположение об отношении между единичной независимой переменной и зависимой в лабораторном эксперименте;
проверка требует выделения независимой переменной и «очищения» ее условий;
— экспериментальная гипотеза о максимальной (или минимальной) величине — предположение о том, при каком уровне независимой переменной зависимая принимает максимальное (или минимальное) значение. «Негативный» процесс, основанный на представлении о двух базисных процессах, оказывающих противоположное действие на зависимую переменную, при достижении определенного (высокого) уровня независимой переменной становится сильнее «позитивного»;
проверяется только в многоуровневом эксперименте;
— экспериментальная гипотеза об абсолютных и пропорциональных отношениях — точное предположение о характере постепенного (количественного) изменения зависимой переменной с постепенным (количественным) изменением независимой; проверяется в многоуровневом эксперименте;
— экспериментальная гипотеза с одним отношением — предположение об отношении между одной независимой и одной зависимой переменными. Для проверки экспериментальной гипотезы с одним отношением может быть использован и факторный эксперимент, но вторая независимая переменная является при этом контрольной;
— комбинированная экспериментальная гипотеза — предположение об отношении между определенным сочетанием (комбинацией) двух (или нескольких) независимых переменных, с одной стороны, и зависимой переменной — с другой; проверяется только в факторном эксперименте.
Исследователи различают научные и статистические гипотезы.
Научные гипотезы формулируются как предполагаемое решение проблемы. Статистическая гипотеза — утверждение в отношении неизвестного параметра, сформулированное на языке математической статистики. Любая научная гипотеза требует перевода на язык статистики. Для доказательства любой из закономерностей причинных связей или любого явления можно привести множество объяснений. В ходе организации эксперимента количество гипотез ограничивают до двух: основной и альтернативной, что и воплощается в процедуре статистической интерпретации данных. Эта процедура сводима к оценке сходств и различий. При проверке статистических гипотез используются лишь два понятия: Н1 (гипотеза о различии) и Н0 (гипотеза о сходстве). Как правило, ученый ищет различия, закономерности. Подтверждение первой гипотезы свидетельствует о верности статистического утверждения Н1, а второй— о принятии утверждения Н0 — об отсутствии различий [Гласс Дж., Стенли Дж., 1976].
После проведения конкретного эксперимента проверяются многочисленные статистические гипотезы, поскольку в каждом психологическом исследовании регистрируется не один, а множество поведенческих параметров. Каждый параметр характеризуется несколькими статистическими мерами: центральной тенденции, изменчивости, распределения. Кроме того, можно вычислить меры связи параметров и оценить значимость этих связей.
Итак, экспериментальная гипотеза служит для организации эксперимента, а статистическая — для организации процедуры сравнения регистрируемых параметров. То есть статистическая гипотеза необходима на этапе математической интерпретации данных эмпирических исследовании. Естественно, большое количество статистических гипотез необходимо для подтверждения или, точнее, опровержения основной — экспериментальной гипотезы. Экспериментальная гипотеза — первична, статистическая — вторична.
Гипотезы, не опровергнутые в эксперименте, превращаются в компоненты теоретического знания о реальности: факты, закономерности, законы.
Процесс выдвижения и опровержения гипотез можно считать основным и наиболее творческим этапом деятельности исследователя.
Процесс непосредственного исследования предполагает контакт исследователя с объектом, в результате чего получают совокупность характеристик этого объекта. Полученные характеристики являются главным материалом для проверки рабочей гипотезы и решения проблемы. В зависимости от предмета и цели исследования эти характеристики могут представать в виде различных параметров объекта (пространственных, временных, энергетических, информационных, интеграционных), в виде соотношений между частями объекта или его самого с другими объектами, в виде различных зависимостей его состояний от всевозможных факторов и т. д. Всю совокупность подобных сведений называют данными об объекте, а точнее, первичными данными, чтобы подчеркнуть непосредственный характер этих сведений и необходимость их дальнейшего анализа, обработки, осмысления. На первый взгляд забавное, но по существу верное мнение высказывает Ж. Годфруа, считающий, что данные – это элементы подлежащие анализу, это любая информация, которая может быть классифицирована с целью обработки [89]. В теоретическом исследовании под сбором данных подразумевается поиск и отбор уже известных фактов, их систематизация, описание под новым углом зрения. В эмпирическом исследовании подданными понимается отражение предметов, явлений, признаков или связей объективной действительности. Таким образом, это не сами объекты, а их чувственно-языковые отображения. Реальные объекты – это фрагменты мира, а данные о них – это фундамент науки. Эти данные есть «сырье» научного исследования при индуктивных гипотезах и цель при дедуктивных гипотезах.
Классификация данныхДанные можно классифицировать по различным основаниям (критериям), среди которых в науке наиболее популярны следующие:
I. По научному обоснованию
Научные.
Ненаучные.
II. По вкладу в проверку гипотезы и решение проблемы
Решающие.
Значительные.
Незначительные.
III. По области и характеру источников информации
Социологические.
Психологические.
Педагогические.
Физиологические и т. д.
IV. По методам исследования
Данные наблюдения.
Данные опроса.
Экспериментальные данные и т. д.
V. По методам в сочетании с источниками (классификацияР. Б. Кеттелла)
L-данные.
Q-данные.
Т-данные.
VI. По информативности
1. Неметрические
а) качественные (классификаторные, номинативные).
б) порядковые (компаративные).
2. Метрические:
а) интервальные.
б) пропорциональные;
Научные данные – это сведения, полученные в результате научных изысканий и характеризующиеся высокой степенью достоверности (доказанности и надежности), возможностью проверки, теоретической обоснованностью, включенностью в широкую систему научных знаний. Характерной особенностью научных данных, как и вообще научных знаний, является их относительная истинность, т. е. потенциальная возможность их опровержения в результате научной критики.
Ненаучные данные – сведения, полученные ненаучными путями. Например, из житейского опыта, из религиозных источников, из традиций, от авторитетов и т. д. Эти данные не доказываются, зачастую считаются самоочевидными. Не имеют теоретических обоснований. Многие из них претендуют на абсолютную истинность, их принятие субъектом познания базируется на некритическом усвоении, доверии (своему опыту, догматам, авторитетам).
Решающие данные – это сведения, позволяющие однозначно принять или отвергнуть выдвинутую гипотезу.
Значительные данные – это данные, вносящие весомый вклад в решение проблемы, но недостаточные для ее решения без привлечения других сведений.
Незначительные – данные малой информативности по решаемому вопросу.
Социологические, психологические и т. д. – данные, полученные в соответствующих сферах бытия, в первую очередь – общественного бытия. В узком смысле – это данные соответствующих наук:
Данные наблюдения, опроса и т. д. – сведения, полученные с помощью того или иного эмпирического метода.
Пятая группировка предложена американским психологом Р. Б. Кеттеллом в середине XX столетия и обычно относится к данным по проблемам личности и социально-психологическим вопросам [430, 431].
L-данные (life data) – сведения, получаемые путем регистрации фактов реальной жизни. Обычно это данные наблюдения за повседневной жизнью человека или группы. С них рекомендуется начинать предварительное исследование проблемы [150].
Q-данные (questionnaire data) – сведения, получаемые с помощью опросников, тестов интересов, самоотчетов и других методов самооценок, а также путем свободного обследования психиатров, учителей и т. п. Благодаря простоте инструментария и легкости получения информации Q-данные занимают ведущее место в исследованиях личности. Число методик огромно. Наиболее известные: опросники Айзенка (EPI, EPQ), Миннесотский многопрофильный личностный перечень (MMPI), Калифорнийский психологический тест (CPI), 16-факторный личностный опросник Кеттелла (16PF), тест Гилфорда – Циммермана для исследования темперамента (GZIS).
Т-данные (test data) – сведения, получаемые с помощью объективных тестов, а также физиологических измерений. Эти данные «объективны», поскольку их получают в результате объективного измерения реакций и поведения человека без обращения к самооценке или оценке экспертов. Количество методик для получения Т-данных также очень велико. Это тесты способностей, тесты интеллекта, тесты достижений. Кеттелл сюда же относит антропометрические и физиологические измерения, ситуативные и проективные тесты (всего более 400 методик, разбитых на 12 групп). Наиболее, известны: тест «пятна Роршаха», тест Ро-зенцвейга, тест тематической апперцепции (ТАТ), тесты интеллекта Стенфорд-Бине, Векслера, Амтхауэра.
Деление данных по информативности базируется на качественно-количественной нагрузке их содержания, позволяющей эти сведения соотносить друг с другом или с уже имеющимися сведениями в данной области на том или ином уровне точности. Эта группировка данных согласуется с классификацией измерительных шкал по С. Стивенсу [360].
Неметрические данные – это те, которые не имеют метрики, т. е. единиц измерения.
Метрические – количественные данные, имеющие единицы измерения.
Качественные данные (классификаторные, номинативные) – сведения, на основании которых изучаемый объект (или его состояние) можно отнести к какому-либо множеству (классу) сходных объектов. В этих данных отражаются сугубо качественные характеристики объекта, не позволяющие выяснить степень выраженности признака объекта, а следовательно, и его соотношение с подобными объектами, входящими в тот же класс. Эти данные указывают только на наличие или отсутствие какого-либо признака, по которому объект можно отнести к тому или иному классу. Каждый класс сходных объектов имеет определенное наименование, поэтому система классов носит название шкалы наименований (номинальной шкалы), а сами данные называются номинативными. Психологическая основа получения таких данных и построения таких шкал – процессы опознания (идентификации), т. е. установление отношений равенства или неравенства. Примеры: 1) синий – красный – желтый и т. д.; 2) мужчина – женщина; 3) холерик – сангвиник – флегматик – меланхолик.
Порядковые, или компаративные (лат. comparativus – сравнительный) – это данные, на основании которых объекты можно сравнивать по степени выраженности их признаков в системе оценок «больше – меньше». Это дает возможность упорядочивать объекты по определенному изучаемому признаку в возрастающем (убывающем) порядке, т. е. ранжировать. Соответствующие шкалы называются порядковыми или ранговыми. Но далее субординации здесь не продвинуться. Указать, насколько различаются между собой объекты, невозможно. Психологическая основа выявления этих данных и построения порядковых шкал – процессы различения и предпочтения, т. е. установление отношений «равно – неравно» и «больше – меньше». Примеры: любые шкалы оценок, шкала твердости минералов Мооса, итоговая турнирная таблица без указания результатов, ранжирование популярных артистов, приятность звуков, запахов, цветов и т. п.
Интервальные данные – это те, которые позволяют метрически оценить выраженность признака и ответить на вопрос, «на сколько» у одного объекта этот признак выражен больше или меньше, чем у другого. Эта разница на континууме значений измеряемого признака (на шкале) представляется как некоторая сумма субъективно равных интервалов, поэтому и данные называются интервальными. А шкалы – шкалами интервалов, расстояний или разностей, где интервалы являются единицами измерения. Психологическая основа – способность к уравниванию субъективных (в первую очередь, сенсорных и эмоциональных) расстояний. Примеры: шкалы температур по Цельсию, Реомюру и Фаренгейту; календарные даты; шкалы, основанные на прямом измерении сенсорных расстояний.
Пропорциональные данные – это те, которые дополнительно к интервальной информации дают ответ на вопрос, «во сколько раз» признаку одного объекта выражен сильнее или слабее, чем у другого. Для этого на шкале данных должна иметься опорная точка, соответствующая естественному нулевому значению измеряемого признака. Такие шкалы называются пропорциональными, или шкалами отношений. Точка отсчета, называемая абсолютным нулем, указывает на отсутствие данного качества. Абсолютный нуль нельзя путать с относительным, или условным. Последний вводится искусственно, по договоренности. Например, на шкале температур по Цельсию, Фаренгейту и Реомюру за нулевую точку условно принята температура плавления льда. И в этих координатах бессмысленно говорить, во сколько раз что-то теплее или холоднее чего-то другого. Только шкала Кельвина имеет абсолютный нуль (-273,16° по Цельсию). К сожалению, для психологических характеристик обычно очень трудно указать нулевое значение, а значит, и получить пропорциональные данные. Тем не менее ряд специальных приемов, объединенных под наименованием процедур прямого (субъективного) шкалирования, открывает возможность получения пропорциональных данных и построения шкал отношений. Психологическая основа этих процедур – способность человека к определению субъективных отношений. Обычно это отношения, фиксирующие двойное или тройное превосходство (2:1, 3:1). Примеры: физические данные и соответствующие шкалы длин, весов, плотностей и т, д.; прямые психофизические шкалы громкости (сонов), яркости (брилов), тяжести (вегов) и т. п.
Процедура сбора данныхСбор данных в целом должен соответствовать намеченному на предыдущем этапе алгоритму действий, чтобы избежать как пробелов в искомых знаниях, так и лишних трудозатрат. Очень важно при этом точно и четко фиксировать все действия и получаемые сведения. Для этого обычно ведется протокол исследования, используются специальные средства фиксации (видео, аудио и т. п.). Осуществляемый на этом этапе контакт исследователя с изучаемым объектом не должен наносить последнему вреда, процедура сбора данных должна быть предельно гуманизирована. Процесс сбора данных конкретизируется в зависимости от выбранного метода и задач исследования.
6. Психологическое измерение. Элементы теории психологических измерений.Измерение может быть самостоятельным исследовательским методом, но может выступать и как компонент целостной процедуры эксперимента.
Как самостоятельный метод, измерение служит для выявления индивидуальных различий поведения субъекта и отражения им окружающего мира, а также для исследования адекватности отражения (традиционная задача психофизики) и структуры индивидуального опыта.
Измерение включается в контекст эксперимента как метод регистрации состояния объекта исследования и соответственно изменения этого состояния в ответ на экспериментальное воздействие.
Исследования, проводимые по плану временных проб, зачастую сводятся лишь к измерениям особенностей поведения испытуемых через различные промежутки времени. Время в этом случае понимается как единственная переменная, воздействующая на объект.
На основе теории измерения строятся психологические тесты. Тест — сокращенная по времени и упрощенная процедура психологического измерения, применяемая для решения практических (иногда исследовательских) задач.
В чем заключается суть психологического измерения?
В психологии различают три основные процедуры психологического измерения. Основанием для различения является объект измерения. Во-первых, психолог может измерять особенности поведения людей для того, чтобы определить, чем один человек отличается от другого с точки зрения выраженности тех или иных свойств, наличия того или иного психического состояния или для отнесения его к определенному типу личности. Психолог, измеряя особенности поведения, определяет сходства или различия людей. Психологическое измерение становится измерением испытуемых.
Во-вторых, исследователь может использовать измерение как задачу испытуемого, в ходе выполнения которой последний измеряет (классифицирует, ранжирует, оценивает и т.п.) внешние объекты: других людей, стимулы или предметы внешнего мира, собственные состояния. Часто эта процедура оказывается измерением стимулов. Понятие «стимул» используется в широком смысле, а не в узкопсихофизическом или поведенческом. Под стимулом понимается любой шкалируемый объект.
В-третьих, существует процедура так называемого совместного измерения (или совместного шкалирования) стимулов и людей. При этом предполагается, что «стимулы» и «испытуемые» могут быть расположены на одной оси. Поведение испытуемого рассматривается как проявление взаимодействия личности и ситуации.
Внешне процедура психологического измерения ничем не отличается от процедуры психологического эксперимента. Более того, в психологической исследовательской практике понятия «измерение» и «эксперимент» часто используются как синонимы. Однако при проведении психологического эксперимента нас интересуют причинные связи между переменными, а результатом психологического измерения является всего лишь отнесение испытуемого либо оцениваемого им объекта к тому или иному классу, точке шкалы или пространству признаков.
В строгом смысле слова психологическим измерением можно назвать лишь измерение поведения испытуемых, т. е. измерение в первом значении этого понятия.
Психологическое измерение стимулов является задачей, которую выполняет не экспериментатор, а испытуемый в ходе обычного психологического (точнее — психофизического) эксперимента. В этом случае измерение используется только как методический прием наряду с другими методами психологического исследования; испытуемый же «играет роль» измерительного прибора. Поскольку результаты такого рода «измерений» интерпретируются на основе той же модели измерений, а обрабатываются с применением тех же математических процедур, что и результаты измерения поведения испытуемых, в психологии принято употреблять понятие «психологическое измерение» в двух различных смыслах.
Процедура психологического измерения состоит из ряда этапов, аналогичных этапам экспериментального исследования.
Основой психологических измерений является математическая теория измерений — раздел психологии, интенсивно развивающийся параллельно и в тесном взаимодействии с развитием процедур психологического измерения. Сегодня это — крупнейший раздел математической психологии.
С математической точки зрения, измерением называется операция установления взаимно однозначного соответствия множества объектов и символов (как частный случай — чисел). Символы (числа) приписываются вещам по определенным правилам.
Правила, на основании которых числа приписываются объектам, определяют шкалу измерения.
Измерительная шкала— основное понятие, введенное в психологию в 1950г. С. С. Стивенсом (Экспериментальная психология/Под ред. С.С. Стивенса. М., 1963); его трактовка шкалы и сегодня используется в научной литературе.
Итак, приписывание чисел объектам создает шкалу. Создание шкалы возможно, поскольку существует изоморфизм формальных систем и систем действий, производимых над реальными объектами.
Числовая система является множеством элементов с реализованными на нем отношениями и служит моделью для множества измеряемых объектов.
Различают несколько типов таких систем и соответственно несколько типов шкал. Операции, а именно — способы измерения объектов, задают тип шкалы. Шкала в свою очередь характеризуется видом преобразований, которые могут быть отнесены к результатам измерения. Если не соблюдать это правило, то структура шкалы нарушится, а данные измерения нельзя будет осмысленно интерпретировать.
Тип шкалы однозначно определяет совокупность статистических методов, которые могут быть применены для обработки данных измерения.
Шкала (лат. scala — лестница) в буквальном значении есть измерительный инструмент.
П. Суппес и Дж. Зинес [Суппес П., Зинес Дж., 1967] дали классическое определение шкалы: «Пусть A — эмпирическая система с отношениями (ЭСО), R — полная числовая система с отношениями (ЧСО), f — функция, которая гомоморфно отображает А в подсистему R (если в области нет двух разных объектов с одинаковой мерой, что является отображением изоморфизма). Назовем шкалой упорядоченную тройку f».
Обычно в качестве числовой системы R выбирается система действительных чисел или ее подсистема. Множество А — это совокупность измеряемых объектов с системой отношений, определенной на этом множестве. Отображение f — правило приписывания каждому объекту определенного числа.
В настоящее время определение Суппеса и Зинеса уточнено. Во-первых, в определение шкалы вводится G — группа допустимых преобразований. Во-вторых, множество А понимается не только как числовая система, но и как любая формальная знаковая система, которая может быть поставлена в отношение гомоморфизма с эмпирической системой. Таким образом, шкала — это четверка R; f; G. Согласно современным представлениям, внутренней характеристикой шкалы выступает именно группа G, а f является лишь привязкой шкалы к конкретной ситуации измерения.
В настоящее время под измерением понимается конструирование любой функции, которая изоморфно отображает эмпирическую структуру в символическую структуру. Как уже отмечено выше, совсем не обязательно такой структурой должна быть числовая. Это может быть любая структура, с помощью которой можно измерить характеристики объектов, заменив их другими, более удобными в обращении (в том числе числами).
Существуют следующие основные типы шкал: наименований, порядка, интервалов, отношений. Ряд специалистов выделяет также абсолютную шкалу и шкалу разностей.
Шкала наименований.Шкала наименований получается путем присвоения «имен» объектам. При этом нужно разделить множество объектов на непересекающиеся подмножества.
Иными словами, объекты сравниваются друг с другом и определяется их эквивалентность—неэквивалентность. В результате данной процедуры образуется совокупность классов эквивалентности. Объекты, принадлежащие к одному классу, эквивалентны друг другу и отличны от объектов, относящихся к другим классам. Эквивалентным объектам присваиваются одинаковые имена.
О шкале наименований можно говорить в том случае, когда эмпирические объекты просто «помечаются» числом. Примером таких пометок являются номера на майках футболистов: цифру «1» по традиции получает вратарь, и это указывает на то, что по своей функции он отличен от всех остальных игроков; но его функция на футбольном поле эквивалентна функции других вратарей, если не учитывать качество игры.
В принципе, вместо чисел при использовании шкалы наименований необходимо применять другие символы, ибо числовая шкала (натуральный ряд чисел) характеризуется разными системами операций.
Итак, если объекты в каком-то отношении эквивалентны, то мы имеем право отнести их к одному классу. Главное, как говорил Стивенc, не приписывать один и тот же символ разным классам или разные символы одному и тому же классу.
Для этой шкалы допустимо любое взаимно однозначное преобразование.
Несмотря на тенденцию «завышать» мощность шкалы, психологи очень часто применяют шкалу наименований в исследованиях. «Объективные» измерительные процедуры при диагностике личности приводят к типологизации: отнесению конкретной личности к тому или иному типа. Примером такой типологии являются классические темпераменты: холерик, сангвиник, меланхолик и флегматик.
В «субъективной» психологии измерения используются также классификации. Примеры: сортировка объектов по Гарднеру, метод константных стимулов в психофизике и т.д.
Исследователь, пользующийся шкалой наименований, может применять следующие инвариантные статистики: относительные частоты, моду, корреляции случайных событий, критерий 2.
Шкала порядка.Порядковая шкала образуется, если на множестве реализовано одно бинарное отношение — порядок (отношения «не больше» и «меньше»). Построение шкалы порядка — процедура более сложная, чем создание шкалы наименований.
На шкале порядка объект может находиться между двумя другими, причем если аb, bс, то ас (правило транзитивности отношений).
Классы эквивалентности, выделенные при помощи шкалы наименований, могут быть упорядочены по некоторому основанию. Различают шкалу строгого порядка (строгая упорядоченность) и шкалу слабого порядка (слабая упорядоченность). В первом случае на элементах множества реализуются отношения «не больше» и «меньше», а во втором — «не больше или равно» и «меньше или равно».
Шкала порядка сохраняет свои свойства при изотонических преобразованиях. Все функции, которые не имеют максимума (монотонные), отвечают этой группе преобразований. Значения величин можно заменять квадратами, логарифмами, нормализовать и т.д.
Шкалы порядка широко используются в психологии познавательных процессов, экспериментальной психосемантике, социальной психологии: ранжирование, оценивание, в том числе педагогическое, дают порядковые шкалы. Классическим примером использования порядковых шкал является тестирование личностных черт, а также способностей. Большинство же специалистов в области тестирования интеллекта полагают, что процедура измерения этого свойства позволяет использовать интервальную шкалу и даже шкалу отношений.
Переходным вариантом шкалы порядка можно считать дихотомическую классификацию, проводимую по принципу «есть свойство — нет свойства» (1; 0) при 1 0. Дихотомическое разбиение множества позволяет применять не только порядок, но и метрику. Для интерпретации данных, полученных посредством порядковой шкалы, можно использовать более широкий спектр статистических мер (в дополнение к тем, которые допустимы для шкалы наименований).
В качестве характеристики центральной тенденции можно использовать медиану, а в качестве характеристики разброса — процентили. Для установления связи двух измерений допустима порядковая корреляция (-Кэнделла и -Спирмена).
Числовые значения порядковой шкалы нельзя складывать, вычитать, делить и умножать.
Шкала интервалов.Шкала интервалов является первой метрической шкалой. Собственно, начиная с нее, имеет смысл говорить об измерениях в узком смысле этого слова — о введении меры на множестве объектов. Шкала интервалов определяет величину различий между объектами в проявлении свойства. С помощью шкалы интервалов можно сравнивать два объекта. При этом выясняют, насколько более или менее выражено определенное свойство у одного объекта, чем у другого.
Шкала интервалов очень часто используется исследователями. Классическим примером применения этой шкалы в физике является измерение температуры по Цельсию. Шкала интервалов имеет масштабную единицу, но положение нуля на ней произвольно, поэтому нет смысла говорить о том, во сколько раз больше или меньше утренняя температура воздуха, измеренная шкалой Цельсия, чем дневная.
Мы имеем право изменять масштаб шкалы, умножая каждое из ее значений на константу, и производить ее сдвиг относительно произвольно выбранной точки на любое расстояние вправо или влево (прибавлять или отнимать константу).
Интервальная шкала позволяет применять практически всю параметрическую статистику для анализа данных, полученных с ее помощью. Помимо медианы и моды для характеристики центральной тенденции используется среднее арифметическое, а для оценки разброса — дисперсия. Можно вычислять коэффициенты асимметрии и эксцесса и другие параметры распределения. Для оценки величины статистической связи между переменными применяется коэффициент линейной корреляции Пирсона и т.д.
Большинство специалистов по теории психологических измерений полагает, что тесты измеряют психические свойства с помощью шкалы интервалов. Прежде всего это касается тестов интеллекта и достижений. Ряд авторов полагает, что относить тесты интеллекта к шкалам интервалов нет оснований. Во-первых, каждый тест имеет «нуль» — любой индивид может получить минимальный балл, если не решит ни одной задачи в отведенное время. Во-вторых, тест имеет максимум шкалы — балл, который испытуемый может получить, решив все задачи за минимальное время. В-третьих, разница между отдельными значениями шкалы неодинакова. По крайней мере, нет никаких теоретических и эмпирических оснований утверждать, что 100 и 120 баллов по шкале IQ отличаются на столько же, на сколько 80 и 100 баллов.
Скорее всего, шкала любого теста интеллекта является комбинированной шкалой, с естественным минимумом и/или максимумом, но порядковой. Однако эти соображения не мешают тестологам рассматривать шкалу IQ как интервальную, преобразуя «сырые» значения в шкальные с помощью известной процедуры «нормализации» шкалы.
Шкала отношений.Шкала отношений — наиболее часто используемая в физике шкала. По крайней мере, идеалом измерительной процедуры является получение таких данных о выраженности свойств объектов, когда можно сказать, во сколько раз один объект больше или меньше другого.
Это возможно лишь тогда, когда помимо определения равенства, рангового порядка, равенства интервалов известно равенство отношений. Шкала отношений отличается от шкалы интервалов тем, что на ней определено положение «естественного нуля». Классический пример — шкала температур Кельвина.
В психологии шкалы отношений практически не применяются. Одним из исключении являются шкалы оценки компетентности, основанные на модели Раша (о ней пойдет речь позже). Действительно, вполне можно представить уровень «нулевой» осведомленности испытуемого в какой-то области знаний (например, знание автором этого учебника эскимосского языка) или же «нулевой» уровень владения каким-либо навыком. Авторы стохастической теории теста доказывают, что, введя единую шкалу «трудности задачи — способности испытуемого», можно измерить, во сколько раз одна задача труднее другой или же один испытуемый компетентнее другого.
Значения шкалы отношений инвариантны относительно преобразования вида:
х' = ах.
Значения шкалы можно умножать на константу. К ним применимы любые статистические меры.
Измерения массы, времени реакции и выполнения тестового задания — таковы области применения шкалы отношений.
Отличием этой шкалы от абсолютной является отсутствие «естественной» масштабной единицы.
Другие шкалы.1. Дихотомическая классификация часто рассматривается как вариант шкалы наименований. Это верно, за исключением одного случая, когда мы измеряем свойство, имеющее всего лишь два уровня выраженности: «есть—нет», так называемое «точечное» свойство. Примеров таких свойств много: наличие или отсутствие у испытуемого какой-либо наследственной болезни (дальтонизм, болезнь Дауна, гемофилия и др.), абсолютного слуха и др. В этом случае исследователь имеет право проводить «оцифровку» данных, присваивая каждому из типов цифру «1» или «0», и работать с ними как со значениями шкалы интервалов.
В ряде пособий неверно утверждается, что шкала наименований различает предметы по проявлению свойства, но не различает их по уровню проявления этого свойства. Шкала наименований вообще не основана на понятии «свойство» (которое вводится, лишь начиная со шкалы порядка), а базируется на представлении о «типе» — множестве эквивалентных объектов. Для того чтобы ввести понятие «свойство», требуется ввести отношения не между объектами, а между классами (типами) эквивалентных объектов (которые, конечно, могут содержать всего лишь один объект).
2. Шкала разностей, в отличие от шкалы отношений, не имеет естественного нуля, но имеет естественную масштабную единицу измерения. Ей соответствует аддитивная группа действительных чисел. Классическим примером этой шкалы является историческая хронология. Она сходна со шкалой интервалов. Разница лишь в том, что значения этой шкалы нельзя умножать (делить) на константу. Поэтому считается, что шкала разностей — единственная с точностью до сдвига. Некоторые исследователи полагают, что Иисус Христос родился за четыре года до общепринятого начала нашего христианского летосчисления. Сдвиг на четыре года назад ничего не изменит в хронологии. Можно использовать мусульманское летосчисление или же считать годы от сотворения мира. Кому как нравится.
В психологии шкала разностей используется в методиках парных сравнении.
3. Абсолютная шкала является развитием шкалы отношении и отличается от нее тем, что обладает естественной единицей измерения. В этом ее сходство со шкалой разностей. Число решенных задач («сырой» балл), если задачи эквивалентны, — одно из проявлений абсолютной шкалы.
В психологии абсолютные шкалы не используются. Данные, полученные с помощью абсолютной шкалы, не преобразуются, шкала тождественна сама себе. Любые статистические меры допустимы.
4. В литературе, посвященной проблемам психологических измерений, упоминаются и другие типы шкал: ординальная (порядковая) с естественным началом, лог-интервальная, упорядоченная метрическая и др. О свойствах порядковой шкалы с естественным началом упоминалось в данном разделе.
Все написанное выше относится к одномерным шкалам. Шкалы могут быть и многомерными: шкалируемый признак в этом случае имеет ненулевые проекции на два (или более) соответствующих параметра. Векторные свойства, в отличие от скалярных, являются многомерными.
Шкальные преобразования.Возможны два варианта шкальных преобразований:
1) повышение мощности шкалы;
2) понижение мощности шкалы.
Вторая процедура является тривиальной. Поскольку все возможные процедуры преобразований, которые приемлемы для более мощной шкалы (например, шкалы интервалов), допустимы и для менее мощной (например, шкалы порядка), то у нас есть право рассматривать данные, полученные с помощью интервальной шкалы, как порядковые или, допустим, порядковую шкалу — в качестве номинальной. Другое дело, если (по каким-либо соображениям) у нас возникает потребность перейти от шкалы наименований к шкале порядка и т.д. Для этого требуется вводить необъективные (с позиций математической теории измерений) допущения и эмпирические приемы, базирующиеся лишь на интуиции и правдоподобных рассуждениях. Но в большинстве случаев производится эмпирическая проверка: в какой мере данные, полученные с помощью «слабой» шкалы, удовлетворяют требованиям более «мощной» шкалы.
Рассмотрим переход от шкалы наименований к порядковой шкале. Естественно, для этого нужно упорядочить классы по некоторому основанию. Предположим, что принадлежность объекта к некоторому классу есть случайная функция. Тогда переход от номинативной шкалы к шкале порядка возможен в том случае, если существует упорядоченность классов. Во-первых, для каждого элемента существует модальный класс, вероятность принадлежности к которому значимо больше, чем к другим классам. Во-вторых, для каждого элемента существует только одна функция вероятностной принадлежности к множеству классов, такая, чтобы эти классы можно было упорядочить единственным образом. Проще говоря, каждый класс должен иметь только двух соседей: «слева» и «справа», а порядок соседства определяется эмпирической частотой попадания элементов в различные классы. В «свой» класс элемент попадает чаще, в соседние со «своим» — реже и в отдаленные — еще реже. При обработке данных осуществляется эмпирическая проверка каждой тройки классов на стохастическую транзитность. Преобразование шкалы порядка в шкалу интервалов — более частый вариант. Он подробно описан в литературе, посвященной теории психологических измерений, в частности теории тестов.
Виды психологических измерений.В психологии используется множество конкретных измерительных методик. Удобную классификацию психологических измерений предложил С. С. Паповян [Паповян С. С., 1983]. Будем придерживаться ее в дальнейшем изложении.
Методы психологических измерений могут быть классифицированы по различным основаниям:
1) процедуре сбора «сырых» данных;
2) предмету измерения;
3) виду используемой шкалы;
4) типу шкалируемого материала;
5) моделям шкалирования;
6) числу «мерностей» (одномерные и многомерные);
7) мощности метода сбора данных (мощные или слабые);
8) типу ответа индивида;
9) какими они являются: детерминистскими или вероятностными.
Для психолога-экспериментатора главными основаниями являются процедура сбора данных и предмет измерения.
Чаще всего применяются следующие процедуры субъективного шкалирования:
Метод ранжирования. Все объекты представляются испытуемому одновременно, он должен их упорядочить по величине измеряемого признака.
Метод парных сравнений. Объекты предъявляются испытуемому попарно (число предъявлении равно числу сочетаний (п)). Испытуемый оценивает сходства— различия между членами пар.
Метод абсолютной оценки. Стимулы предъявляются по одному. Испытуемый дает оценку стимула в единицах предложенной шкалы.
Метод выбора. Индивиду предлагается несколько объектов (стимулов, высказываний и т.д.), из которых он должен выбрать те, которые соответствуют заданному критерию.
По предмету измерения все методики делятся на: а) методики шкалирования объектов, б) методики шкалирования индивидов и в) методики совместного шкалирования объектов и индивидов.
Методики шкалирования объектов (стимулов, высказываний и др.) выстраиваются в контекст экспериментальной или измерительной процедуры. По своей сути они не являются задачей исследователя, а представляют собой экспериментальную задачу испытуемого. Исследователь использует эту задачу для выявления поведения испытуемого (в данном случае — реакций, действий, вербальных оценок и др.), чтобы определить особенности его психики. Поэтому нет оснований причислять эти техники к методам психологического измерения поведения, если под измерением понимать только задачу экспериментатора.
При субъективном шкалировании испытуемый выполняет функции измерительного прибора, а экспериментатор мало интересуется особенностями «измеряемых» испытуемым объектов и исследует сам «измерительный прибор».
Парадигма субъективного шкалирования перешла в другие области психологии из психофизики, где классификация задач испытуемого в эксперименте очень хорошо разработана. Этого нельзя сказать об остальных областях психологии.
Но по укоренившейся традиции методики и модели субъективного шкалирования рассматриваются в одном разделе с техниками и моделями измерения поведения. Традиция эта связана с тем, что и при «шкалировании объектов», и при «шкалировании индивидов» в процессе обработки и интерпретации данных используется сходный математический аппарат.
Процедуре одномерного и многомерного субъективного шкалирования посвящена обширная научная и учебная литература (см. Библиографию).
Остановимся на моделях совместного шкалирования объектов и испытуемых. Модели делятся на два вида детерминистические и вероятностные. Суть этих моделей в том, что и объекты, и индивиды, которые высказывают суждения об объектах, «отображаются» на одну шкалу на основании обработки данных поведенческого измерения либо субъективного шкалирования.
Основными детерминистическими моделями являются метод развертывания К. Кумбса [Coombs С. Н., 1964] и шкалограммный анализ Л. Гутмана [Guttman L., 1944]. К вероятностным моделям относится латентно-структурный анализ IRT(item response theory) (см. разд. 6.5). Здесь же мы кратко остановимся на детерминистических моделях.
Метод развертывания Кумбса исходит из предположения, что объекты и индивиды могут быть размещены на шкале одномерного признака. Индивид может предпочитать один объект другому. Существует «идеальная точка» индивида — субъективный эталон. Индивид предпочитает тот стимул, который «ближе» к субъективному эталону.
Процедура измерения состоит в следующем. Испытуемому предъявляются пары стимулов, которые он сравнивает. Формируется матрица частоты предпочтений стимулов размером т х п (т — стимулы, п — индивиды). В клеточках матрицы — относительные частоты предпочтений.
Шкалограммный анализ Гутмана используется для построения опросников. Наиболее часто он применяется при дихотомической оценке ответа испытуемого («да» — «нет», «решил» —«не решил»).
Предполагается следующее: принятие индивидом пункта (решение задачи, ответ «да» и т.д.) означает то, что его шкальное значение не меньше величины пункта. Если индивид решает данную задачу, то он решает любую другую (более легкую) задачу. Принятие индивидом пункта опросника или правильное решение задачи обозначается как «1», непринятие пункта или неверное решение — «0».
В ходе обработки строки и столбцы исходной матрицы данных переставляются так, чтобы она соответствовала «совершенной» шкалограмме: матрица выше диагонали, т.е. верхняя правая часть матрицы, должна состоять из единиц, а нижняя левая — включать только нули. Порядок индивидов по строкам должен соответствовать порядку заданий по столбцам по величине выраженности свойства.

Практически никогда идеальная шкалограмма не получается. Оценка одномерности признака предложена Гутманом и называется коэффициентом воспроизводимости.
R = 1 - e/nk,
где е — число «ошибок» в откликах испытуемых, п — количество испытуемых, k — число заданий.
Существует также модификация модели Гутмана, описывающая процедуру с несколькими вариантами ответов.
7. Обработка данных, анализ, интерпретация и представление результатов психологического исследования.
количественная обработка есть манипуляция с измеренными характеристиками изучаемого объекта (объектов), с его «объективизированными» во внешнем проявлении свойствами. Качественная обработка – это способ предварительного проникновения в сущность объекта путем выявления его неизмеряемых свойств на базе количественных данных.
Количественная обработка направлена в основном на формальное, внешнее изучение объекта, качественная – преимущественно, на содержательное, внутреннее его изучение. В количественном исследовании доминирует аналитическая составляющая познания, что отражено и в названиях количественных методов обработки эмпирического материала, включающих в себя категорию «анализ» корреляционный анализ, факторный анализ и т. д. Основным гом количественной обработки является упорядоченная совокупность «внешних» показателей объекта (объектов). Реализуется количественная обработка с помощью математико-статистических методов.
В качественной обработке доминирует синтетическая составляющая познания, причем в этом синтезе превалирует компонент, объединения и в меньшей степени присутствует компонент обобщения. Обобщение – прерогатива последующего этапа исследовательского процесса – интерпретационного. В фазе качественной обработки данных главное заключается не в раскрытии сущности изучаемого явления, а пока лишь в соответствующем представлении сведений о нем, обеспечивающем дальнейшее его теоретическое изучение. Обычно результатом качественной обработки является интегрированное представление о множестве свойств объекта или множестве объектов в форме классификаций и типологий. Качественная обработка в значительной мере апеллирует к методам логики.
Противопоставление друг другу качественной и количествен ной обработок (а следовательно, и соответствующих методов) довольно условно. Они составляют органичное целое. Количественный анализ без последующей качественной обработки бессмыслен, так как сам по себе он не в состоянии превратить эмпирические данные в систему знаний. А качественное изучение: объекта без базовых количественных данных – немыслимо. В научном познании. Без количественных данных качественное познание – это чисто умозрительная процедура, не свойственная современной науке. В философии категории «качество» и «количество», как известно, объединяются в категории «мера».
Единство количественного и качественного осмысления эмпирического материала наглядно проступает во многих методах обработки данных: факторный и таксономический анализы, шкалирование, классификация и др. Но поскольку традиционно в науке принято деление на количественные и качественные характеристики, количественные и качественные методы, количественные и качественные описания, не будем «святее папы Римского» и примем количественные и качественные аспекты обработки данных за самостоятельные фазы одного исследовательского этапа, которым соответствуют определенные количественные и качественные методы.
Качественная обработка естественным образом выливается в описание и объяснение изучаемых явлений, что составляет уже следующий уровень их изучения, осуществляемый на стадии интерпретации результатов. Количественная же обработка полностью относится к рассматриваемому этапу исследовательского процесса, что в совокупности с ее особой спецификой побуждает к ее более подробному изложению. Процесс количественной обработки данных имеет две фазы: первичную и вторичную.
Первичная обработкаНа первой стадии «сырые» сведения группируются по тем или иным критериям, заносятся в сводные таблицы, а для наглядного представления данных строятся различные диаграммы и графики. Все эти манипуляции позволяют, во-первых, обнаружить и ликвидировать ошибки, совершенные при фиксации данных, и, во-вторых, выявить и изъять из общего массива нелепые данные, полученные в результате нарушения процедуры обследования, несоблюдения испытуемыми инструкции и т. п. Кроме того, первично обработанные данные, представая в удобной для обозрения форме, дают исследователю в первом приближении представление о характере всей совокупности данных в целом: об их однородности–неоднородности, компактности-разбросанности, четкости–размытости и т. д. Эта информация хорошо читается на наглядных формах представления данных и связана с понятием «распределение данных».
Под распределением данных понимается их разнесенность по категориям выраженности исследуемого качества (признака). Разнесенность по категориям показывает, как часто (или редко) в определенном массиве данных встречаются те или иные показатели изучаемого признака. Поэтому такой вид представления данных называют «распределением частот». Выраженность признака, как видели выше, может быть представлена в оценках: «есть – нет» или «равно – неравно» (номинативные данные), «больше – меньше» (порядковые данные), «настолько-то больше или меньше» (интервальные данные), «во столько-то раз больше или меньше» (пропорциональные данные). Первая категория оценок предполагает явную дискретность выраженности изучаемого признака, остальные – непрерывность (хотя бы теоретически). Проиллюстрируем это примерами.
Пример для дискретных данных
В трехтысячном трудовом коллективе были выбраны сто человек, которые давали ответ на вопрос: «какой цвет вы предпочитаете?». Предлагалось 6 вариантов: белый (Б), черный (Ч), красный (К), синий (С), зеленый (3), желтый (Ж). В данном случае каждый цвет – это самостоятельная категория выраженности признака «окраска». Допустим, цель – выбор дизайнером окраски рабочих помещений, где трудятся эти люди. Итоги опроса, зафиксированные в протоколе, подсчитали и занесли в таблицу 1 (табулировали).
Таблица 1
Итоги опроса
| Цвет | Количество выборов | ||
| Абсолютная частота | Относительная частота | % | |
| Б | 8 | 0,08 | 8 |
| Ч | 6 | 0,06 | 6 |
| К | 21 | 0,21 | 21 |
| С | 20 | 0,20 | 20 |
| З | 34 | 0,34 | 34 |
| Ж | 11 | 0,11 | 11 |
| Сумма | 100 | 1,00 | 100 |
Частота (абсолютная частота) – это число ответов данной категории в выборке, частость (относительная частота) – это отношение частоты ко всей выборке. Под выборкой понимается все множество полученных в исследовании значений изучаемого признака (свойства, качества, состояния) объекта. В нашем примере выборка равна 100. Понятие выборки связано с понятием генеральной совокупности (или популяции), которая представляет собой все возможное множество значений изучаемого признака. В нашем примере она равна 3000. Поскольку даже ограниченные популяции обычно весьма велики, то опыты проводятся только на выборках. Поэтому встает вопрос о репрезентативности выборки, т. е. о том, можно ли результаты, полученные на выборке, переносить на всю совокупность. Для этого привлекают статистические методы доказательства репрезентативности. Таким образом, выборка есть часть генеральной совокупности. Краткое описание этих множеств производится с помощью так называемых описательных мер (мер центральной тенденции, разброса и связи), вычисление которых производится при вторичной обработке данных. Значения мер, вычисленные для генеральных совокупностей, называются параметрами, для выборок – статистиками. Параметр описывает генеральную совокупность также, как статистика – выборку. Принято обозначать статистики латинскими буквами, а параметры – греческими. Правда, в психологических исследованиях этих правил не всегда строго придерживаются.
На основании табличных данных можно построить диаграмму, где распределение представлено нагляднее:

Пример для непрерывных данных
Данные непрерывного характера можно представить в еще более наглядной форме: в виде гистограмм, полигонов и кривых.
В опытах В. К. Гайды, описанных в учебном пособии для студентов-психологов [76, с. 23-25], участвовало 96 испытуемых. Определялся цвет последовательного образа восприятия насыщенного красного цвета. С этой целью каждый испытуемый в течение одной минуты рассматривал окрашенный в красный цвет образец, а затем переносил взгляд на белый экран, где видел круг в дополнительных цветах. Рядом с ним находился цветовой круг с разноокрашенными секторами, на котором испытуемый должен был выбрать тот цвет, который соответствовал цвету возникшего у него последовательного образа. При этом испытуемый не называл цвет, а лишь его номер в цветовом круге. Цветовой круг нормирован таким образом, что соседние цвета отличаются в нем друг от друга на одинаково замечаемую величину. Следовательно, цветовой круг можно рассматривать как интервальную шкалу. Наряду с этим цветовой круг характеризуется и еще одним свойством. В частности, можно себе представить, что между двумя соседними цветами, например между зеленовато-голубым и голубовато-зеленым, имеется еще множество не замечаемых человеческим глазом цветовых переходов. В этом смысле цветовой круг представляет собой пример непрерывной переменной. Фактически же испытуемые всегда выделяют конечное число цветовых оттенков и поэтому свой выбор останавливают на конкретном номере (или названии) цвета. В рассматриваемом эксперименте испытуемые определяли свой последовательный образ в диапазоне от № 16 – зеленовато-голубой цвет до № 23 – желтовато-зеленый. Полученные данные можно табулировать, что и сделано в таблице 2.
Таблица 2
| Последовательный образ | Частота выбора цвета образа |
| 16 | 2 |
| 17 | 7 |
| 18 | 15 |
| 19 | 26 |
| 20 | 22 |
| 21 | 15 |
| 22 | 8 |
| 23 | 1 |
| Σ | 96 |
Как видно, в построении таблиц 1 и 2 нет принципиального различия. Но разница в характере первичных данных, отображенных в обеих таблицах, все же есть, и она обнаруживается при их графическом изображении. В самом деле, рис. 2 представляет собой уже не столбиковую, а ступенчатую диаграмму, называемую гистограммой. Следует обратить внимание на то, что все участки (столбики) ступенчатой диаграммы расположены вплотную друг к другу (числовые переменные на оси абсцисс гистограммы пишут против центральной оси каждого участка).
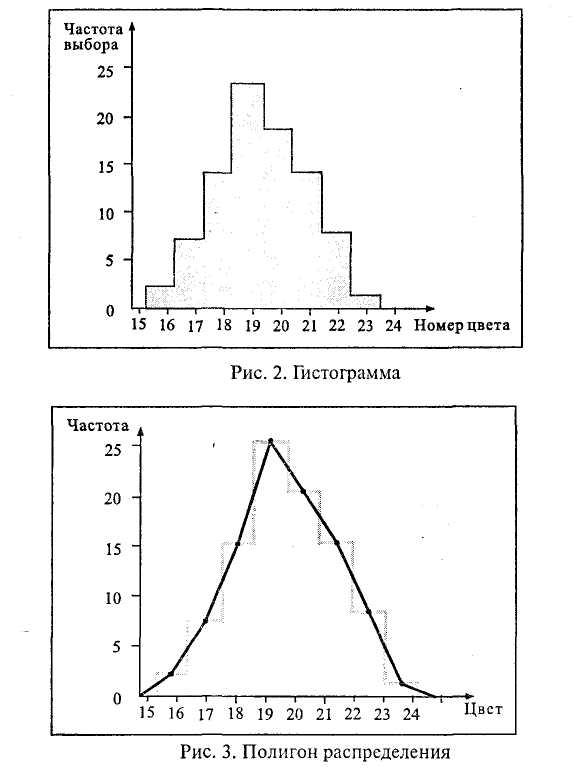
От гистограммы легко перейти к построению частотного полигона распределения, а от последнего – к кривой распределения. Частотный полигон строят, соединяя прямыми отрезками верхние точки центральных осей всех участков ступенчатой диаграммы (рис. 3). Если же вершины участков соединить с помощью плавных кривых линий, то получится кривая распределения первичных результатов (рис. 4).

Переход от гистограммы к кривой распределения позволяет путем интерполяции находить те величины исследуемой переменной, которые в опыте не были получены.
Вторичная обработка. Общее представление о вторичной обработкеВторичная обработка завершает анализ данных и подготавливает их к синтезированию знаний на стадиях объяснения и выводов. Даже если эти последние этапы по каким-либо причинам не могут быть выполнены, исследование может считаться состоявшимся, поскольку завершилось получением результатов.
В основном вторичная обработка заключается в статистическом анализе итогов первичной обработки. Как специфический вид вторичной обработки, по нашему мнению, выступает шкалирование, совмещающее математический, логический и эмпирический анализы данных, но в этом параграфе остановимся лишь на статистической обработке данных. Уже табулирование и построение графиков, строго говоря, тоже есть статистическая обработка, которая в совокупности с вычислением мер центральной тенденции и разброса включается в один из разделов статистики, а именно в описательную статистику. Другой раздел статистики – индуктивная статистика – осуществляет проверку соответствия данных выборки всей популяции, т. е. решает проблему репрезентативности результатов и возможности перехода от частного знания к общему [44, 158, 179, 187]. Третий большой раздел – корреляционная статистика – выявляет связи между явлениями.
Статистика имеет мощный и подчас труднодоступный для неподготовленного исследователя аппарат. Поэтому надо сделать два замечания. Первое – статистическая обработка является неотъемлемой частью современного психологического исследования. Избежать ее практически невозможно (особенно в эмпирических исследованиях). Отсюда вытекает необходимость специалисту-психологу хорошо знать основы математики и статистики и важнейшие методы математико-статистического анализа психологической информации. Неизбежность статистики в психологии обусловлена массовостью психологического материала, поскольку все время приходится один и тот же эффект регистрировать по многу раз. Причина же необходимости многократных замеров кроется в самой природе психических явлений, устойчивость которых относительна, а изменчивость абсолютна. Классическим примером тому может служить непрерывная флуктуация сенсорных порогов, породившая знаменитую «пороговую проблему». Поэтому вероятностный подход – неизбежный путь к познанию психического. А статистические методы – способ реализации этого подхода.
Кстати, надо заметить, что формирующаяся с начала XX столетия новая картина мира, постепенно вытесняющая ньютонов-ско-картезианскую модель мироздания, одним из своих важнейших компонентов имеет как раз представление о преобладании статистико-вероятностных закономерностей над причинно-следственными. По крайней мере, это достаточно убедительно продемонстрировано для микроскопического (субатомного) и мегаскопического (космического) уровней организации мира [43,101, 233,260,302,409]. Логично предположить, что это в какой-то степени справедливо и для среднего (макроскопического) уровня, в границах которого и возможно, по-видимому, говорить о психике, личности и тому подобных категориях. Надо полагать, что именно в этом ключе следует понимать замечание Б. Г. Ананьева о вероятностном характере психической деятельности и о необходимости единства детерминистического и вероятностного подходов к исследованию психических явлений [10, с. 283].
В связи с этим вызывает, по меньшей мере, недоумение бытующее в психологических кругах мнение, что соединение психологической проблематики с ее математическим анализом – это «брак по принуждению или недоразумению», где психология – «невеста без приданого». Вынуждена же психология вступить в этот «брак» якобы потому, что «не смогла пока еще доказать, что строится на принципиально иных основах», нежели точные науки [344, с. 5–6]. Эти же «принципиально иные основы» вроде бы обусловлены тем, что предмет исследования психологии несопоставим по своей сложности с предметами других наук. Нам кажется, что подобный снобизм не только не уместен с точки зрения научной этики, но и не имеет оснований. Мир – един в своем бесконечном многообразии. А наука лишь попытка человечества репрезентировать этот мир в моделях (в том числе в образах), доступных пониманию человека. Причем эти модели отражают лишь отдельные фрагменты мира. Но любой из этих фрагментов так же сложен, как и мир в целом. Так что математические формулы, статистические выкладки, описания натуралиста или психологические представления – все суть более или менее адекватные формы отражения одной и той же реальности. И математика в психологии – это не инородное вкрапление, которое психологи вынуждены терпеть за отсутствием собственных точных формальных (а по возможности и «объективных») способов описания и репрезентации психологической реальности. Это – естественный код организации мира и, соответственно, естественный язык описания этой организации.
Надежды некоторых психологов на временный характер зависимости психологии от математики – утопия. Психология использует математику не потому, что «за неимением гербовой пишет на простой», т. е. «пока» не имеет своих точных и объективных приемов анализа и объяснения психических феноменов, а потому, что математический язык – это общенаучный язык отражения реальности. И в этом смысле математику действительно можно признать «царицей наук». Психологии этот язык присущ так же, как любой другой отрасли научного знания. Вопрос лишь в том, насколько психология этот язык освоила. Таким образом, психологии вовсе не требуется доказывать, что она «может существовать независимо от математики» и эмансипироваться вплоть до «развода» с нею. Симптоматично в этом отношении формирование в последние годы новой психологической дисциплины – математической психологии [363].
Итак, утверждения о временном мезальянсе психологии с математикой, на наш взгляд, не состоятельны, сколь бы образны и метафоричны они ни были. Это – естественное единство.
Второе замечание касательно применения статистики в психологии заключается в предостережении: нельзя позволить втянуть себя в так называемую «статистическую мясорубку», когда полагают, что, пропустив через математическую обработку любой материал, можно получить какие-то зависимости, выявить какие-нибудь закономерности и факты. Без гипотезы и без продуманного подбора исходных данных научного результата ожидать только за счет применения статистики нельзя. Необходимо знать, что мы хотим получить от применения статистики и какие методы обработки подходят к условиям и задачам исследования.
К тому же надо заметить, что психологу не всегда по силам понять, что происходит с исходным психологическим материалом в процессе его статистического «прокручивания». Для уяснения некоторых операций внутри того или иного статистического метода (например, «варимакс-вращений» в факторном анализе) требуется специальная углубленная подготовка. Некоторые из этих операций базируются на тех или иных постулатах, не всегда подходящих к рабочей гипотезе пользователя. Поэтому для оценки адекватности, валидности намеченного метода иногда требуются весьма специфические знания. Апелляция к частоте и привычности использования в психологической практике таких матметодов не всегда спасает дело. И тогда эти приемы обработки данных становятся действительно «черным ящиком» и «статистической мясорубкой». Поэтому не следует стремиться к излишне сложным методам в погоне за модой или с сомнительной целью повысить уровень «научности» своей работы. Непродуманная стрельба «из пушки по воробьям» только ведет к неоправданным затратам и запутыванию психологической идеи исследования. Следует согласиться с выводом Е. В. Сидоренко, что «чем проще методы математической обработки, чем ближе они к реально полученным эмпирическим данным, тем более надежными и осмысленными получаются результаты» [344, с. 7].
Кроме того, нельзя забывать, что статистические методы – это вспомогательное оружие психолога, призванное лишь усилить исследовательскую мысль. Это лишь «деревья», за которыми должен быть виден «лес» – основная психологическая идея. Тем более что, как только что было сказано, всеобщность детерминации (по крайней мере, причинной) вызывает большие сомнения. Следовательно, поиск с помощью лишь математической обработки психологических зависимостей, тем более зависимостей функциональных, дело не очевидное и чреватое заблуждениями. Психологам хорошо известно, что в реальности невозможно найти ни «чистых», ни «среднестатистических» психологических типов. Это заставляет даже некоторых исследователей отказаться от рассмотрения каждого отдельного психического явления как эманации какой-то общей закономерности и тем паче «отказаться от того, чтобы считать отдельную личность случайной величиной, случайным проявлением более закономерного среднегруп-пового индивида» [345, с. 40].
После этих замечаний с удовольствием повторим вслед за Мак-Коннелом: «Статистика – это не математика, а прежде всего способ мышления, и для ее применения нужно лишь иметь немного здравого смысла и знать основы математики» [89, т. 2, с. 277].
В дальнейшем изложении ограничимся освещением необходимого Minimum minimori в этой области, а именно важнейших элементов описательной и корреляционной статистики. Более подробные сведения по этим разделам статистической науки и о приемах индуктивной статистики применительно к психологической специфике можно почерпнуть из работ [87,127, 344, 364].
Всю совокупность полученных данных можно охарактеризовать в сжатом виде, если удается ответить на три главных вопроса: 1) какое значение наиболее характерно для выборки?; 2) велик ли разброс данных относительно этого характерного значения, т. е. какова «размытость» данных?; 3) существует ли взаимосвязь между отдельными данными в имеющейся совокупности и каковы характер и сила этих связей? Ответами на эти вопросы служат некоторые статистические показатели исследуемой выборки. Для решения первого вопроса вычисляются меры центральной тенденции (или локализации), второго – меры изменчивости (или рассеивания), третьего – меры связи (или корреляции). Эти статистические показатели приложимы к количественным данным (порядковым, интервальным, пропорциональным). Данные качественные (номинативные) поддаются математическому анализу с помощью дополнительных ухищрений, которые позволяют использовать элементы корреляционной статистики.
Меры центральной тенденцииМеры центральной тенденции (м. ц. т.) – это величины, вокруг которых группируются остальные данные. Эти величины являются как бы обобщающими всю выборку показателями, что, во-первых, позволяет по ним судить о всей выборке, а во-вторых, дает возможность сравнивать разные выборки, разные серии между собой. К мерам центральной тенденции относятся: среднее арифметическое, медиана, мода, среднее геометрическое, среднее гармоническое. В психологии обычно используются первые три.
Среднее арифметическое (М) – это частное от деления всех значений (X) на их количество (N): М = SX / N.
Медиана (Me) – это значение, выше и ниже которого количество отличающихся значений одинаково, т. е. это центральное значение в последовательном ряду данных.
Примеры: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 Me = 9.
3,5,7,9,11,13,15,17 Me =10.
Из примеров ясно, что медиана не обязательно должна совпадать с имеющимся замером, это точка на шкале. Совпадение происходит в случае нечетного числа значений (ответов) на шкале, несовпадение – при четном их числе.
Мода (Мо) – это значение, наиболее часто встречающееся в выборке, т. е. значение с наибольшей частотой.
Пример: 2, 6, 6, 8, 9, 9, 9, 10 Мо = 9.
Если все значения в группе встречаются одинаково часто, то считается, что моды нет (например: 1, 1, 5, 5, 8, 8). Если два соседних значения имеют одинаковую частоту и они больше частоты любого другого значения, мода есть среднее этих двух значений (например: 1,2,2,2,4,4,4, 5,5,7 Мо = 3). Если то же самое относится к двум несмежным значениям, то существует две моды, а группа оценок является бимодальной (например: 0,1,1,1,2,3,4, 4, 4, 7 Мо = 1 и 4).
При выборе м. ц. т. следует учесть, что:
1) в малых группах мода может быть нестабильна.
Пример: 1,1,1,3,5,7,7,8 Мо = 1.
Но стоит одной единице превратиться в нуль, а другой – в двойку, и Мо = 7;
на медиану не влияют величины «больших» и «малых» значений;
на среднее влияет каждое значение.
Обычно среднее применяется при стремлении к наибольшей точности и когда впоследствии нужно будет вычислять стандартное отклонение. Медиана – когда в серии есть «нетипичные» данные, резко влияющие на среднее (например: 1, 3, 5, 7, 9, 26, 13). Мода – когда не нужна высокая точность, но важна быстрота определения м. ц. т.
Меры изменчивости (рассеивания, разброса)Это статистические показатели, характеризующие различия между отдельными значениями выборки. Они позволяют судить о степени однородности полученного множества, о его компактности, а косвенно – и о надежности полученных данных и вытекающих из них результатов. Наиболее используемые в психологических исследованиях показатели: размах, среднее отклонение, дисперсия, стандартное отклонение, полуквартильное отклонение. Размах (Р) – это интервал между максимальным и минимальным значениями признака. Определяется легко и быстро, но чувствителен к случайностям, особенно при малом числе данных.
Примеры: 0, 2, 3, 5, 8 (Р = 8-0 = 8);
-0.2, 1.0, 1.4, 2.0 (Р = 2,0-(-0,2) = 2,2);0,2,3,5,67 (Р = 67-0 = 67).
Среднее отклонение (МД) – это среднеарифметическое разницы (по абсолютной величине) между каждым значением в выборке и ее средним:
МД = ∑d / N,
где d = |Х– M|; М – среднее выборки; X – конкретное значение; N – число значений.
Множество всех конкретных отклонений от среднего характеризует изменчивость данных, но если их не взять по абсолютной величине, то их сумма будет равна нулю. И вся информация пропадает. МД показывает степень скученности данных вокруг среднего. Кстати, иногда при определении этой характеристики выборки вместо среднего (М) берут иные меры центральной тенденции – моду или медиану.
Дисперсия (Д) (от лат. dispersus – рассыпанный). Другой путь измерения степени скученности данных – это избегание нулевой суммы конкретных разниц (d = Х-М) не через их абсолютные величины, а через их возведение в квадрат, и тогда получают дисперсию:
Д = ∑d2 / N – для больших выборок (N 30); Д = ∑d2/ (N-1) – для малых выборок (N
Стандартное отклонение (а). Из-за возведения в квадрат отдельных отклонений d при вычислении дисперсии получается очень не наглядная величина, далекая от самих отклонений. Чтобы этого избежать и получить характеристику, сопоставимую со средним отклонением, проделывают обратную математическую операцию – из дисперсии извлекают квадратный корень. Его положительное значение и принимается за меру изменчивости, именуемую среднеквадратическим или стандартным отклонением:
![]()
МД, Д и применимы для интервальных и пропорциональных данных.
Для порядковых данных обычно в качестве меры изменчивости берут полуквартилыше отклонение (Q), именуемое еще полукваргттьным коэффициентом или полумеждуквартильным размахом. Вычисляется этот показатель следующим образом. Вся область распределения данных делится на четыре равные части. Если отсчитывать наблюдения начиная от минимальной величины на измерительной шкале (на графиках, полигонах, гистограммах отсчет обычно ведется слева направо), то первая четверть шкалы называется первым квартилем, а точка, отделяющая его от остальной части шкалы, обозначается символом Q1. Вторые 25% распределения – второй квартиль, а соответствующая точка на шкале – Q2. Между третьей и четвертой четвертями распределения расположена точка Q3. Полуквартильный коэффициент определяется как половина интервала между первым и третьим квартилями:
Q = (Q3 – Q1)/2.
Понятно, что при симметричном распределении точка Q2 совпадет с медианой (а следовательно, и со средним), и тогда можно вычислить коэффициент Q для характеристики разброса данных относительно середины распределения. При несимметричном распределении этого недостаточно. И тогда дополнительно вычисляют еще два коэффициента Q – для правого и левого участков:
Qлев. = (Q2-Q1)/2; Qправ.= (Q3-Q2)/2
Меры связиПредыдущие показатели, именуемые статистиками, характеризуют совокупность данных по одному какому-либо признаку. Этот изменяющийся признак называют переменной величиной или просто «переменной». Меры связи же выявляют соотношения между двумя переменными или между двумя выборками.
Например, нужно установить, существует ли связь между ростом и весом человека, между типом темперамента и успешностью решения интеллектуальных задач и т. д. Или, скажем, надо выяснить, принадлежат ли две выборки к одной популяции или к разным. Эти связи, или корреляции (от лат. correlatio – соотношение, взаимосвязь), и выявляют через вычисление коэффициентов корреляции (R), если переменные находятся в линейной зависимости между собой. Считается, что большинство психических явлений подчинено именно линейным зависимостям, что и предопределило широкое использование методов корреляционного анализа. Но наличие корреляции не означает, что между переменными существует причинная (или функциональная) связь. Функциональная зависимость [у = f(x)] – это частный случай корреляции. Даже если связь причинна, корреляционные показатели не могут указать, какая из двух переменных причина, а какая – следствие. Кроме того, любая обнаруженная в психологии связь, как правило, существует благодаря и другим переменным, а не только двум рассматриваемым. К тому же взаимосвязи психологических признаков столь сложны, что их обусловленность одной причиной вряд ли состоятельна, они детерминированы множеством причин.
Виды корреляции: I. По тесноте связи:
1) Полная (совершенная) – R=l. Констатируется обязательная взаимозависимость между переменными. Здесь уже можно говорить о функциональной зависимости. Например: связь между стороной квадрата и его площадью, между весом и объемом и т. п.
Отсутствие связи – R = 0. Например: между скоростью реакции и цветом глаз, длиной ступни и объемом памяти.
Частичная – 0Rl; (меньше 0,2) – очень слабая связь, трудно о ней говорить всерьез; (0,2–0,4) – корреляция явно есть, но невысокая; (0,4-0,6) – явно выраженная корреляция; (0,6-0,8) – высокая корреляция; (больше 0,8) – очень высокая.
Встречаются и другие градации оценок тесноты связи [288]. Кроме того, в психологии при оценке тесноты связи используют так называемую «частную» классификацию корреляционных связей. Эта классификация ориентирована не на абсолютную величину коэффициентов корреляции, а на уровень значимости этой величины при определенном объеме выборки. Эта классификация применяется при статистической оценке гипотез. Тогда чем больше выборка, тем меньшее значение коэффициента корреляции может быть принято для признания достоверности связей. А для малых выборок даже абсолютно большое значение R может оказаться недостоверным [344].
II. По направленности:
1) Положительная (прямая).
Коэффициент R со знаком «плюс» означает прямую зависимость: увеличение значения одной переменной влечет увеличение другой. Например, связь между числом повторений и запоминанием положительна.
2) Отрицательная (обратная).
Коэффициент R со знаком «минус» означает обратную зависимость: увеличение значения одной переменной влечет уменьшение другой. Например, увеличение объема информации ухудшает ее запоминание.
III. По форме:
1) Прямолинейная.
При такой связи равномерным изменениям одной переменной соответствуют равномерные изменения другой. Например, последовательному изменению величины стороны прямоугольника соответствует столь же последовательное изменение его площади. Если говорить не только о корреляциях, но и о функциональных зависимостях, то такие формы зависимости называют пропорциональными.
В психологии строго прямолинейные связи – явление не частое. Например, иногда наблюдается прямолинейная связь между тренированностью и успешностью деятельности. 2) Криволинейная.
Это связь, при которой равномерное изменение одного признака сочетается с неравномерным изменением другого. Эта ситуация типична для психологии. Классическими иллюстрациями могут служить знаменитые законы Йеркса–Додсона и Вебера-Фехнера. Согласно первому успешность деятельности при увеличении мотивации к ней изменяется по колоколообраз-ной кривой: до определенного уровня рост мотивации сопровождается увеличением успешности, после чего с повышением мотивации успешность деятельности спадает. Согласно второму закону интенсивность наших ощущений при равномерном увеличении стимула увеличивается по логарифмической кривой, т. е. при изменении стимуляции в арифметической прогрессии ощущения изменяются в геометрической прогрессии.
Формулы коэффициента корреляции
1. При сравнении порядковых данных применяется коэффициент ранговой корреляции по Ч. Спирмену (р):
p = 6d2/N(N2-l),
где d – разность рангов (порядковых мест) двух величин; N – число сравниваемых пар величин двух переменных (X и Y). Пример вычисления р дан в таблице 3.

2. При сравнении метрических данных используется коэффициент корреляции произведений по К. Пирсону (г):
r = xy/Nσxσy,
где х – отклонение отдельного значения X от среднего выборки (Мх); у – то же для Y; σх – стандартное отклонение для X; σу – то же для Y; N – число пар значений X и Y.
Рекомендации по анализу коэффициентов корреляции
R – это не процент соответствия переменных, а только степень связи.
Сравнение коэффициентов дает только неметрическуюинформацию, т. е. нельзя говорить, на сколько или во сколько раз один больше или меньше другого. Они сравниваютсяв оценках «равно – неравно», «больше – меньше». Можно сказать, что один коэффициент превышает (слабо, заметно, очень заметно) другой, но какова величина этого превышения говорить нельзя.
Существуют явления, в которых заведомо известно, чтомежду ними слабая (или сильная) связь. Тогда R приобретает не абсолютный, а относительный характер. Так, для слабой связи R = 0,2 может считаться высоким показателем, а для сильной и R = 0,7 будет считаться низким.
Иногда и слабая корреляция заслуживает внимания, еслиэто обнаружено впервые, т. е. выявлена новая связь.
Надежность R зависит от надежности исходных данных.
Мы уже знакомы с понятиями «распределение», «полигон» (или «частный полигон») и «кривая распределения». Частным случаем этих понятий является «нормальное распределение» и «нормальная кривая». Но этот частный вариант очень важен при анализе любых научных данных, в том числе и психологических. Дело в том, что нормальное распределение, изображаемое графически нормальной кривой, есть идеальное, редко встречающееся в объективной действительности распределение. Но его использование многократно облегчает и упрощает обработку и объяснение получаемых в натуре данных. Более того, только для нормального распределения приведенные коэффициенты корреляции имеют истолкование в качестве меры тесноты связи, в других случаях они такой функции не несут, а их вычисление приводит к труднообъяснимым парадоксам.
В научных исследованиях обычно принимается допущение о нормальности распределения реальных данных и на этом основании производится их обработка, после чего уточняется и указывается, насколько реальное распределение отличается от нормального, для чего существует ряд специальных статистических приемов. Как правило, это допущение вполне приемлемо, так как большинство психических явлений и их характеристик имеют распределения, очень близкие к нормальному.
Так что же такое нормальное распределение и каковы его особенности, привлекающие ученых? Нормальным называется такое распределение величины, при котором вероятность ее появления и не появления является одинаковой. Классическая иллюстрация – бросание монеты. Если монета правильна и броски выполняются одинаково, то выпадение «орла» или «решки» равновероятно. То есть «орел» с одинаковой вероятностью может выпасть и не выпасть, то же касается и «решки».
Мы ввели понятие «вероятность». Уточним его. Вероятность – это ожидаемая частота наступления события (появления – не появления величины). Выражается вероятность через дробь, в числителе которой – число сбывшихся событий (частота), а в знаменателе – предельно возможное число этих событий. Когда выборка (число возможных случаев) ограниченна, то лучше говорить не о вероятности, а о частости, с которой мы уже знакомы. Вероятность предполагает бесконечное число проб. Но на практике эта тонкость часто игнорируется.
Пристальный интерес математиков к теории вероятности в целом и к нормальному распределению в частности появляется в XVII веке в связи со стремлением участников азартных игр найти формулу максимального выигрыша при минимальном риске. Этими вопросами занялись знаменитые математики Я. Бернулли (1654-1705) и П. С. Лаплас (1749-1827). Первым математическое описание кривой, соединяющей отрезки диаграммы распределения вероятностей выпадения «орлов» при многократном бросании монет, дал Абрахам де Муавр (1667-1754). Эта кривая очень близка к нормальной кривой, точное описание которой дал великий математик К. Ф. Гаусс (1777-1855), чье имя она и носит поныне. График и формула нормальной (Гауссовой) кривой выглядит следующим образом.

где Р – вероятность (точнее, плотность вероятности), т. е. высота кривой над заданным значением Z; е – основание натурального логарифма (2.718...); π = 3.142...; М – среднее выборки; σ – стандартное отклонение.
Свойства нормальной кривой
Среднее (М), мода (Мо) и медиана (Me) совпадают.
Симметричность относительно среднего М.
Однозначно определяется всего лишь двумя параметрами – М и о.
«Ветви» кривой никогда не пересекают абсциссу Z, асимптотически к ней приближаясь.
При М = 0 и о =1 получаем единичную нормальную кривую, так как площадь под ней равна 1.
Для единичной кривой: Рм = 0.3989, а площадь под кривой в диапазоне:
-σ до +σ = 68.26%; -2σ до + 2σ = 95.46%; -Зσ до + Зσ = 99.74%.
7. Для неединичных нормальных кривых (М ≠ 0, σ ≠ 1) закономерность по площадям сохраняется. Разница – в сотых долях.
Некоторые методы статистического анализа данных при вторичной обработкеВнедрение в научные исследования вычислительной техники позволяет быстро и точно определять любые количественные характеристики любых массивов данных. Разработаны различные программы для ЭВМ, по которым можно проводить соответствующий статистический анализ практически любых выборок. Из массы статистических приемов в психологии наибольшее распространение получили следующие.
Комплексное вычисление статистик
По стандартным программам производится вычисление различных совокупностей статистик. Как основных, представленных нами выше, так и дополнительных, не включенных в наш обзор. Иногда получением этих характеристик исследователь и ограничивается. Чаще же совокупность этих статистик представляет собой лишь блок, входящий в более широкое множество показателей изучаемой выборки, получаемое по более сложным программам. В том числе по программам, реализующим приводимые ниже методы статистического анализа.
Корреляционный анализ
Сводится к вычислению коэффициентов корреляции в самых разнообразных соотношениях между переменными. Соотношения задаются исследователем, а переменные равнозначны, т. е. что являются причиной, а что следствием, установить через корреляцию невозможно. Кроме тесноты и направленности связей' метод позволяет установить форму связи (линейность, нелинейность) [27, 124]. Надо заметить, что нелинейные связи не поддаются анализу общепринятыми в психологии математическими и статистическими методами. Данные, относящиеся к нелинейным зонам (например, в точках разрыва связей, в местах скачкообразных изменений), характеризуют через содержательные описания, воздерживаясь от формально-количественного их представления; [84, с. 17–23]. Иногда для описания нелинейных явлений в психологии удается применить непараметрические математико-статистические методы и модели. Например, используется математическая теория катастроф [294, с. 523–525].
Дисперсионный анализ
В отличие от корреляционного анализа этот метод позволяет выявлять не только взаимосвязь, но и зависимости между переменными, т. е. влияние различных факторов на исследуемый признак. Это влияние оценивается через дисперсионные отношения. Изменение изучаемого признака (вариативность) может быть вызвано действием отдельных известных исследователю факторов, их взаимодействием и воздействиями неизвестных факторов. Дисперсионный анализ позволяет обнаружить и оценить вклад каждого из этих влияний на общую вариативность исследуемого признака. Метод позволяет быстро сузить поле влияющих на изучаемое явление условий, выделив наиболее существенные из них. Таким образом, дисперсионный анализ – это «исследование влияния переменных факторов на изучаемую переменную по дисперсиям» [364, с. 340]. В зависимости от числа влияющих переменных различают одно-, двух-, многофакторный анализ, а в зависимости от характера этих переменных – анализ с постоянными, случайными или смешанными эффектами [87, 364, 407]. Дисперсионный анализ широко применяется при планировании эксперимента.
Факторный анализ
Метод позволяет снизить размерность пространства данных, т. е. обоснованно уменьшить количество измеряемых признаков (переменных) за счет их объединения в некоторые совокупности, выступающие как целостные единицы, характеризующие изучаемый объект. Эти составные единицы и называют в данном случае факторами, от которых надо отличать факторы дисперсионного анализа, представляющие собой отдельные признаки (переменные). Считается, что именно совокупность признаков в определенных комбинациях может характеризовать психическое явление или закономерность его развития, тогда как по отдельности или в других комбинациях эти признаки не дают информации. Как правило, факторы не видны на глаз, скрыты от непосредственного наблюдения. Особенно продуктивен факторный анализ в предварительных исследованиях, когда необходимо выделить в первом приближении скрытые закономерности в исследуемой области. Основой анализа является матрица корреляций, т. е. таблицы коэффициентов корреляции каждого признака со всеми остальными (принцип «все со всеми»). В зависимости от числа факторов в корреляционной матрице различают однофакторный (по Спирмену), бифакторный (по Холзингеру) и многофакторный (по Тёрстону) анализы. По характеру .связи между факторами метод делится на анализ с ортогональными (независимыми) и с облическими (зависимыми) факторами. Существуют и иные разновидности метода [35, 134, 199, 269, 394]. Весьма сложный математический и логический аппараты факторного анализа часто затрудняют выбор адекватного задачам исследования варианта метода. Тем не менее популярность его в научном мире растет с каждым годом.
Регрессионный анализ
Метод позволяет изучать зависимость среднего значения одной величины от вариаций другой (других) величины. Специфика метода заключается в том, что рассматриваемые величины (или хотя бы одна из них) носят случайный характер. Тогда описание зависимости распадается на две задачи: 1) выявление общего вида зависимости и 2) уточнение этого вида путем вычисления оценок параметров зависимости. Для решения первой задачи стандартных методов не существует и здесь производится визуальный анализ корреляционной матрицы в сочетании с качественным анализом природы исследуемых величин (переменных). Это требует от исследователя высокой квалификации и эрудиции. Вторая задача, по сути, есть нахождение аппроксимирующей кривой. Чаще всего эта аппроксимация осуществляется с помощью математического метода наименьших квадратов [45, 116, 124]. Идея метода принадлежит Ф. Гальтону, заметившему, что у очень высоких родителей дети были несколько меньше ростом, а у очень маленьких родителей – дети более рослые. Эту закономерность он и назвал регрессией.
Интерпретация результатов. Интерпретация как теоретическая обработка эмпирической информацииЗа количественной и качественной обработкой данных следует решающая фаза научного исследования – интерпретация результатов. Часто эту фазу называют теоретической обработкой, подчеркивая ее отличие от эмпирической статистической обработки. Эта фаза – наиболее захватывающий этап исследования, на котором особенно ярко проявляется творческий характер научного процесса.
Теоретическая обработка выполняет две главные функции: 1) преобразование статистически подготовленных данных («вторичных данных», результатов) в эмпирические знания и 2) получение на их базе теоретических знаний. Таким образом, на этом этапе особенно рельефно проявляется единство и взаимосвязь эмпирических и теоретических знаний.
На стадии выдвижения гипотез научная мысль направлена от теории к объекту исследования, на стадии интерпретации – от объекта (фактов) к теории. Эмпирические данные делают возможными вначале только высказывания о существовании или отсутствии признака (факта), о степени его выраженности, частоте появления и т. п. Цель дальнейшего теоретического проникновения в информационный материал состоит в том, чтобы, исходя из выдвинутых гипотез, научно обработать отдельные данные или их совокупность так, чтобы можно было: 1) определить отношения между данными и гипотезами; 2) произвести проверку исходных гипотез; 3) уточнить, расширить, модифицировать и т. д. имеющиеся гипотезы и развить их до уровня теоретических высказываний; 4) гипотетическое объяснение проблемы довести до уровня решения этой проблемы.
Если статистическая обработка охватывает количественный аспект психологических явлений, то интерпретация делает видимым и их качественный аспект.
Чаще всего под интерпретацией понимают две процедуры: объяснение и обобщение. Так, В. Феттер пишет: «Содержание и цель процесса теоретической обработки эмпирических данных заключается в том, чтобы объяснить значение отдельных результатов, объединить их в обобщающие высказывания, свести в одну систему» [376, с. 501]. И с этим нельзя не согласиться. Однако представляется, что пределы теоретической обработки и соответственно интерпретационного этапа исследования следует несколько расширить.
Объяснить и обобщить что-либо невозможно, не имея полноценного описания этого самого чего-либо. На этапе обработки данных производится лишь самое предварительное описание. Количественная обработка дает описание не столько самого объекта (или предмета) изучения, сколько описание совокупности данных о нем на специфическом языке количественных параметров. Качественная обработка дает предварительное схематическое описание объекта как совокупности его свойств или как представителя той или иной группы сходных объектов. Далее требуется дать предельно полное описание изучаемого явления на естественном языке с использованием при необходимости специальной терминологии и специфической символики (математической, логической, графической и т. п.). В принципе подобное описание может быть самостоятельной целью исследования (об этом уже говорилось), и тогда на нем может завершиться исследовательский цикл. Особенно весомы системные описания, которые уже сами по себе могут выполнять объяснительную и предсказательную функции [80]. Но чаще все-таки описание является лишь предтечей последующих теоретических действий. Важность описания в полном цикле научного исследования подчеркивается тем, что некоторые ученые выделяют его как самостоятельный отдельный этап наряду с этапами эксперимента, обработки данных, объяснения и др. [255]. Но вместе с тем без элементарных описаний (пусть даже чисто номинативного характера) не обходится практически ни один этап исследовательского процесса от постановки проблемы до выводов.
В связи с такой двойственностью положения этого компонента научного исследования наиболее логичным будет специальное выделение фазы полномасштабного завершающего описания, но не на эмпирическом уровне изучения объекта, а на уровне его теоретического осмысления. Тогда наиболее приемлемым решением будет включение фазы описания в интерпретационный этап исследования. Такое решение тем более логично, что в науке устоялось мнение о единстве описания и объяснения действительности. При этом считается, что в философском плане описание дает представление о форме объекта, а объяснение раскрывает его содержание, описание соотносится с философской категорией «явление», а объяснение – с «сущностью» [204, 255].
Раздвинуть границы интерпретационного этапа необходимо и в другом направлении: в сторону выводов. В состав этапа целесообразно включить процесс экстраполяции состояний, поведения или свойств изучаемого объекта. Если эта экстраполяция направлена в будущее, то речь идет о прогнозе и предсказании, основанных на причинных связях и объяснениях. Если же экстраполяция направлена в прошлое, – это ретрогноз, ретросказание, основанное на следственных связях и объяснениях.
Дополнив таким образом стадию интерпретации, мы не упустим основных элементов теоретической обработки эмпирического материала, обеспечивающих выполнение важнейших функций науки: описательной, объяснительной и прогнозирующей. Не умаляя роли ни одного из этих элементов, объяснение и обобщение все же следует признать ключевыми звеньями в общей цепи теоретических познавательных действий.
Интерпретационные методы (подходы)Еще больше чем организационные эти методы заслуживают наименования подходов, поскольку являются в первую очередь объяснительными принципами, предопределяющими направление интерпретации результатов исследования. В научной практике получили развитие генетический, структурный, функциональный, комплексный и системный подходы. Использование того или иного метода не означает отсечения других. Наоборот, обычным делом в психологии является сочетание подходов. И это относится не только к исследовательской практике, но и к психодиагностике, психологическому консультированию и психокоррекции [330, с. 8-9].
Генетический метод
Генетический метод – это способ исследования и объяснения явлений (в том числе психических), основанный на анализе их развития как в онтогенетическом, так и филогенетическом планах. При этом требуется установление: 1) начальных условий возникновения явления, 2) главных этапов и 3) основных тенденций его развития. Цель метода – выявление связи изучаемых явлений во времени, прослеживание перехода от низших форм к высшим.
Так что везде, где требуется выявление временной динамики психических явлений, генетический метод является неотъемлемым исследовательским инструментом психолога. Даже когда исследование нацелено на изучение структурных и функциональных характеристик явления, не исключено эффективное применение этого метода. Так, разработчики известной теории перцептивных действий при микроструктурном анализе восприятия отмечали, что «наиболее пригодным оказался генетический метод исследования» [131, с. 261]. Естественно, генетический метод особенно характерен для различных отраслей психологии развития: сравнительной, возрастной, исторической психологии [237]. Понятно, что и любое лонгитюдное исследование предполагает применение рассматриваемого метода.
Генетический подход, вообще-то, может рассматриваться как методическая реализация одного из основных принципов психологии, а именно принципа развития [303]. При таком видении другие варианты реализации принципа развития допустимо рассматривать как модификации генетического подхода. Например, исторический и эволюционный подходы.
Структурный метод
Структурный подход – направление, ориентированное на выявление и описание структуры объектов (явлений). Для него характерно: углубленное внимание к описанию актуального состояния объектов; выяснение внутренне присущих им вневременных свойств; интерес не к изолированным фактам, а к отношениям между ними. В итоге строится система взаимосвязей между элементами объекта на различных уровнях его организации [166,304, 323].
Обычно при структурном подходе не акцентируются соотношение в объекте частей и целого и динамика выявленных структур. При этом разложение целого на части (декомпозиция) может производиться по различным вариантам [80, с. 7]. Важным достоинством структурного метода является относительная легкость наглядного представления результатов в виде различных моделей. Эти модели могут даваться в форме описаний, перечня элементов, графической схемы, классификации и пр.
Неисчерпаемым примером подобного моделирования служит представление структуры и типов личности: трехэлементная модель по 3. Фрейду; типы личности по Юнгу; «круг Айзенка»; многофакторная модель Р. Ассаджиоли. Не отстала от зарубежной психологии в этом вопросе и наша отечественная наука: эндо- и экзопси-хика по А. Ф. Лазурскому и развитие его взглядов у В. Д. Балина [20]; структура личности из четырех сложных комплексов по Б. Г. Ананьеву; индивидно-индивидуальная схема В. С. Мерлина; перечни компонентов личности у А. Г. Ковалева и П. И. Иванова; динамическая функциональная структура личности по К. К. Платонову; схема личности по А. И. Щербакову и т. д.
Структурный подход – атрибут любого исследования, посвященного изучению конституциональной организации психики и строения ее материального субстрата – нервной системы. Здесь можно упомянуть о типологии ВНД И. П. Павлова и ее развитии Б. М. Тепловым, В. Д. Небылицыным и другими. Широкое признание получили модели В. М. Русалова, отражающие морфологическую, нейро- и психодинамическую конституции человека [334]. Структурные модели человеческой психики в пространственном и функциональном аспектах представлены в работах [80, 81, 242, 247]. Классическими образцами рассматриваемого подхода служат ассоциативная психология Ф. Гартли и ее следствия (в частности, психофизика «чистых ощущений» XIX века), а также структурная психология В. Вундта и Э. Титченера. Специфической конкретизацией подхода выступает метод микроструктурного анализа, включающий в себя элементы и генетического, и функционального, и системного подходов [91, 130].
Функциональный метод
Функциональный подход, естественно, ориентирован на выявление и изучение функций объектов (явлений). Неоднозначность трактовки в науке понятия «функция» затрудняет определение данного подхода, а также идентификацию с ним тех или иных направлений психологических исследований. Будем придерживаться мнения, что функция есть проявление свойств объектов в определенной системе отношений, а свойства есть проявление качества объекта при его взаимодействии с другими объектами. Таким образом, функция – это реализация соотношения объекта и среды, а еще уже – «соответствие между средой и системой» [80, с. 8].
Следовательно, функциональный подход интересуется главным образом связями изучаемого объекта со средой. Он исходит из принципа саморегулирования и поддержания равновесия объектов действительности (в том числе психики и ее носителей).
Примерами реализации функционального подхода в истории науки являются такие известные направления, как «функциональная психология» и «бихевиоризм». Классическим образцом воплощения функциональной идеи в психологии является знаменитая динамическая теория поля К. Левина [455,456]. В современной психологии функциональный подход обогащен компонентами структурного и генетического анализа. Так, уже прочно установилось представление о многоуровневости и мно-гофазности всех психических функций человека, действующих одновременно на всех уровнях как единое целое [10,11,194,221, 323]. Приведенные выше примеры структур личности, нервной системы, психики с полным основанием можно взять и в качестве иллюстрации к функциональному подходу, так как элементы этих структур большинство авторов соответствующих моделей рассматривают также и как функциональные единицы, олицетворяющие определенные связи человека с действительностью.
Комплексный метод
Комплексный подход – это направление, рассматривающее объект исследования как совокупность компонентов, подлежащих изучению с помощью соответствующей совокупности методов. Компоненты могут быть как относительно однородными частями целого, так и его разнородными сторонами, характеризующими изучаемый объект в разных аспектах. Часто комплексный подход предполагает изучение сложного объекта методами комплекса наук, т. е. организацию междисциплинарного исследования. Очевидно, что комплексный подход предполагает применение в той или иной мере и всех предыдущих интерпретационных методов.
Яркий пример реализации комплексного подхода в науке – концепция человекознания, согласно которой человек как наисложнейший объект изучения подлежит согласованному исследованию большого комплекса наук. В психологии эта идея комплексности изучения человека была четко сформулирована Б. Г. Ананьевым [10,11]. Человек рассматривается одновременно как представитель биологического вида Homo sapiens (индивид), как носитель сознания и активный элемент познавательной и преобразующей действительность деятельности (субъект), как субъект социальных отношений (личность) и как уникальное единство социально значимых биологических, социальных и психологических особенностей (индивидуальность). Такой взгляд на человека позволяет исследовать его психологическое содержание в двух планах: субординационном (иерархическом) и координационном [243]. В первом случае психические явления рассматриваются как соподчиненные системы: более сложные и общие подчиняют и включают в себя более простые и элементарные. Во втором – психические явления рассматриваются как относительно автономные образования, но тесно связанные и взаимодействующие друг с другом. Подобное всеобъемлющее и сбалансированное изучение человека и его психики по сути смыкается уже с системным подходом.
Системный метод
Системный подход – это методологическое направление в изучении реальности, рассматривающее любой ее фрагмент как систему.
Наиболее ощутимым толчком к осознанию системного подхода как неотъемлемого методологического и методического компонента научного познания и к его строгому научному оформлению послужили работы австро-американского ученого Л. Берталанфи (1901-1972), в которых он разработал общую теорию систем [32, 33,429]. Система есть некоторая целостность, взаимодействующая с окружающей средой и состоящая из множества элементов, находящихся между собой в некоторых отношениях и связях. Организация этих связей между элементами называется структурой. Иногда структуру толкуют расширительно, доводя ее понимание до объема системы. Такая трактовка характерна для нашей житейской практики: «коммерческие структуры», «государственные структуры», «политические структуры» и т. д. Изредка такой взгляд на структуру встречается и в науке, хотя и с определенными оговорками [341, с. 105-117; 342, с. 126]. Элемент – мельчайшая часть системы, сохраняющая ее свойства в пределах данной системы. Дальнейшее расчленение этой части ведет к потере соответствующих свойств. Так, атом – элемент с определенными физическими свойствами, молекула – с химическими свойствами, клетка – элемент со свойствами жизни, человек (личность) – элемент социальных отношений. Свойства элементов определяются их положением в структуре и, в свою очередь, определяют свойства системы. Но свойства системы не сводятся к сумме свойств элементов. Система как целое синтезирует (объединяет и обобщает) свойства частей и элементов, в результате чего она обладает свойствами более высокого уровня организации, которые во взаимодействии с другими системами могут представать как ее функции. Любая система может рассматриваться, с одной стороны, как объединение более простых (мелких) подсистем со своими свойствами и функциями, а с другой – как подсистема более сложных (крупных) систем. Например, любой живой организм является системой органов, тканей, клеток. Он же является элементом соответствующей популяции, которая, в свою очередь, является подсистемой животного или растительного мира и т. д.
Системные исследования осуществляются с помощью системных анализа и синтеза. В процессе анализа система выделяется из среды, определяются ее состав (набор элементов), структура, функции, интегральные свойства и характеристики, системообразующие факторы, взаимосвязи со средой. В процессе синтеза создается модель реальной системы, повышается уровень обобщения и абстракции описания системы, определяется полнота ее состава и структур, закономерности ее развития и поведения.
Описание объектов как систем, т. е. системные описания, выполняют те же функции, что и любые другие научные описания: объяснительную и прогнозирующую. Но еще важнее, что системные описания выполняют функцию интеграции знаний об объектах.
Системный подход в психологии позволяет вскрыть общность психических явлений с другими явлениями действительности. Это дает возможность обогащения психологии идеями, фактами, методами других наук и, наоборот, проникновения психологических данных в другие области знания. Он позволяет интегрировать и систематизировать психологические знания, устранять избыточность в накопленной информации, сокращать объем и повышать наглядность описаний, уменьшать субъективизм в интерпретации психических явлений. Помогает увидеть пробелы в знаниях о конкретных объектах, обнаружить их неполноту, определить задачи дальнейших исследований, а иногда и предсказать свойства объектов, информация о которых отсутствует, путем экстраполяции и интерполяции имеющихся сведений.
В учебной деятельности системные методы описания дают возможность представить учебную информацию в более наглядной и адекватной для восприятия и запоминания форме, дать более целостное представление об освещаемых объектах и явлениях и, наконец, перейти от индуктивного изложения психологии к дедуктивно-индуктивному.
Предыдущие подходы являются фактически органичными компонентами системного подхода. Иногда даже их рассматривают как его разновидности [80, с. 7]. Некоторые авторы сопоставляют эти подходы с соответствующими уровнями качеств человека, составляющих предмет психологического исследования [173, 174, 194].
В настоящее время большинство научных исследований проводится в русле системного подхода [151, 373]. Наиболее полное освещение применительно к психологии системный подход нашел в следующих работах [80, 81,170,194, 195, 196, 320, 342, 346].
Форма представления результатов исследования
Завершением любой исследовательской работы является представление результатов: в той форме, которая принята научным сообществом. Следует различать две основные формы представления результатов квалификационную и научно-исследовательскую.
Квалификационная работа — курсовая работа, дипломная работа, диссертация и т.д. — служит для того, чтобы студент, аспирант или соискатель, представив свой труд на суд экспертов, получил документ, удостоверяющий уровень компетентности. Требования к таким работам, способу их оформления и представления результатов изложены в инструкциях ВАК, положениях, принятых учеными советами, и в других столь же солидных документах. Нас интересует вторая форма — представление результатов научной работы.
Условно вид представления научных результатов можно разделить еще на три подвида:
устные изложения; 2) публикации; 3) компьютерные версии.
Но все они относятся к тем или иным вариантам представления текстовой, символической и графической информации. Поэтому разговор о способах оформления и представления научных результатов целесообразно начать с характеристики методов описания данных.
Наиболее детально этот вопрос рассмотрен в работе В. А. Ганзена «Системные описания в психологии» (1984). Под описанием понимается любая форма представления информации о полученных в исследовании результатах.
Различают следующие варианты представления информации: вербальная форма (текст, речь), символическая (знаки, формулы), графическая (схемы, графики), предметно-образная (макеты, вещественные модели, фильмы и др.).
Главное требование к научному тексту — последовательность и логичность изложения. Автор должен по возможности не загружать текст избыточной информацией, но может использовать метафоры, примеры и «лирические отступления» для того, чтобы привлечь внимание к особо значимому для понимания сути звену рассуждений. Научный текст, в отличие от литературного текста или повседневной речи, очень клиширован — в нем преобладают устойчивые структуры и обороты. Текст состоит из высказываний. Каждое высказывание имеет определенную логическую форму. Причинная зависимость, например, выражается импликативной формой «если А, то В», хотя, как показал Пиаже, в психологии импликативное объяснение и причинное объяснение отнюдь не тождественны. Существуют основные логические формы высказывания: 1) индуктивное — обобщающее некоторый эмпирический материал; 2) дедуктивное — логический вывод от общего к частному или описание алгоритма; 3) аналогия — «трансдукция»; 4) толкование или комментарий — «перевод», раскрытие содержания одного текста посредством создания другого.
Следующая форма описания результатов — геометрическая. Геометрические (пространственно-образные) описания являются традиционным способом кодирования научной информации. Поскольку геометрическое описание дополняет и поясняет текст, оно «привязано» к языковому описанию. Геометрическое описание наглядно. Оно позволяет одновременно представить систему отношений между отдельными переменными, исследуемыми в эксперименте. Информационная емкость геометрического описания очень велика.
В психологии используется несколько основных форм графического представления научной информации опирающиеся на характеристики топологические и метрические. Один из традиционных способов представления информации, использующих топологические характеристики, — это графы. Напомню, что графом является множество точек (вершин), соединенных ребрами (ориентированными или неориентированными отрезками). В психологических исследованиях графы используются очень часто при описании результатов. Примеры: иерархическая модель интеллекта Д. Векслера или модель интеллекта Ч. Спирмена; Схема функциональной системы П. К. Анохина, схема психологической функциональной системы деятельности В. Д. Шадрикова, модель концептуальной рефлекторной дуги Е. Н. Соколова.
Чаще всего ориентированные графы используются при описании системы причинных зависимостей между независимой, дополнительными и зависимой переменными.
Наряду с графами в психологии применяются и пространственно-графические описания, в которых учитывается структура параметров и отношения между элементами (либо метрические, либо топологические). Примером является известное описание структуры интеллекта — «куб» Д. Гилфорда. Другой вариант применения пространственного описания — пространство эмоциональных состояний по В. Вундту или же описание типов личности по Г. Айзенку («круг Айзенка»).
В случае если в пространстве признаков определена метрика, то используется более строгое представление данных. Положение точки в пространстве, изображенном на рисунке, соответствует реальным координатам ее в пространстве признаков. Таким способом представляются результаты многомерного шкалирования, факторного анализа, латентно-структурного анализа и некоторых вариантов кластерного анализа.
Каждый фактор отображается осью пространства, а параметр проведения, измеренный нами, — точкой в этом пространстве. В других случаях, в частности при описании результатов дифференциально-психологических исследований, точками изображаются испытуемые, осями — главные факторы (или латентные свойства).
Для первичного представления данных используются другие графические формы: диаграммы, гистограммы и полигоны распределения, а также различные графики.
Первичным способом представления данных является изображение распределения. Для отображения распределения значений измеряемой переменной на выборке используют гистограммы и полигоны распределения. Часто для наглядности распределение показателя в экспериментальной и контрольной группах изображают на одном рисунке.
Гистограмма — это «столбчатая» диаграмма частотного распределения признака на выборке. Используется декартова система координат. При построении гистограмм на оси абсцисс откладывают значения измеряемой величины, а на оси ординат — частоты или относительные частоты встречаемости данного диапазона величины в выборке. Если на гистограмме отображены относительные частоты, то площадь всех столбиков равна 1.
Вариантом отображения информации, переходным от графического к аналитическому, являются в первую очередь графики, представляющие функциональную зависимость признаков. Собственно говоря, полигон распределения — это и есть отображение зависимости частоты встречаемости признака от его величины.
Идеальный вариант завершения экспериментального исследования — обнаружение функциональной связи независимой и зависимой переменных, которую можно описать аналитически.
Условно выделим два различных по содержанию типа графиков:
1) отображающие зависимость изменения параметров во времени;
2) отображающие связь независимой и зависимой переменных (или любых двух других переменных).
Классическим вариантом изображения первой зависимости является обнаруженная Г. Эббингаузом связь между объемом воспроизведенного материала и временем, прошедшим после заучивания. Аналогичны многочисленные «кривые научения» или «кривые утомления», показывающие изменение эффективности деятельности во времени.
Графики функциональной зависимости двух переменных также не редкость в психологии: законы Фехнера, Стивенса (в психофизике), Йеркса—Додсона (в психологии мотивации), закономерность, описывающая зависимость вероятности воспроизведения элемента от его места в ряду (в когнитивной психологии), и т. п.
Существует ряд простых рекомендаций по построению графиков. В частности, Л.В. Куликов дает следующие советы начинающим исследователям:
1. График и текст должны взаимно дополнять друг друга.
2. График должен быть понятен «сам по себе» и включать все необходимые обозначения.
3. На одном графике не разрешается изображать больше четырех кривых.
4. Линии на графике должны отражать значимость параметра, важнейшие необходимо обозначать цифрами.
5. Надписи на осях следует располагать внизу и слева.
6. Точки на разных линиях принято обозначать кружками, квадратами и треугольниками.
Если необходимо на том же графике представить величину разброса данных, то их следует изображать в виде вертикальных отрезков, чтобы точка, обозначающая среднее, находилась на отрезке (в соответствии с показателем асимметрии).
Видом графиков являются диагностические профили, которые характеризуют среднюю выраженность измеряемых показателей у группы или определенного индивида.
Наиболее важный способ представления результатов научной работы — числовые значения величины:
1) показатели центральной тенденции (среднее, мода, медиана); 2) абсолютные и относительные частоты; 3) показатели разброса (стандартное отклонение, дисперсия, процентильный разброс); 4) значения критериев, использованных при сравнении результатов разных групп; 5) коэффициенты линейной и нелинейной связи переменных и т.д. и т.п.
Стандартный вид таблиц для представления первичных результатов: по строкам — испытуемые, по столбцам — значения измеренных параметров. Результаты математической статистической обработки также сводятся в таблицы.
Существующие компьютерные пакеты статистической обработки данных позволяют выбрать любую стандартную форму таблиц для представления их в научной публикации.
Аналитические описания, как правило, итоговое обобщение не одного, а серии исследований, проведенных разными авторами. Поэтому они редко являются завершением отдельной экспериментальной работы.
Конкретный вид функциональной зависимости выступает в качестве содержания гипотезы, которую проверяют в критическом эксперименте.
Итак, представление научной информации должно определяться алгоритмом, представленным на рис. 7.6.

Выводы и включение результатов в систему знаний
Завершает научное исследование формулировка выводов. Они должны отражать существо проблемы и быть краткими, т. е. выводы прежде всего должны быть лаконичными. Необходимо, чтобы выводы были согласованы со сформулированными в начале исследования целями и задачами, т. е. в выводах указывается, решены ли задачи, достигнуты ли цели исследования, в конечном итоге – разрешена ли проблема.
Следует стремиться к оптимальному числу выводов, не дробить их на малозначащие частные вопросы. Добротное исследование обычно завершается 3-4 весомыми выводами, действительно вносящими вклад в знания в данной области. Рекомендуемое предельное число выводов: от 7 до 9, что предопределено объемом нашей кратковременной памяти и внимания.
По форме изложения выводы не обязательно должны представать в виде словесных высказываний. В некоторых случаях допустимы графические изображения, математические формулы, физические модели и т. п. Но и они, как правило, сопровождаются краткими пояснениями.
Хорошо представленные выводы легче включить и в имеющуюся систему научных знаний. При этом уточняются актуальность, теоретическая и практическая значимость, степень новизны полученных результатов. Производится перевод специфических знаний на философский язык, определяется их место в общей «картине мира».
По нашему мнению, очевидна необходимость подобного заключительного аккорда, сопрягающего результаты конкретного исследования с общим арсеналом науки и дающего предварительное представление о надобности выполненной работы и ценности ее итогов. Поэтому вызывает недоумение замечание весьма авторитетного российского психолога В. Н. Дружинина: «Следует отметить, что встречающиеся в ряде бюрократических документов требования обязательно описать актуальность, научную новизну, практическую значимость эксперимента, выделить его «цели», «задачи» и др. к организации и планированию реальной научной работы никакого отношения не имеют» [120].
Возможно, резкость этого высказывания вызвана не столько вполне естественными требованиями актуальности, значимости, новизны, целенаправленности научного исследования, сколько предельной заформализованностью этих требований со стороны «руководящих» научных органов в нашей стране. Если это так, то мы полностью солидарны с этим «вопиющим гласом» В. Н. Дружинина. Действительно, бюрократический пресс в отечественной науке (впрочем, как и в других сферах российского общественного бытия) способен задушить любую живую мысль. Специфика научной сферы жизни общества состоит в том, что наукой нельзя руководить. Можно лишь координировать усилия свободно мыслящих ученых. А координация главным образом заключается в широкой информированности научного сообщества о мировых и отечественных достижениях, в финансовой поддержке фундаментальных исследований, в развитии экспериментально-технической базы и в разносторонней поддержке молодых ученых. Увы... Со времен советской централизованной науки (кстати, а точнее, некстати, и высшего образования) нам остались в наследство в основном лишь циркуляры, различные «Положения» и мириады специальных бланков отчетностей. Как и десятки предшествующих лет, сегодня написать диссертацию значительно легче (и естественно, интереснее), чем провести ее через все препоны бюрократических требований «вышестоящих инстанций». Пока остается лишь уповать на скорейшую смену поколения «руководителей» от наукина поколение истинных координаторов, радеющих об отечественной науке.
Требования к оформлению научной статьиИмеется несколько вариантов текстового представления научных результатов: а) тезисы научного доклада; б) отчет о научно-исследовательской работе; в) письмо в редакцию (краткое сообщение о научных результатах; г) статья в научном журнале либо в сборнике научных работ; д) научная монография.
Основной формой научной публикации является статья в научном журнале. Существуют общепринятые требования, предъявляемые к научной статье. Стандарт подготовки рукописи «Психологического журнала» приводится в Приложении 3.
В США используется стандарт оформления статьи, принятый АРА (Американская психологическая ассоциация). В титуле статьи указываются имя и фамилия автора (авторов) и место его работы. Заголовок статьи краткий (не более 15 слов). Он должен кратко информировать читателя о сути исследования. Статью сопровождает изложение содержания (abstract) — не более 100-175 слов: информация о проблеме исследования, его предмете, об испытуемых, о методе, результатах и главные выводы. Резюме содержания статьи идет в реферативный журнал «Psychological Abstracts». В журналах АРА краткое резюме принято предпосылать статье, во многих других журналах оно помещается в конце статьи.
Введение. В начале введения предлагается постановка проблемы. Затем излагается обзор исследований предшественников. Приводятся основные методы, с помощью которых осуществлялись прежние исследования, а также анализируются противоречия в результатах, полученных до настоящего момента. Автор дает теоретическое обоснование своего исследования. Излагаются гипотеза и способ ее проверки. Приводится список изучаемых и контролируемых переменных (зависимая, независимая, дополнительные и другие внешние переменные), а также дается прогноз исхода исследования.
Метод. Основные сведения о методе помещаются еще во введении. В этом разделе полностью раскрываются все особенности процедуры исследования. Читателю предоставляется информация о плане исследования таким образом, чтобы другой психолог мог его воспроизвести по описанию. Дается характеристика выборки испытуемых, рассказывается о стратегии формирования групп. Дается информация о внешних условиях, времени проведения исследования и т. д. Очень подробно описывается процедура исследования. Автор предоставляет читателю информацию об алгоритме работы экспериментатора (инструкция экспериментатора). Приводится полностью инструкция испытуемому, описывается способ предъявления инструкции. Рассказывается о способах управления независимой переменной, об измерении зависимой переменной и о приемах контроля внешних переменных. Специально оговариваются приемы балансировки, контрбалансировки, стабилизации внешних условий, способы общения между испытуемыми и экспериментатором и т.д.
Методики и аппаратура. При описании методики и аппаратуры следует указать конкретное название модели и ее спецификацию. Обычно уникальная аппаратура описывается детально. Стандартная техника и стандартизированные методики (тесты) в подробном описании не нуждаются. Но при описании используемых тестов необходимо точно указать их название, дату, место и авторов валидизации или ревалидизации, основные психометрические характеристики, а также учреждение — производителя теста. Пример: культурно-свободный тест интеллекта Р. Кеттлера (GFT-2), авторы адаптации — А. Ф. Денисов, У. Д. Дорофеев, производство — ГП «ИМАТОН», Санкт-Петербург, 1994.
Исходя из специфики эксперимента, в описание метода могут включаться и другие моменты.
Результаты. Главный раздел статьи посвящается представлению и анализу результатов. В начале этого раздела рекомендуется напомнить постановку проблемы и исходную гипотезу. Затем сжато, соответствующими значениями показателей, а также значениями критериев и уровня достоверности, приводятся основные результаты. Дается представление об общей структуре результатов и их статистической значимости.
Для пояснения и иллюстрации результатов в статье приводятся таблицы и рисунки. В стандарте, принятом АРА, указано, что автор не должен включать таблицы и графики в текст статьи, а должен помещать их в конце текста. Каждая таблица или рисунок представляются на отдельном листе. Нумерация таблиц и рисунков должна соответствовать последовательности ссылок на них в тексте. Поскольку в тексте они не приводятся, в нужном месте дается ссылка на таблицу или график.
Обсуждение результатов. В этой части автор статьи обязан привести выводы из полученных данных, соотнести их с исходной гипотезой и результатами предшественников. Автор должен объяснить исход эксперимента, руководствуясь теоретическими или методическими соображениями. Кроме того, он может выдвинуть дополнительные гипотезы для объяснения, предложения по совершенствованию или опровержению теории, на которую он опирался, проводя исследование. Обычно приводятся суждения о возможности обобщения результатов исследования, о перспективах дальнейших экспериментальных исследований в этой области, а также о том, как можно использовать полученные результаты на практике.
Ссылки на источники. Список использованной литературы представляется на отдельной странице. Стиль АРА предусматривает, чтобы в тексте при ссылке давалась фамилия автора и дата публикации, например: (Adams, 1970) или Adams (1979). Публикация примечаний не входит в стандарт АРА.
На последних страницах статьи помещаются таблицы, графики и примечания. Реферируемые источники и ссылки, например «Smith (примечание 1)», идут на первом отдельном листе. Каждая таблица или график также представляются на отдельной странице. Надписи в стандарте АРА пишутся над таблицами: сначала следует номер таблицы (Table 1), под ней — название, указывающее на то, связи каких переменных отражают представленные данные. Обычно по столбцам обозначаются группы испытуемых, а по строкам — условия эксперимента.
Интересующиеся могут подробнее ознакомиться со стандартом АРА, обратившись к любому издаваемому ассоциацией научному журналу.
В стандарте АРА приняты некоторые аббревиатуры для общепринятых названий и буквенные сокращения для основных статистических терминов. Приведем перечень ряда сокращений:
Миннесотский многофакторный личностный опросник — MMPI
Коэффициент интеллекта — IQ
Хронологический возраст — СА
Время реакции — RT
Сокращения статистических терминов:
М — среднее (оценка математического ожидания);
SD — стандартное отклонение;
Man — медиана;
df — число степеней свободы;
п — количество субъектов в группе;
N — общее количество субъектов;
Р — уровень достоверности;
«SS — сумма квадратов;
MS — среднее квадратов;
r — коэффициент корреляции Пирсона.
Итак, стандарт АРА предлагает следующую структуру научной публикации:
1. Титульный лист
2. Краткое изложение (abstract)
3. Основной текст: название (над статьей) и введение, метод, результаты, обсуждение
4. Основной реферируемый источник
5. Список литературы (ссылки)
6. Примечания
7. Таблица
8. Название графика
9. График
Можно еще раз привести несколько полезных рекомендаций, касающихся стиля написания работы:
— излагать свои идеи следует упорядоченно, разбивая по смыслу изложения на абзацы и параграфы;
— писать следует по возможности просто и кратко;
— нужно избегать двусмысленностей;
— статья пишется для читателя, поэтому автору не мешает прочитать ее перед публикацией самому.
Опубликованные результаты входят в информационный поток, который «растекается» по ручейкам и доходит до каждого пользователя. На совести автора — достоверность научных результатов.














