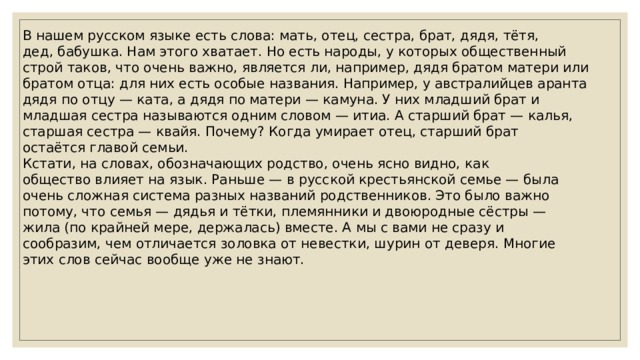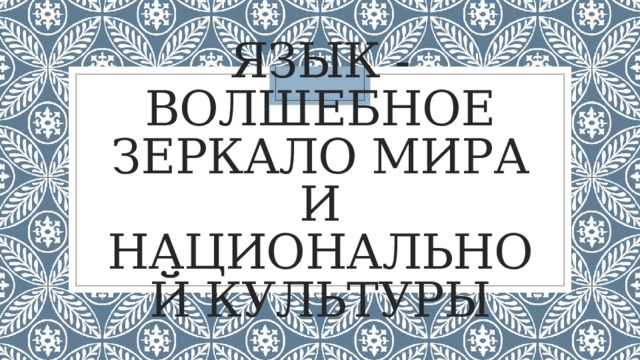
язык - волшебное зеркало мира и национальной культуры
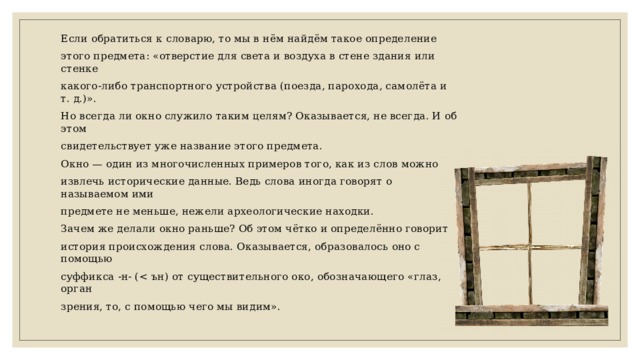
Если обратиться к словарю, то мы в нём найдём такое определение
этого предмета: «отверстие для света и воздуха в стене здания или стенке
какого-либо транспортного устройства (поезда, парохода, самолёта и т. д.)».
Но всегда ли окно служило таким целям? Оказывается, не всегда. И об этом
свидетельствует уже название этого предмета.
Окно — один из многочисленных примеров того, как из слов можно
извлечь исторические данные. Ведь слова иногда говорят о называемом ими
предмете не меньше, нежели археологические находки.
Зачем же делали окно раньше? Об этом чётко и определённо говорит
история происхождения слова. Оказывается, образовалось оно с помощью
суффикса -н- (
зрения, то, с помощью чего мы видим».

Следовательно, окно первоначально было не отверстием для света и
воздуха, а служило другим целям: оно делалось (кстати, как свидетельствуют
археологи, вначале из щели между брёвнами сруба) для того, чтобы можно
было наблюдать, видеть то, что происходит вне дома. Поэтому оно и
уподоблялось оку, то есть глазу.
Между прочим, позже для обозначения отверстия, посредством
которого можно видеть, наблюдать за происходящим, русские использовали
также и новое название органа зрения — слово глаз (ср. глазок — «отверстие
в дверях для наблюдения за кем- или чем-либо»).
Нечто подобное мы наблюдаем и в некоторых русских диалектах, где
слово зенко — «зрачок» (родственное поэтическому зеница, просторечному
зенки — «глаза») известно и в значении «окно, рама, оконный переплёт»; у
болгар, которые окно сейчас называют словом прозорец (от прозирам —
«вижу»); у поляков, которые обозначают иногда окно словом wyziernik (от
wyzierać — «высматривать, выглядывать»), и т. д.
![Диалог культур В русском языке журавль — это не только птица, но и особо- го рода колодезный рычаг для подъёма воды. Впрочем, в ряде местностей слово журавль употребляется также для обозначения крана, который используется для подъёма не только воды, но и других тяжестей. В литературном русском языке это приспособле- ние получило название по имени другой птицы: лебёдка (от слова лебедь). Столь же образное название крана мы встречаем и в дру- гих языках: англ. crane [крэйн], греч. geranos [гэранс], литовск. gérvė [г’́р’в’э:] — все эти слова означают и «журавль», и «кран, лебёдка». Совершенно ясно, что здесь в основе переносных наиме- нований лежит внешнее сходство предметов. (По Ю. Откупщикову)](https://fsd.multiurok.ru/html/2021/02/27/s_603a078ba38e2/img3.jpg)
Диалог культур
В русском языке журавль — это не только птица, но и особо-
го рода колодезный рычаг для подъёма воды. Впрочем, в ряде
местностей слово журавль употребляется также для обозначения
крана, который используется для подъёма не только воды, но и
других тяжестей. В литературном русском языке это приспособле-
ние получило название по имени другой птицы: лебёдка (от слова
лебедь). Столь же образное название крана мы встречаем и в дру-
гих языках: англ. crane [крэйн], греч. geranos [гэранс], литовск.
gérvė [г’́р’в’э:] — все эти слова означают и «журавль», и «кран,
лебёдка». Совершенно ясно, что здесь в основе переносных наиме-
нований лежит внешнее сходство предметов.
(По Ю. Откупщикову)
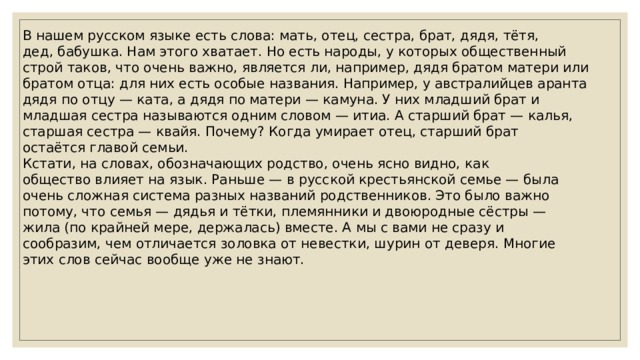
В нашем русском языке есть слова: мать, отец, сестра, брат, дядя, тётя,
дед, бабушка. Нам этого хватает. Но есть народы, у которых общественный
строй таков, что очень важно, является ли, например, дядя братом матери или
братом отца: для них есть особые названия. Например, у австралийцев аранта
дядя по отцу — ката, а дядя по матери — камуна. У них младший брат и
младшая сестра называются одним словом — итиа. А старший брат — калья,
старшая сестра — квайя. Почему? Когда умирает отец, старший брат
остаётся главой семьи.
Кстати, на словах, обозначающих родство, очень ясно видно, как
общество влияет на язык. Раньше — в русской крестьянской семье — была
очень сложная система разных названий родственников. Это было важно
потому, что семья — дядья и тётки, племянники и двоюродные сёстры —
жила (по крайней мере, держалась) вместе. А мы с вами не сразу и
сообразим, чем отличается золовка от невестки, шурин от деверя. Многие
этих слов сейчас вообще уже не знают.


Диалог культур
Голосам птиц нелегко подражать; чтобы их «записывать»,
учёные-орнитологи (специалисты по науке о птицах) предложили
множество сложных систем, но среди них ни одной удовлетвори-
тельной. Поэтому каждый человек, и тем более каждый народ, пе-
редаёт эти крики на свой собственный лад. Возьмите для примера
обыкновенную утку. Думается, мы, русские, правильно считаем,

что эта птица крякает, произнося совершенно ясно: «кря-кря».
Но, по мнению французов, утиное кряканье надо передавать ина-
че: «куэн-куэн». Румыны изображают крик утки опять-таки
по-своему: «мак-мак-мак». А датчане полагают, что их утки ясно
выговаривают: «раб-раб-раб». К сожалению, я ещё не успел
узнать, как крякают утки других народов; вероятно, пришлось бы
столкнуться со множеством самых разнообразных мнений.
Ещё любопытнее получается с петухом. Уж это ли не знаме-
нитый солист среди птиц? Кажется, кто может не понять, что он
ясно и громко возглашает своё несомненное, членораздельное
«ку-ка-ре-ку»? А вот подите же! Французам в его крике слышится
несколько иное сочетание звуков: «кокорико»; а петухи британ-
ских островов, по уверениям их хозяев-англичан, распевают не-
что на наш слух совсем уж неправдоподобное: «кок-э-дудль-ду».
(Л. Успенский)









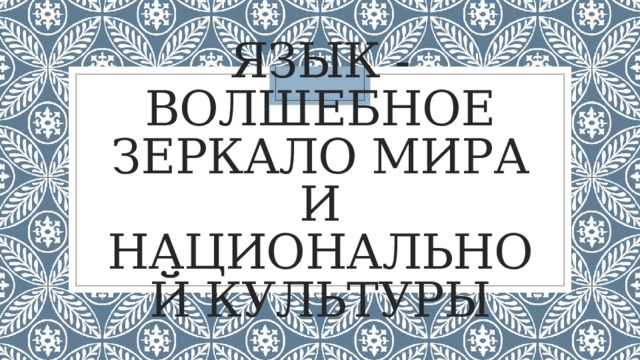
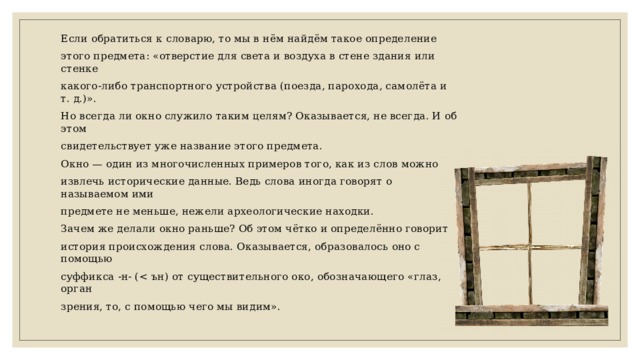

![Диалог культур В русском языке журавль — это не только птица, но и особо- го рода колодезный рычаг для подъёма воды. Впрочем, в ряде местностей слово журавль употребляется также для обозначения крана, который используется для подъёма не только воды, но и других тяжестей. В литературном русском языке это приспособле- ние получило название по имени другой птицы: лебёдка (от слова лебедь). Столь же образное название крана мы встречаем и в дру- гих языках: англ. crane [крэйн], греч. geranos [гэранс], литовск. gérvė [г’́р’в’э:] — все эти слова означают и «журавль», и «кран, лебёдка». Совершенно ясно, что здесь в основе переносных наиме- нований лежит внешнее сходство предметов. (По Ю. Откупщикову)](https://fsd.multiurok.ru/html/2021/02/27/s_603a078ba38e2/img3.jpg)